Панпотенциализм
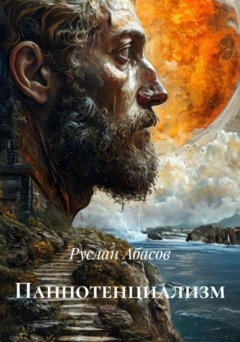
Введение
Ещё будучи подростком, я постоянно влезал в споры – с атеистами и верующими, с рабочими и безработными, с мужчинами и женщинами.
И каждый из них считал, будто я придерживаюсь мнения, зеркального их собственному.
Я пытался объяснить, что я не атеист и не верующий, а просто мне интересно вести диалог и узнавать взгляд человека на те или иные аспекты жизни.
Но давалось мне это с трудом: не раз приходилось просто закрывать тему, чтобы не развить конфликт.
Я метался от идеи к идее. То я был агностиком, то скептиком.
Изучал различные философские течения в поисках себя, но никак не мог найти что-то, что удовлетворяло бы мой «запрос» целиком.
Поэтому я и решил создать панпотенциализм.
Это моя первая книга, и, если вглядеться, видно, что она проходит довольно поверхностно по теме – я бы даже сказал, бегло.
Однако для меня это не только материализация моей идеи, но и её раскрытие.
Таким образом я изучаю её и раскрываю постепенно.
Если кто-то из вас, дорогие читатели, сталкивается с такой же проблемой,
то я надеюсь, что данная книга поможет вам взглянуть иначе на возможность понимания себя
или хотя бы немного подтолкнёт к нему.
От автора
Хочу выразить благодарность своей невесте Кате и собаке Шерлоку – за их любовь, терпение и поддержку.
А также поблагодарить ChatGPT за помощь в редактуре текста.
Панпотенциализм и его соседи в истории
Если оглянуться на философию прошлого, можно найти идеи, которые кажутся похожими на панпотенциализм. Это не удивительно – люди всегда возвращались к мысли о том, что мир шире, чем мы можем представить.
Когда-то существовал Принцип изобилия – убеждение, что Вселенная содержит все возможные формы бытия. У Платона и Джордано Бруно это было связано с устройством космоса. Панпотенциализм же начинается не с Вселенной, а с человека: «Я допускаю, что всё возможно».
Есть и фаллибилизм – идея, что любое знание может быть ошибочным. Близко, но ограниченно: он лишь предупреждает, что мы можем ошибаться. Панпотенциализм идёт дальше: «Если всё может быть неверным, значит, всё также может оказаться верным».
А потенциализм Дэвида Бирнбаума говорит о вечном стремлении мира к усложнению. У нас с ним общая вера в возможности, но панпотенциализм не обещает движения вперёд – он просто не закрывает двери.
Я говорю обо всём этом, чтобы было ясно: панпотенциализм не висит в воздухе. Он вырос на той же почве, что и старые идеи, но идёт своим путём. Он не строит стен, а оставляет проходы. Не объявляет догм, а даёт место любой мысли, пока она не доказана или опровергнута.
Панпотенциализм
(от греч. pan – всё, potentia – возможность)
Смысл: всё потенциально возможно; нет окончательной истины.
Приветствую тебя, дорогой читатель.
Когда-то первые люди сидели под палящим солнцем после долгожданной трапезы и смотрели в небо. Что они там видели? Божество. Волшебный шар, который греет их и даёт свет. Они не знали ничего о фотосинтезе, о витамине D или о раке кожи, который солнце приносит вместе с теплом и светом. Но всё же – они поклонялись ему.
И как далеко мы ушли от этого? Не слишком. Наша вера сегодня столь же слепа перед лицом незнания того, что нас создало. У нас есть теории. О, да. Их бесчисленное множество.
Теория Большого взрыва. Бог. Эксперимент пришельцев. Матрица.
Выбирай любую – теорий хватает на любой вкус.
Но что есть истина?
Можем ли мы укрыться в одной из этих теорий и забыться?
И ведь действительно, каждая теория, пусть и не самым надёжным образом, но подтверждает саму себя.
Одна – чуть больше, другая – чуть меньше.
Но можем ли мы быть уверены хоть в чём-то?
Звучит скептически? Так и есть. Мы не можем быть уверены ни в одной вере на сто процентов. Оттого она и называется вера – от слова верить.
Но я говорю не только о религиозных представлениях о происхождении мира.
Возьмём, например, атеизм. Кто-то скажет, что это не вера, а убеждение. Но разве вера и убеждение – не две стороны одной монеты?
Атеист, как и любой другой верующий человек, верит, что персонализированного Бога не существует. И это выглядит разумно: ведь на облаках мы не видим дяденьку, который сидит и наблюдает за нами.
Но насколько это утверждение верно?
Звучит абсурдно, особенно в наше время, когда вокруг нас – техника, машины, спутники.
Мы сами можем подняться в небо и убедиться, что там никого нет.
Верю ли я, что персонализированного Бога нет на небе? Да.
Но делает ли это меня атеистом? Нет.
Моё убеждение не строится вокруг этой мысли.
Я не ограничиваю себя лишь тем, что Бога на небе нет.
Верующие пошли дальше: теперь Бог – не человекоподобное существо на облаке, а нечто, что повсюду.
Кто-то говорит, что Он внутри нас. Кто-то – что рядом, но невидим.
Кто-то видит Его в словах и поступках других людей.
Как доказать, что это действительно так?
А как доказать, что это не так?
В духе Карла Ясперса [1883–1969], утверждавшего, что трансцендентное лежит за пределами эмпирического доказательства.
Мне нравится популярный атеистический, а точнее – скептический ответ: невозможно доказать то, чего нет.
Однако это не совсем верно.
Если бы мы с тобой находились в одной комнате, и я попросил бы тебя доказать, что в ней нет розового слона – смог бы ты это сделать?
Вероятно, да.
Потому что отсутствие доказательств уже само по себе является доказательством, хотя и не в том смысле, в каком его обычно понимают.
Вера – тяжёлое представление о мире, каким бы простым она ни казалась на первый взгляд.
И всё же она необходима некоторым людям.
Есть те, кого от зла удерживает именно вера, а не внутренняя этика.
Есть те, кому нужен смысл, чтобы жить.
Я люблю сравнивать веру с пазлом.
Представь, что вся твоя жизнь – это огромный пазл.
Раз за разом ты подбираешь кусочки, заполняя пустоты.
Что ты делаешь, когда видишь пустое гнездо?
Ищешь подходящий фрагмент – не только по форме, но и по рисунку.
Так и с верой: она заполняет пробелы, где не хватает ответов.
Самое коварное в нашем сознании то, что первое знание, которое мы получаем, держится крепче всего.
Возьмём тот же пазл:
ты не станешь после вставленного кусочка проверять, точно ли он подходит.
Подошло? Ну и хорошо.
Панпотенциализм – это не слепое допущение всего, а открытость к возможности.
Пазл, который мы собираем, огромен.
Это не маленькая картинка, а целое полотно, вмещающее в себя мир.
Нет ничего плохого в том, чтобы подставлять кусочки пазла в места, куда они подходят.
Плохо – приклеивать их туда намертво, считая, что другие кусочки точно не подойдут.
Как надменно утверждать, что неуверенная истина, которую ты знаешь, – единственная и точная!
Это не сила, а слабость. Это страх перед новым, прикрытый уверенностью.
Будучи детьми, мы открыты к знаниям, любопытны, восприимчивы.
Но вырастая, словно закрываемся изнутри.
Ведь на самом деле не существует взрослых – есть только повзрослевшие дети.
В каждом из нас живёт тот самый ребёнок, который хочет узнавать, открывать, удивляться.
Об этом говорит и психология, и философия
(в духе Жана Пиаже, описавшего стадии когнитивного развития человека).
Наше ежедневное сидение в социальных сетях – яркий тому пример.
Наш мозг постоянно ищет подпитку знаниями, но при этом ленив.
Простой пост в ленте одновременно удовлетворяет потребность в информации и не требует усилий.
Мы словно кормим ум сладким суррогатом – и уверяем себя, что насытились.
Как же важно просто подумать.
Каждый из нас способен усомниться, и многие действительно ставят под вопрос привычные истины.
Но на этом – всё.
Они останавливаются, будто оставляют пустое место для кусочка пазла, но так ничего туда и не подставляют.
Панпотенциализм допускает выбор наилучшей гипотезы в данный момент —
без притязания на её окончательность.
В духе Карла Поппера [1902–1994], утверждавшего, что любая теория – временная конструкция, подлежащая постоянной проверке и опровержению.
Он говорит:
«Я принимаю это как наиболее правдоподобное сейчас,
но не исключаю, что истина – иная».
Есть и другая каста людей.
Те, кто чувствует, что их пазл не сходится, но вместо того чтобы честно взглянуть на кусочки в руках, решают, будто им подбросили неверный набор.
Они берут другие детали, отрицают прежние – словно тех никогда и не было.
Вспомним людей, считающих Землю плоской.
В детстве они узнали, что Земля круглая, вставили этот кусок и жили спокойно.
Но однажды получили новый фрагмент – и он тоже подошёл.
И теперь они отвергают старое знание.
Тысячи доводов «за» и «против» перемешиваются, но мышление остаётся тем же:
они не ищут истину, а просто перешли от одной догмы к другой.
Нужно быть открытым.
Но псевдооткрытость – опасная ловушка.
Есть, пожалуй, три позиции, которые часто путают между собой: скептицизм, агностицизм и панпотенциализм.
Некоторые утверждают, что это одно и то же – просто разные слова. Но это не так.
У них действительно общий корень – неуверенность, однако ветви тянутся в разные стороны.
Скептик – тот, кто ставит под сомнение всё.
Он не доверяет ни одной версии, пока не найдёт достаточных оснований.
Это важная позиция: она защищает от наивности, от легковерного принятия любого утверждения.
Но если жить только скепсисом, можно легко застрять.
Скептик смотрит на кусочек пазла и говорит:
«Подходит? Хм. А вдруг нет? А вдруг это обман?»
И кладёт его обратно. И так снова и снова.
Это мышление, которое боится поверить – даже на время.
(В духе академического скептицизма Аркесилая [ок. 316–241 до н. э.],
утверждавшего, что истинное знание недостижимо.)
Агностик – другая история.
Он говорит:
«Я не знаю. И, скорее всего, знать невозможно».
Это честная позиция, но пассивная.
Он держит кусочек пазла в руке, но не решается поставить его на место.
Он признаёт, что пазл существует, но боится соприкоснуться с ним.
«А вдруг сама картина – иллюзия?»
Панпотенциализм же не боится действовать.
Он тоже не знает наверняка, но говорит:
«Этот кусочек – лучший из тех, что у меня есть.
Я поставлю его сюда. Не приклею, не вдавлю – просто положу.