Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии синодального периода
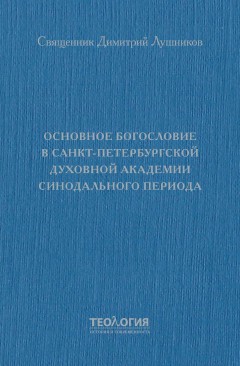
© Лушников Д. Ю., свящ., 2023
© Издательство Санкт-Петербургской Духовной Академии, 2023
Посвящается моему духовному наставнику протоиерею Георгию Полякову и моему учителю, профессору протоиерею Владимиру Мустафину
Предисловие автора
Основному богословию как специальному теологическому предмету в системе богословского образования по праву может быть отведено одно из центральных мест. Появившись в XIX в. в структуре теологии и куррикулуме теологического образования западных христианских конфессий, этот предмет, нацеленный на рационально-философское обоснование христианского вероучения, завоевал прочное место в учебных планах семинарий и академий России синодального периода, а также превратился в научное направление в русской богословской академической мысли.
Заметим сразу, что «основное» не означает наличие неких «второстепенных» «богословий», но определяет характер и место этой дисциплины в семье богословских наук – догматического, нравственного, литургического, пастырского богословия, патрологии, церковной истории и т. д. Прилагательное «основное» следует понимать буквально в смысле фундамента (что этимологически коррелирует с оригинальным немецким названием – Fundamental-theologie), на котором строится все богословское здание христианской Церкви.
Как дисциплина «основное богословие» призвано рассматривать базовые истины религиозной веры, без усвоения которых сложно переходить к изучению других богословских наук. Оно является тем богословским предметом, который имеет дело с «фундаментальным», т. е. с фундаментами для богословия и веры, с положениями, соответствующими проблематике разумного их обоснования. Соответственно, метафора фундамента как содержательно, так и методологически показывает область деятельности этой дисциплины. Основное богословие в буквальном смысле может считаться основополагающей учебной дисциплиной для изучающих теологию, и / или вводным разделом теологии, который в научном плане имеет характер пограничной, переходной дисциплины между философией и систематической теологией. Его важное посредническое положение решает миссионерско-апологетическую задачу гуманитарного, философского введения в теологию.
С точки зрения богословской науки вопрос идентичности предмета основного богословия в значительной степени восходит к Первому посланию апостола Петра (1 Пет 3:15), в каковом послании, по нашему мнению, определяется как направление, так и формальный настрой основного богословия. Апостол говорит о необходимости верующим христианам быть готовыми к апологии своей веры. При этом имеется в виду ответственность, отвечающая самому содержанию веры. Сказанное Первоверховным апостолом стало фундаментом всей дальнейшей апологии христианства и основным стержнем апологетической теологии, как части основного богословия. Совершенно очевидно, что христианство в своём, если так можно выразиться, содержательно-определенном состоянии несомненно должно быть способно к апологии. Поэтому, в первую очередь, именно в своем содержании бытие христианской Церкви должно быть готово к ответственности.
Следует отметить, что в исторической перспективе текст 1 Пет 3:15 содержит все необходимые и достаточные компоненты теологической ответственности христианской веры, указывая на апологию как на форму отчета, рассчитанную на оправдание себя. Особо подчеркнем, что апостол Петр отнюдь не апеллирует к т. н. толерантности, содержательно совершенно индифферентной. Первоверховный апостол призывает христиан именно к публичной ответственности и осознанному, разумному свидетельству о Христе, которое должно быть понимаемо не просто как своеобразный рефлекс защиты, но, прежде всего, как некая форма мысли, дающая возможность разумного оправдания дела, о котором идет речь.
В данном контексте необходимость существования такого теологического предмета как основное богословие, которое направлено на аргументированную передачу содержания христианского благовестия в иные нехристианские ценностные миры и пространства, обуславливается также и тем, что во внутренней жизни самой христианской Церкви достаточно часто встречается такое восприятие либо понимание веры, при котором верующему человеку нет нужды ни в понимании ее подлинного, глубокого содержания, ни, тем более, в ее рациональном обосновании. Именно потому научная дисциплина «основное богословие» в противовес данной позиции все свои усилия направляет на утверждение «гармоничного сосуществования» веры и разума, которые не исключают друг друга, более того, они – и все основное богословие в целом – подтверждают, что «человек верующий» суть «человек разумный».
Особо следует подчеркнуть значимость понятия ответственности применительно к усилиям основного богословия обосновать разумность христианской веры. Ответственность в данном контексте понимается как обязательство верующего человека по отношению к истине, поскольку каким-либо образом передать другим свою веру, ее основные пропозиции и т. д. возможно тогда и только тогда, когда сам верующий относится к истине, лежащей в основе его веры, добросовестно. Можно даже достаточно обоснованно утверждать, что в подлинной христианской вере само ее – веры – утверждение и какие-либо рациональные аргументы не только не исключают друг друга, но, напротив, вполне согласуются, прежде всего в дискурсе ответственности самого верующего.
Поэтому используемый в основном богословии метод философского исследования становится единственно оправданным для того, чтобы основополагающее качество христианского Откровения – его универсальность – могло быть убедительно обосновано. Во многом, хотя и не только, с помощью мышления, с использованием рационального дискурса Божественное Откровение оказывается доступным для инакомыслящих, когда христианское благовестие в целом становится предметом аргументативного объяснения и проявляется в качестве универсальной, безусловно относящейся по сути своего предмета ко всем людям истины[1]. Заметим, что указанный подход не имеет ничего общего с новоевропейским т. н. философским рационализмом, пытающимся все строить из самого себя. В рамках основного богословия мы говорим именно о сознательно понимаемом и глубоко уразумеваемом восприятии веры.
В силу этого основное богословие, несмотря на свою близость к философии – с ее необходимыми задачами фундирования – и философским формам мышления, не является каким-то отвлеченным философским теоретизированием, но мышлением, тесно связанным с жизненной функцией самой христианской веры, которая, в свою очередь, становится и субъектом, и объектом этой науки. Основное богословие скорее предстает как философско-теологическая дисциплина или, по выражению Д. В. Шмонина, как «пропедевтика теологии через философию». При этом «важная роль основного богословия в процессе обучения, – отмечает Д. В. Шмонин, – состоит в использовании ресурса и демонстративных средств философско-гуманитарного и естественнонаучного знания для рационализации принципов христианской веры. Эту дисциплину можно считать теологической постольку, поскольку она разработана теологами и излагается с теологических позиций. Она представляет собой комплекс философских, лингвистических и историко-критических приемов, иллюстрирующих основные истины веры в апологетико-образовательных целях»[2]. В последнем смысле, одной из главных функций основного богословия наряду с защитительной является и сообщение (транспортирование) потенциала познания и истины христианского благовестия в нехристианские сферы познания в той степени, которая необходима для приобретения там когнитивной убедительности.
Трагический перерыв в развитии основного богословия в России XX в. делает особенно актуальным обращение к дореволюционному опыту преподавания данной дисциплины. Вполне очевидно, что дальнейшее полноценное развитие столь важного для всей отечественной богословской науки предмета в настоящее время будет совершенно немыслимым без критического анализа процесса становления и развития его в прошлом.
Однако, несмотря на то что в конце прошедшего и начале нынешнего столетия немалое число диссертаций и научных статей были посвящены изучению наследия отдельных представителей отечественного основного богословия, все же полномасштабного и всеобъемлющего специального исследования истории данной богословской дисциплины в русской богословской науке до настоящего времени еще не предпринималось[3].
Книга, которую читатель держит в своих руках, представляет собой один из первых в современном отечественном богословии опытов системного историко-аналитического исследования преподавания основного богословия в России синодального периода. На примере Санкт-Петербургской Духовной Академии – столичного и, в силу этого, ведущего духовного учебного заведения – автором предпринята попытка реконструкции исторического процесса институализации данного богословского предмета, а также выявления логики его развития как академической дисциплины и раздела теологического знания.
Особенное внимание в монографии – в основу которой положено диссертационное исследование автора[4], а также ряд его специальных статей, посвященных рассмотрению фундаментально-теологического наследия отдельных представителей духовно-академического богословия[5] – уделено рассмотрению вопросов методологии преподавания основного богословия исследуемого периода, анализу содержания курсов лекций по данной дисциплине, с акцентом на один из самых главных тематических разделов, входящих в ее предметную структуру – доказательства существования Бога.
Отметим, что источниковедческой базой исследования стали опубликованные и рукописные курсы лекций, сохранившиеся в библиотечных и архивных фондах Центрального государственного исторического архива, Рукописного отдела Российской национальной библиотеки, Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки, Архива Санкт-Петербургской Духовной Академии, в частности – «Курс лекций по основному богословию» прот. Нила Малахова, «Введение в круг богословских наук» протопр. Евгения Аквилонова, журналы и отчеты Санкт-Петербургской Духовной Академии.
В заключение хотелось бы выразить сердечную благодарность тем, кто так или иначе содействовал появлению этой книги. Уважаемому коллеге и научному руководителю Дмитрию Викторовичу Шмонину, вдохновившему автора на написание данного труда. Рецензентам – игумену Мефодию (Зинковскому) и Владимиру Кирилловичу Шохину за ценные замечания, позволившие значительно повысить качество текста. Дмитрию Андреевичу Карпуку и Никите Юрьевичу Дубову за предоставление важных исторических сведений и архивных материалов. Священнику Александру Ямкову, клирику храма Сретения Господня на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга, а также всему коллективу Издательства СПбДА за помощь и поддержку в издании монографии.
Глава I. Общий исторический обзор преподавания основного богословия в России синодального периода
1.1. Основное богословие в Духовных академиях
Выполнение исторической реконструкции преподавания духовно-академического основного богословия как самостоятельной теологической дисциплины оказалось делом достаточно непростым, поскольку становление и развитие данного предмета сопровождалось постоянной сменой его названий, изменениями в его предметной структуре и ротацией самих преподавателей.
Такое неустойчивое положение основного богословия в системе богословских дисциплин, по мнению В. К. Шохина, было обусловлено двумя причинами. Во-первых, введение этой богословской дисциплины в России происходило синхронно с ее институциализацией в самой Европе, где этот процесс завершился лишь в 1856 г., вместе с открытием первой кафедры основного богословия в Пражском университете Иоганном Непомухом Эрлихом[6]. Во-вторых, что более важно, присущая основному богословию «междисциплинарность» мешала пониманию того, что речь идет об отдельной богословской программе[7]. Впервые под своим собственным именем основное богословие институализируется в российском духовном образовании начиная с 1869 г., согласно вновь принятому Уставу духовных академий. Но само появление данной науки, пусть и под другими наименованиями, в предметных куррикулумах Духовных академий происходит гораздо раньше.
1.1.1. Два направления становления и развития основного богословия
Начало истории становления основного богословия в Духовных школах Русской Православной Церкви восходит к 20-м гг. XIX столетия. В то время преподавание богословских наук в Духовных академиях России регламентировалось не только Уставом 1814 г., в котором, по словам Н. Ю. Суховой, достаточно неопределенно говорилось о том, «что должно включать в себя академическое богословие и как следует его преподавать»[8], но и, во многом, разработанной свт. Филаретом (Дроздовым) концепцией, изложенной им в программном сочинении «Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах»[9]. Изданное в 1814 г. – уже после утверждения нового Устава – «Обозрение» явилось, по сути, первым опытом создания системы православного богословия, где излагались структура богословия и последовательность изучения его частей, предлагались методы, практические указания и вспомогательная литература для изучения каждого вида богословия[10].
В целом, созданная свт. Филаретом «формальная энциклопедия» богословия позволяет в определенной степени считать его одним из основателей отечественного основного богословия, поскольку согласно современной предметной структуре данной дисциплины, вопрос о каноне богословских предметов в рамках осуществления общетеологической задачи, т. е. о том, как научно-теоретически и научно-практически следует правильно организовать богословскую деятельность, относится к первому подразделу четвертого раздела основного богословия – «De locis theologicis» или «Вера и разум»[11].
Основное богословие у свт. Филарета не было выделено в качестве самостоятельной богословской науки. Это объясняется тем, что сам процесс его формирования как специальной научной дисциплины, занимающейся основами веры и основополаганием теологии, в то время еще не был завершен[12]. Другими словами, сама нерешенность вопроса идентичности основного богословия, т. е. специального своеобразия его как научно-богословской дисциплины, в конечном итоге определила его двоякий статус в отечественном богословском куррикулуме.
В тогдашнем академическом образовании России основное богословие было представлено под видом двух отдельных дисциплин: естественное богословие (Theologia naturalis) и общее богословие (Theologia generalis) или введение в богословие (Prolegomena). Первое, содержанием своим соответствующее первому разделу современного основного богословия «Demonstratio religiosa»[13], было отнесено к наукам философским[14] и преподавалось в первые два года обучения в рамках курса метафизики, т. е. до начала изучения собственно богословских наук[15]. Второе, как правило, предшествовало преподаванию догматического богословия, составляя предварительную его часть[16].
Указанное разделение основного богословия на две дисциплины во многом определило и направления его дальнейшего развития в отечественном богословском пространстве. При этом, процесс формирования его как специального теологического предмета, занимающегося рациональным обоснованием основ христианской веры и основополаганием теологии, для высших Духовных школ синодального периода не был одинаковым.
В Санкт-Петербургской и Киевской Духовных Академиях основное богословие развивалось по линии богословия общего или введения в богословие, а в Московской – по линии богословия естественного. В четвертой Духовной академии синодального периода – Казанской, которая была открыта значительно позже первых трех[17], в 1842 г., основное богословие во многом было ориентировано на решение апологетических задач в рамках полемического диалога с иноверием[18], но в целом развивалось по Петербургско-Киевской линии.
Отметим, что указанные направления, при тождестве метода исследования, имели существенные различия в своих тематических наполнениях.
Так, общее богословие – или, как его тогда называли, «общая богословия»[19] – выстраивалось на основании трехчастного тематического канона христианской апологетики, предложенного Пьером Шарроном (1541–1603). Ставшая «классической» схема последнего состояла из трех т. н. «demonstrationes»[20]: «demonstratio religiosa», «demonstratio christiana», «demonstratio catholica», вполне соответствовавших необходимой последовательности шагов, требовавшихся для разумного обоснования христианской веры. В конечном итоге это привело к формированию трех разделов или трактатов основного богословия: «О религии», «Об Откровении» и «О Церкви». К началу XIX в. окончательно тематически сформировался также четвертый, традиционный для современного основного богословия раздел – «de locis theologicis», предваряющий первые три и посвященный рассмотрению вопросов общетеологического характера: научной теории богословия, учения о принципах и познании, учения об источниках богословского познания, классификации и методологии богословских наук и т. д.[21]
Одним из «отцов-основателей» отечественного основного богословия, положившим начало развитию данного его направления, по праву может быть признан свт. Иннокентий (Борисов; 1800–1857), который, начав преподавание общего богословия в Санкт-Петербургской Духовной Академии в 1824 г., затем в 1831 г., став ректором Киевской Духовной Академии, впервые в России ввел данный предмет в куррикулум высших Духовных школ в качестве отдельной специальной дисциплины под именем «религиозистика»[22].
Свт. Иннокентий, преподавая основное богословие как самостоятельную дисциплину, сохранил в своей программе трехчастное деление общего богословия, закрепляя таким образом данный тематический канон в отечественном богословском пространстве.
Добавим, что заложенное свт. Иннокентием направление основного богословия в конечном итоге стало приоритетным в российском духовно-академическом образовании. Митр. Макарию (Булгакову), ученику архиеп. Димитрия (Муретова) – который, в свою очередь, был учеником свт. Иннокентия, – принадлежит честь создания первой в России системы православного богословия, в которой основное богословие было представлено именно как общее богословие или введение в богословские дисциплины.
В Московской Духовной Академии преподавание основного богословия – как богословия естественного – достигло невиданного для отечественного богословия синодального периода расцвета.
О предметной структуре естественного богословия того времени, входящего в состав курсов метафизики, можно судить по наиболее популярной и пользовавшейся исключительным авторитетом среди учебников по философии в русских духовных академиях и семинариях того времени, неоднократно переизданной и побившей, по словам А. И. Абрамова, все рекорды философских публикаций «Метафизике» Ф. Хр. Баумейстера (1698–1785)[23]. Труд Баумейстера состоит из четырех частей: 1) онтологии; 2) космологии или науки о мире вообще; 3) психологии или науки о духах; и 4) богословии естественной (курсив мой. – свящ. Д. Л.). Последняя представлена следующими главами: О бытии Бога; О сущности и свойствах Бога вообще; О разуме Божием; О воле Божеской; О делах Божиих. Как видно, основное внимание в «Метафизике» уделено доктрине божественных атрибутов (три из шести глав посвящены разработке данного учения): о свойствах Бога вообще – метафизическим атрибутам, о разуме и воле Божиих – теистическим. Сама же доктрина помещена между доказательствами существования Бога и учением о Его Промысле[24].
Основателем рассматриваемого направления основного богословия стал прот. Федор Голубинский (1797–1854), который вместе со своим талантливейшим учеником В. Д. Кудрявцевым-Платоновым (1828–1891) сформировал в Москве собственную рационально-теологическую школу, названную проф. Н. Н. Глубоковским «школой верующего разума»[25]. Преподавая данную дисциплину в тесной связи с изучением философии и исследованием метафизических вопросов[26], эти два, можно сказать, философских теолога[27] смогли со всесторонней основательностью и рациональной законченностью развить целостную синкретическую систему христианских теистических воззрений, которая наиболее подходила и соответствовала целям и задачам христианской апологетики[28].
Безусловно, можно поставить под сомнение сам факт наличия такой линии развития основного богословия, поскольку его основатели – и, фактически, единственные представители[29] – были прежде всего преподавателями философских дисциплин[30] и формально богословие в Духовных школах не преподавали. Более того, прот. Василий Зеньковский (1881–1962) в своем фундаментальном труде по истории русской философии относит данных авторов к плеяде духовно-академических философов, занявших особое место в исторической диалектике русской философской мысли[31].
Однако в защиту выдвинутой гипотезы можно привести следующие соображения:
1) В историко-аналитических исследованиях, посвященных русской богословской науке, прот. Федор Голубинский и В. Д. Кудрявцев-Платонов выступают не только как представители духовно-академической философии, но и как репрезентанты апологетического богословия[32]. Так, проф. Н. Н. Глубоковский в своем важнейшем для истории отечественного богословия труде «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» хотя и называет прот. Федора и Кудрявцева-Платонова христианскими философами, тем не менее рассматривает их вместе Н. П. Рождественским, С. С. Глаголевым и другими корифеями духовно-академического основного богословия в разделе «Апологетика», обосновывая это тем, что представленная ими христианская философия «по преимуществу есть и рационально-христианская апологетика»[33]. Также прот. Тимофей Буткевич (1854–1925), профессор основного богословия Харьковского университета, в специальной монографии по истории апологетики относит данных авторов к числу оригинальных русских апологетов[34], отмечая их значительный вклад, сделанный «на почве истинно христианского миросозерцания для системы Основного или Апологического богословия»[35].
2) В те годы метафизика как философская дисциплина своим неотъемлемым разделом имела естественное богословие, которое, в свою очередь, методологически полностью соответствовало основному богословию, а содержательно вполне, с большим запасом (за исключением доктрины божественных атрибутов)[36] помещалось в его предметной структуре. И если прот. Федор Голубинский в своих «Лекциях по умозрительному богословию» – которое он также называет «Theologia rationalis, sev naturalis» – сохраняет три основных раздела традиционной «естественной богословии»: о бытии Божием, о свойствах Божиих и о делах Божиих[37], то в метафизической системе В. Д. Кудрявцева-Платонова[38] материал традиционных разделов метафизики существенно восполнен присущей исключительно основному богословию тематикой. Так, в раздел «Начальные основания гносеологии» добавлены главы, посвященные разбору атеистических теорий о происхождении религии, а также о границах естественного богопознания и необходимости сверхъестественного откровения; в раздел «Начальные основания космологии» помещены доказательства творения мира Богом и разбор главных возражений против этой идеи; в разделе «Начальные основания психологии» существенное внимание уделено доказательствам бессмертия души и связи нравственности с религией, т. е. объективному обоснованию начал и целей нравственной деятельности.
3) Протодиакон С. А. Голубцов (1932–2006), один из самых значимых исследователей истории Московской Духовной Академии, создавший подробный перечень профессорско-преподавательского состава дореволюционной академии, из преподавателей введения в богословие или общего богословия упоминает только иером. Серафима (Азбукина), читавшего лекции по данному предмету в 1920 г.[39] Соответственно, трудно вообразить, что в одной из ведущих Духовных школ России основное богословие не было представлено в образовательном процессе в течении полувека. Вероятно, именно высокий уровень преподавания его в рамках курса метафизики может стать объяснением того, что первый официальный преподаватель основного богословия появляется в Московской Духовной Академии только после введения Устава 1869 г., когда наличие кафедры основного богословия в Духовной школе стало обязательным[40].
В заключение отметим, что заложенное свт. Иннокентием направление основного богословия в конечном итоге стало приоритетным в российском духовно-академическом образовании. Именно как общее богословие или введение в богословие представил данную дисциплину митр. Макарий (Булгаков; 1816–1882)[41], создавший первую отечественную систему православного богословия[42], которая легла в основу образовательного Устава Русской Православной Церкви 1869 г., называемого иногда «Макарьевским». Как уже отмечалось, в рамках данного Устава основное богословие получило свою окончательную легитимацию в отечественном богословском пространстве.
1.1.2. Историческая реконструкция преподавания основного богословия в Духовных академиях
Первый опыт преподавания основного богословия в Санкт-Петербургской духовной академии, как уже было отмечено, связан с именем свт. Иннокентия (Борисова). После успешного окончания Киевской духовной академии в 1823 г., святитель в 1824 г. был определен бакалавром богословских наук столичной Академии для преподавания основного богословия (тогда еще как общего) и богословия обличительного (сравнительного)[43]. Именно к Петербургскому периоду научно-преподавательской деятельности свт. Иннокентия относятся первые его публикации по основному богословию[44]. Сами лекции свт. Иннокентия по данному предмету в то время еще не были опубликованы; лекции эти отличались глубокой продуманностью и излагались в строгой систематической связи, что позволяло студентам достаточно точно воспроизводить их в записи[45]. Составленные студентами краткие записки по преподаваемым свт. Иннокентием дисциплинам получили широкое распространение почти во всех семинариях, где впоследствии профессорствовали его ученики[46].
После назначения свт. Иннокентия ректором Киевской Духовной Академии в 1830 г., следующие почти полтора десятилетия, по свидетельству И. А. Чистовича, основное богословие преподавалось как введение в догматику, не имея статуса отдельной дисциплины[47]. Лишь только после приезда в столичную академию выпускника Киевской Духовной Академии иером. Макария (Булгакова), будущего митрополита, ставшего в 1843 г. профессором и инспектором Санкт-Петербургской Духовной Академии, в последней начинается новый этап развития основного богословия.
В качестве профессора догматического богословия митр. Макарий преподавал, собственно, две богословские дисциплины: 1) основное богословие, иначе называвшееся им «энциклопедией православного богословия»[48], и 2) догматическое богословие. Но главным своим научным трудом, подготовленным и изданным в 1847 г., сам митр. Макарий считал «Введение в православное богословие», где он, кроме трех традиционных разделов основного богословия, впервые в отечественной богословской науке представил обстоятельно разработанную систему богословских наук, которая заняла третью часть общего объема всего произведения. Действительно, «Введение» митр. Макария стало одним из лучших его сочинений и, будучи к 1913 г. семь раз переиздано – также переведено на французский язык и издано в Париже в 1857 г., – оказало заметное влияние на развитие основного богословия в России[49].
В 1852 г. иером. Никанор (Бровкович) (1826–1890), только что закончивший Духовную академию в Петербурге, был поставлен преподавателем «Введения в круг богословских наук» в качестве помощника еп. Макария, ввиду исключительной занятости последнего на должности ректора. Однако за излишнюю самостоятельность он в 1854 г. был отстранен от чтения лекций по этому предмету. Иером. Никанор позволил себе знакомить студентов с критикой доказательств бытия Божия И. Кантом, чем вызвал негодование ректора еп. Макария, обвинившего молодого богослова в пренебрежении к его авторитету[50]. Свою работу в области основного богословия уже архим. Никанор смог возобновить лишь спустя пятнадцать лет, после своего назначения в 1869 г. ректором Казанской Духовной Академии.
Значительный вклад в развитие отечественного основного богословия был внесен еп. Хрисанфом (Ретивцевым) (1832–1883), выпускником Московской Духовной Академии (1856 г.). Свое преподавание основного богословия он начинает в 1858 г. в Казанской Духовной Академии. В 1865 г., уже будучи экстраординарным профессором, он переводится в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где сначала преподает нравственное богословие и догматику, а с 1867 г. возобновляет свое преподавание основного богословия, до 1869 г., вплоть до назначения на должность ректора Санкт-Петербургской семинарии[51]. К сожалению, текст курса лекций еп. Хрисанфа до нас не дошел. Однако, будучи ректором и председателем Учебного комитета Святейшего Правительствующего Синода (1872–1874), он составил программу по основному богословию для семинарий, которой подробно следовал, по его же признанию, еп. Августин (Гуляницкий), автор первого нормативного курса основного богословия[52]. В этом стандартном курсе для семинарий были четко расписаны все формальные параметры дисциплины. Еп. Августин впервые попытался разобраться и с многочисленными синонимичными названиями дисциплины, что имело важное методологическое значение[53].
Однако настоящим прорывом в становлении основного богословия в России стал монументальный курс проф. Николая Павловича Рождественского, читанный им студентам Санкт-Петербургской Духовной Академии[54]. Заменив в 1969 г. на кафедре основного богословия еп. Хрисанфа и опираясь на разработанную последним схему, прекрасно изучив соответствующую предмету современную западную литературу, Рождественский «смог серьезно тематизировать методологические вопросы, и подробно систематизировать входящие в данную дисциплину предметные составляющие»[55]. Помимо детального введения в «Историю христианской апологетики, или основного богословия», курс Рождественского содержал две части – о религии как таковой и о христианстве.
После скоропостижной кончины Н. П. Рождественского в 1883 г. на кафедру основного богословия в 1884 г. был утвержден иером. Михаил (Грибановский). Преподавать он начал уже «Введение в круг богословских наук», т. к. согласно новому Уставу 1884 г., основному богословию, по непонятным причинам, было возвращено прежнее название[56]. Результатом преподавательской деятельности иером. Михаила стали изданные уже после его кончины «Лекции по введению в круг богословских наук», в которых он кардинально изменил структуру и методологию предмета. Определяя задачу преподаваемой им дисциплины как «систематическое изложение оснований, по которым христианская религия, понимаемая в духе православной веры, есть религия истинная»[57], он видел отличие ее от традиционного основного богословия в том, что последнее обосновывает божественность христианства, основываясь лишь на внешних признаках. Поэтому для выполнения поставленной им задачи архим. Михаил считал важным исследование внутреннего опыта христианской веры[58]. Таким образом, у будущего еп. Михаила сформировался новый для отечественного основного богословия принцип и метод, который впоследствии на Западе получил название «имманентный» или «интринзецистский».
С 1890 по 1910 гг. кафедру «Введение в круг богословских наук» Санкт-Петербургской Духовной Академии занимал прот. Евгений Аквилонов, у которого «православная христианская апологетика приобретает вид научно-богословского самооправдания христианства»[59]. Сам прот. Евгений расценивал преподаваемую им дисциплину как «апологетику»[60] и видел ее главную задачу в возможно более полном и научно мотивированном примирении в христианстве разума с верой, или науки с религией[61]. По мнению современников, в главном его апологетическом сочинении[62] наиболее удачными и заслуживающими внимания можно считать главы VII – «О сущности христианства», и VIII – посвященную гносеологии[63]. Одновременно с уходом прот. Евгения Аквилонова из Академии, согласно Уставу 1910 г. кафедра была вновь переименована и получила свое прежнее название «Основное богословие».
С 1910 г. и до закрытия Петроградской Духовной Академии в 1918 г. основное богословие преподавалось Нилом Михайловичем Малаховым (1884–1934)[64]. Его курс лекций[65], по сути, ограничивался только рассмотрением вопросов философии религии, точнее, ее морфологии, и не затрагивал никаких других традиционных для основного богословия тем. При этом, предложенная им эволюционная концепция происхождения религии, согласно которой христианство есть наивысшая форма религиозности, хотя и отличалась от атеистической теории Тейлора, все же содержала в себе внутренние противоречия и, в целом, противоречила библейскому взгляду на происхождение религии[66].
В Киевской духовной академии, после ее открытия в 1819 г., основное богословие преподавалось первым ее ректором архим. Моисеем (Богдановым) как «Общее введение в богословие», и представляло собой прелиминарное введение в догматику. Свои лекции по догматике он читал на латыни, полный курс догматики преподавал в 1821–1823 гг. Его курс состоял из 2 частей: введения в богословие и собственно догматического богословия. В основу лекций архим. Моисей положил новейшее на тот момент изложение католической богословской системы бенедиктинца Мариана Добмайера (1753–1805). Отметим, что некоторые части его лекций были полностью заимствованы у Добмайера. Введение в богословие (Introductio in universam Theologium Christiana) вслед за Добмайером архим. Моисей разделил на пять основных частей: 1) о религии в целом (De religione in genere); 2) о естественной религии (De religione naturali); 3) о богооткровенной религии (De religionis revelatae); 4) о христианской религии (De religionis christiana) и 5) о богословии (De theologia)[67].
С 1831 г. в Киеве основное богословие – впервые в Духовных академиях России – стало преподаваться как отдельная теологическая дисциплина архим. Иннокентием (Борисовым), под названием «Религиозистика». Как отмечают, лекции архим. Иннокентия по своей структуре были чрезвычайно близки к программе архим. Моисея, однако, будучи существенно переработанными по содержанию[68], состояли уже из трех частей: 1) prolegomena in theologiam universam (общее введение в богословие); 2) doctrina de religione ingenere (учение о религии вообще); 3) doctrina de religiona christiana ingenere (учение о христианской религии)[69].
После архим. Иннокентия, с 1837 по 1850 гг., основное богословие в Киевской Духовной Академии преподавал его ученик архим. Димитрий (Муретов), который впервые назвал свой курс «Апологетика христианства». Следуя по стопам своего учителя, он сохранил трехчастное деление предмета. В первой части, буквально повторяя программу архим. Иннокентия, сообщаются предварительные сведения о богословии как таковом: о предмете, внешней форме, методе и частях системы богословского знания, а также предлагается краткий курс истории богословия. В следующем далее «Вступлении» архим. Димитрий излагает предварительные сведения о «науке „основного богословия“»[70], его предмете, назначении и отношении к другим богословским наукам, а также дает краткий очерк истории апологетики. Таким образом, у архим. Димитрия мы видим первое использование в отечественном богословском пространстве термина «основное богословие» для обозначения уже сформировавшейся специальной теологической дисциплины.
В дальнейшем в Киевской Духовной Академии основное богословие преподавали: с 1861 по 1869 гг. Петр Лошкарев[71], с 1870 по 1877 гг. свящ. Григорий Васильевич Малеванский[72] (младший брат известного догматиста еп. Сильвестра (Малеванского)), далее кафедру занимал Федор Степанович Орнатский[73], и с 1902 г. вплоть до закрытия Академии – Сергей Александрович Песоцкий[74].
В Казанской Духовной Академии основное богословие было введено в программу с момента ее открытия в 1842 г., и преподавалось вместе с обличительным богословием. Первым преподавателем этого курса был назначен И. М. Добротворский. В 1858 г. его заменил архим. Хрисанф (Ретивцев), который оставался в этой должности вплоть до своего перевода в Санкт-Петербург в 1865 г.[75] (Таким образом, его деятельность как преподавателя основного богословия относится к истории обеих Академий.) Как уже отмечалось, текст лекций архим. Хрисанфа до нас не дошел, но, по сведениям П. В. Знаменского, его первая часть включала учения о бытии Божьем и бессмертии души, а также о происхождении религии и Божественном Откровении, вторая – историю древних языческих религий, религии богооткровенной, ислама и иудаизма. При этом главный упор еп. Хрисанфом делался на разработку второго раздела основного богословия – «demonstratio christiana» или «Откровение», посвященного обоснованию истинности христианского Откровения. В итоге вл. Хрисанфом был разработан новый для отечественного основного богословия историко-философский метод фундаментально-теологической работы, когда посредством историко-философского синтеза той или иной религиозной системы автор, обнаруживая исторические слабости естественных религий, через сопоставление их с библейским вероучением выявлял богооткровенный характер последнего. Приемником архим. Хрисанфа (Ретивцева) на кафедре, вплоть до своего перевода в 1869 г. в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, был Н. П. Рождественский.
В период после введения нового Устава в 1869 г. и до закрытия Академии в 1921 г. известны несколько преподавателей основного богословия в Казани. Первый из них, с 1869 по 1871 гг., – ректор академии архим. Никанор (Бровкович), вернувшийся, как уже отмечалось выше, после пятнадцатилетнего перерыва к преподаванию данной дисциплины. Особенный интерес архим. Никанора лежал в области положительного основания христианской религии. Точнее, он возвращался к самым первоначальным темам своих академических занятий в Петербургской академии – к разбору отрицательной критики доказательств бытия Божия[76]. Результатом его работы стала вышедшая в 1871 г. достаточно пространная статья «Можно ли позитивным философским методом доказывать бытие чего-либо сверхчувственного – Бога, духовной бессмертной души и т. п.?»[77] Эта статья послужила началом его будущих специальных исследований, посвященных вопросам гносеологии в аспекте проблематики основного богословия. Данная научно-богословская работа нашла свое выражение в трехтомном полемическом сочинении «Позитивная философия и сверхчувственное познание»[78], посвященном обоснованию первых или основных положений богословской науки через критический разбор и оценку различных философских и естественно-научных систем.
Далее основное богословие в Казанской Духовной Академии преподавалось: с 1871 по 1889 гг. – ректором академии прот. Александром Владимирским (1821–1906); с 1887 по 1902 гг. сначала под руководством прот. Александра Владимирского, а затем самостоятельно – Александром Федоровичем Гусевым (1845–1904); с 1902 г. и вплоть до закрытия Академии в 1921 г. – Константином Григорьевичем Григорьевым (1875–1925)[79].
В Московской Духовной Академии, как уже отмечалось, становление и развитие основного богословия проходило отличным от других Академий образом, результатом чего стало сформирование собственной «метафизической» школы основного богословия. Так, ее основатель прот. Федор Голубинский (1797–1854) читал свои лекции по «Умозрительному богословию»[80], которые по тематике соответствовали основному богословию, в рамках курса метафизики. Однако, будучи «не просто христианским философом, но именно и специальным философом христианства»[81], он сумел представить христианское учение как частную метафизическую систему[82]. Его выдающийся ученик и преемник Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828–1891) «со всесторонней основательностью и рациональной законченностью развивая целостную систему христиански-теистических воззрений»[83], продолжил преподавание основного богословия в рамках курса метафизики, в том числе и после введения в 1869 г. нового Устава Духовных академий, предполагавшего создание кафедры основного богословия. Этот особый метафизический подход Московской школы в изучении основного богословия отчетливо обнаруживается в книге В. Д. Кудрявцева-Платонова «Начальные основания философии»[84], выдержавшей к 1915 г. девять изданий. Книга состоит из четырех разделов и, кроме «начальных оснований естественного богословия», напрямую относящихся к основному богословию, содержит и такие основания «гносеологии», «космологии» и «рациональной психологии и нравственной философии», в которых критически обосновываются базовые принципы религиозного познания, существования мира, души и нравственной деятельности человека. Поэтому вовсе неслучайным стало то, что позднее издатели обширных сочинений В. Д. Кудрявцева-Платонова представили его произведения в ключе тематического плана основного богословия[85], а сам он по праву считается одним из корифеев отечественного основного богословия.
С введением нового Устава 1869 г., помимо вышеупомянутого курса метафизики, основное богословие стало преподаваться и как самостоятельная дисциплина. Ее начал читать прот. Иоанн Дмитриевич Петропавловский (1844–1907). Его курс лекций, который он вел до 1878 г., преимущественно был посвящен оправданию христианства положительным, строго научным путем, через раскрытие его божественного происхождения как религии абсолютно истинной. Так же критически разбирались некоторые философские концепции, прямо или косвенно отрицающие абсолютное достоинство христианства[86]. Лекции прот. Иоанна Петропавловского были изданы в виде сборника «В защиту христианской веры против неверия»[87]. Наиболее полезными прот. П. Светлов считал статьи о материализме, об Откровении и о Воскресении Иисуса Христа[88].
Следующее десятилетие характерно постоянной сменой преподавателей. Недолгое время, с февраля 1879 по 1881 гг., лекции по основному богословию читал Роман Ильич Левитский (1857–1886)[89], успев опубликовать несколько интересных статей в журнале «Православное обозрение»[90].
Ему на смену в 1883 г. пришел Иван Петрович Яхонтов (1855–1886), курс лекций которого состоял из шести разделов: 1) введение в науку, 2) о сущности религии, 3) о происхождении религии и о ее первоначальном виде, 4) о язычестве, его происхождении и главных формах, 5) о религиях культурных языческих народов, 6) об Откровении Божественном вообще[91]. Скоропостижная смерть от врожденного порока сердца в 1886 г. прервала его преподавательскую деятельность.
С 1886 г., на протяжении двух лет, до своего назначения ректором Киевской Духовной семинарии, кафедру «Введение в круг богословских наук» занимал архим. Борис (Плотников) (1855–1901). Его лекции были изданы в 1890 г.[92]
С 1888 г. и до назначения в 1891 г. ректором Вифанской семинарии «Введение» преподавал архим. Антоний (Каржавин) (1858–1914)[93].
Наконец, только в 1893 г. ситуация с преподавателями основного богословия в Московской Духовной Академии стабилизировалась. Его начал преподавать будущий новомученик Сергей Сергеевич Глаголев (1865–1937), сначала как «Введение в круг богословских наук», а с 1910 г. (согласно новому Уставу) и до закрытия Академии в 1919 г. – как собственно «Основное богословие»[94]. Без сомнения, С. С. Глаголев, обладавший глубоким и незаурядным умом, был одним из самых ярких представителей отечественного основного богословия, завершившим, по сути, его развитие в России в XX столетии. Несмотря на то, что он был автором множества книг и статей, посвященных тематике основного богословия, его систематическими трудами по данному предмету можно считать только «Пособие к изучению основного богословия»[95], посвященное вопросам веры, богопознания и теистической метафизики, а также книгу «Из чтений о религии», содержащую четыре раздела: «Религия, как основа жизни», «Религия в ее исторических формах», «Религия в философском понимании» и «Религия и естествознание»[96].
С историей преподавания основного богословия в Московской Духовной Академии связано еще одно интересное событие. В 1870 г. была создана сверхштатная кафедра Естественнонаучной апологетики, которая просуществовала до 1903 г. Ее основателем и единственным преподавателем был сын прот. Федора Голубинского – Дмитрий Федорович Голубинский (1832–1903). После закрытия в 1869 г. кафедры физики и математики, которую он возглавлял с 1864 г., в целях сохранения преподавания этих предметов – чему обер-прокурор Святейшего Синода Д. А. Толстой всячески противодействовал – в Московской Духовной Академии было принято решение об открытии новой кафедры, ориентированной на использование физико-математических знаний для осуществления апологетических целей. Открытие кафедры во многом стало возможным благодаря поддержке митрополита Московского Иннокентия[97]. Курс Д. Ф. Голубинского состоял из лекций по физике, химии и астрономии; для желающих проводились дополнительные занятия по математике. Главную цель своих лекций Д. Ф. Голубинский видел в «доказательстве бытия Божия через показание целесообразности устройства звездного мира и системы законов физики и химии»[98]. Хотя курс лекций по естественно-научной апологетике и не был издан, о его содержании отчасти можно судить по многочисленным статьям профессора, посвященным тематике данного предмета[99].
1.2. Основное богословие в университетах и других высших учебных заведениях России
До революции 1917 г. основное богословие в России преподавалось не только в Духовных академиях, но и входило в учебные программы университетов и других светских учебных заведений. К началу XX в. в Российской империи насчитывалось 11 университетов, всего же высшая школа объединяла 124 учебных заведения. Отличительной особенностью российских университетов было то, что они учреждались без богословских факультетов вплоть до последнего десятилетия XX в.[100] Однако с богословскими кафедрами дело обстояло иначе. Первые кафедры появились в университетах начиная с принятия Устава 1804 г., согласно которому при каждом университете должны были быть организованы две богословские кафедры: 1) догматического и нравоучительного богословия и 2) толкования Священного Писания и церковной истории. Как отмечает Д. А. Карпук, в реальности все четыре дисциплины читались одним профессором, который, как правило, наибольшее внимание уделял догматическому и нравственному богословию. В результате, Устав 1835 г. установил уже только одну богословскую кафедру, сделав ее межфакультетской[101].
Согласно Уставу 1863 г., для кафедры богословия был сохранен межфакультетский статус, но, вместе с тем, на историко-филологическом факультете была образована кафедра церковной истории, на юридическом – кафедра церковного законоведения. Таким образом, в университетах вместо одной стали действовать три богословских кафедры[102].
Что же касается преподавания собственно богословия, то через некоторое время после утверждения нового Устава, в результате профессиональных дискуссий и обмена опытом профессоров богословия нескольких ведущих университетов, было предложено вместо догматического и нравственного сделать акцент на преподавании основного богословия[103], которое, будучи «живым» богословско-философским введением в христианское вероучение, наиболее коррелировало с волновавшими студентов вопросами развития естествознания и общественных наук[104].
В результате университетская богословская наука явила целый сонм ярчайших представителей отечественного основного богословия, существенно повлиявших на развитие последнего как отдельной теологической дисциплины и направление специальных научных исследований.
Отметим лишь некоторых, наиболее выдающихся представителей светской высшей школы основного богословия синодального периода.
Автором одной из первых публикаций университетских курсов основного богословия стал много потрудившийся над переводами западных апологетических изданий прот. Николай Сергиевский, ординарный профессор Московского университета. Его «апологетические публичные лекции», вышедшие в 1872 г. под названием «Об истинах христианской веры», носили популярный характер и были направлены на защиту в христианстве того, что «дано в нем как основоположное», и с признанием чего «само собой оправдывается и все созданное и созидаемое на этом основании»[105].
Курс лекций по основному богословию прот. Федора Сидонского (1805–1873), читанный в 1873 г. в Санкт-Петербургском университете как «Генетическое введение в православное богословие»[106], был в 1877 г. опубликован в журнале столичной Академии «Христианское чтение». Отметим, что прот. Федор Сидонский прославился как один из выдающихся представителей духовно-академической и университетской философии в России XIX в.[107] Он является автором «Введения в науку философии»[108] – классического труда по философии, причем одного из первых в России, за каковое сочинение прот. Федор в 1836 г. получил полную Демидовскую премию Академии наук[109]. По мнению Н. П. Рождественского, ценность богословских лекций прот. Федора в том, что «в них о. Сидонский обрисовывается пред нами с новой малоизвестной для русского общества стороны, как самостоятельный русский богослов-систематик, что в них наш покойный философ выкладывает так сказать на закате дней своей жизни результаты своих многолетних философских дум и размышлений по высшим религиозным вопросам, сводит эти результаты в стройное целое и оставляет как бы своего рода завещание русскому мыслящему миру… начав свою ученую деятельность Введением в науку философии, автор заключил ее Введением в науку богословия»[110]. Важно отметить, что основная идея «Генетического введения в православное богословие» – которое есть полный богословско-энциклопедический курс, соответствующий требующемуся объему преподавания богословия в российских университетах тех лет – в том, что религия и философия, вера и разум не только не противоречат друг другу, но, более того, находятся в полной гармонии и согласии между собою. Структурно «Генетическое введение» состоит из десяти разделов / частей, где автор «в генетической последовательности и систематическом раскрытии сообщает главнейшие сведения из почти всех богословских наук»[111].
Прот. Василий Гаврилович Рождественский (1839–1917), будучи преподавателем Священного Писания Нового Завета в Санкт-Петербургской Духовной Академии с 1869 по 1891 гг., в 1874 г. был утвержден в должности профессора кафедры православного богословия в Санкт-Петербургском университете, которую занимал на протяжении более сорока лет, вплоть до 1915 г.[112] Структура его курса лекций по основному богословию предполагала введение, посвященное истории христианского богословия, и два отдела: объединенный – о религии и Откровении, и отдел, где рассматривались нехристианские религии[113].
Среди других преподавателей основного богословия в светских учебных заведениях следует отметить прот. Димитрия Тихомирова, профессора богословия в Лесном Институте, с его «Апологетическими беседами о религии», в которых он большое внимание уделяет обоснованию «второй основной истины религии» – бессмертию человека[114], а также профессора богословия Лесного института прот. Михаила Альбова (1843–1915), автора «Очерка христианской апологетики»[115], который «обнимает все существенные вопросы апологетики, написан хорошим языком, прочитывается легко и с интересом начинающими»[116].
Заслуженный профессор Харьковского университета прот. Василий Добротворский, автор курса лекций по основному и догматическому богословию, рассматривал первое как апологетическое по методу введение в догматику[117]. Профессор богословия того же университета прот. Тимофей Буткевич (1854–1925) хотя и не издал систематического курса, но оставил после себя несколько фундаментальных исследований в области основного богословия[118].
Профессор богословия Московского Университета и Московского Коммерческого института прот. Николай Боголюбский издал в 1913 г. свои «приведённые в порядок апологетические богословские чтения»[119], состоящие из трех отделов: «Философия религии», «История религии» и «Христианство».
Профессор Томского университета прот. Иаков Галахов (1865–1938) известен как автор апологетического произведения «О религии», состоящего из двух частей и изданного, соответственно, в 1914 и 1915 гг.[120]. В данном сочинении автор уделяет особое внимание вопросу взаимоотношения религии и науки и, а также месту и роли богословского знания в образовательной парадигме того времени.
Особенно в этой плеяде университетских преподавателей основного богословия выделяется прот. Павел Светлов, профессор Киевского университета. Прежде всего, ему принадлежит большая заслуга в деле систематизации как отечественной, так и иностранной литературы по апологетике[121]. Также прот. Павел является автором фундаментального двухтомного труда, посвященного апологетическому изложению христианского вероучения[122]. Первый том содержит общее введение в христианскую апологетику, учение о Боге, о мире, о человеке и о промысле Божием. Второй том посвящен вопросам сотериологии, христологии и понерологии[123]. По мнению автора, его труд «представляет собой апологетическую догматику» и, по замыслу, предполагает издание третьего тома, который должен содержать «систематическое изложение воззрения автора на искупление»[124]. Однако таковой том не прошел цензуру. Поэтому свой «Курс апологетического богословия»[125], изданный в 1900 г. и значительно дополненный в 1902 г., сам прот. Павел Светлов считал «естественным дополнением к „Опыту“» и не допускал его оценки как сокращенного варианта последнего[126]. Кроме учения об искуплении, курс содержал также разделы «об условиях христианского знания» и «об исторических основах христианства».
В заключение отметим, что системное изучение университетского фундаментально-теологического наследия безусловно может стать предметом отдельных специальных исследований, тем более что необходимый исторический фундамент для проведения последних уже заложен трудами Ф. А. Петрова, И. Л. Тихонова, О. Л. Бильвиной, Н. Ю. Суховой, Д. В. Шмонина, Д. А. Карпука и др.[127]
Глава II. Основное богословие в Санкт-Петербургской духовной академии
2.1. Святитель Иннокентий (Борисов) как родоначальник отечественного основного богословия
2.1.1. Научно-преподавательская деятельность свт. Иннокентия (Борисова)
Святитель Иннокентий (Борисов; 1800–1857), архиепископ Херсонский и Таврический, известен как один из самых просвещенных деятелей Русской Православной Церкви первой половины XIX в.[128] Будучи глубоким и оригинальным мыслителем, хорошо осведомленным в проблематике новейшего западного богословия и обладавшим при этом серьезными познаниями в области философии, святитель стал, по сути, родоначальником отечественного академического основного богословия.
Родился свт. Иннокентий – в миру Иван Алексеевич Борисов – в 1800 г. в городе Ельце Орловской губернии в семье священника. В 1810 г. поступил в Воронежское Духовное училище, по окончании которого – в Орловскую Духовную семинарию. Закончив последнюю в 1819 г. в числе лучших воспитанников, был отправлен на учебу в только что открывшуюся Киевскую Духовную Академию. В 1823 г., закончив Академию первым по успеваемости, 23-летний магистр Иван Борисов был определен в Санкт-Петербургскую семинарию инспектором и профессором церковной истории и греческого языка[129]. Менее чем через три месяца одновременно с этим он занял должность ректора Александро-Невского Духовного училища. С 1824 г. уже иером. Иннокентий был назначен бакалавром богословских наук Санкт-Петербургской Духовной Академии. В 1825 г., став инспектором Академии, был утвержден действительным членом академической конференции. В 1826 г. получил звание экстраординарного профессора и был возведен в сан архимандрита. В 1829 г. за ряд сочинений, преимущественно историко-богословского содержания, был утвержден доктором православного богословия.
В 1830 г. архим. Иннокентий был определен ректором и профессором богословских наук в Киевскую Духовную Академию. В 1836 г. хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской епархии. Ректорство святителя продолжилось до 1840 г., вплоть до назначения на Вологодскую кафедру. В 1841 г. он был переведен в Харьковскую епархию, а также по представлению министра Народного Просвещения утвержден Ординарным Академиком Императорской Академии Наук. С 1848 г. и до своей кончины, случившейся после непродолжительной болезни в 1857 г., – архиепископ Херсонский и Таврический[130].
Преподавание основного богословия – «под названием общей богословии»[131] – вместе с богословием обличительным (сравнительным) свт. Иннокентий начал после своего назначения в 1824 г. бакалавром богословских наук в Санкт-Петербургскую Духовную Академию[132].
Как отмечает проф. прот. Т. Буткевич, «молодой профессор преподавал лекции наизусть, обнаруживая при этом блестящие стороны своего таланта и своего образования: светлость и нередко оригинальность взгляда на важнейшие вопросы науки, быстроту и проницательность в соображениях, необоримую диалектику рассудка и близкое знакомство с современным состоянием на Западе не только богословия, но и философии»[133].
Лекции свт. Иннокентия отличались глубокой продуманностью и излагались в строгой систематической связи, что позволяло студентам достаточно точно воспроизводить их в записи[134]. Составленные студентами краткие записки по преподаваемым свт. Иннокентием дисциплинам получили широкое распространение почти во всех семинариях, где впоследствии профессорствовали его ученики[135].
Свт. Иннокентий, окончив свое служение в Санкт-Петербургской Духовной Академии и обретя славу образцового профессора, продолжил преподавание основного богословия в стенах Киевской Духовной Академии, став ректором последней.
В этот период богословская академическая наука достигла в Киеве небывалого расцвета. Это было время особенного оживления научной и учебной деятельности Академии, со стремлением к освобождению богословской науки от уз схоластики[136]. Свт. Иннокентий постоянно вникал в общий ход преподавания, следил за направлением и развитием академической науки, стараясь придать ей вид стройной и законченной системы. Проведенные им преобразования – переход в преподавании с латыни на русский язык, возвышение философских наук[137], введение новых богословских дисциплин – позволили значительно укрепить Академию и возвысить ее значение в системе духовного образования России. Именно свт. Иннокентию «академическая богословская наука обязана расширением ее круга, с выделением из него новых специальных богословских отраслей в виде религиозистики (основного богословия), экклезиастики (об учении, богослужении и управлении церкви), сравнительного богословия и др.»[138].
Свт. Иннокентий за период своего ректорства, будучи ординарным профессором, преподавал три дисциплины: основное и догматическое богословие (1831–1833 гг.), нравственное богословие (1833–1835 гг.)[139]. Однако главная его заслуга состоит в том, что основному богословию, названному им «религиозистикой», свт. Иннокентий сообщил совершенно новое, неизвестное до него направление[140]. Ранее, до свт. Иннокентия, и в Киевской Духовной Академии, и во всей отечественной духовно-академической науке основное богословие не имело статуса самостоятельной богословской дисциплины. Как уже отмечалось, в системе богословского образования России оно было представлено только в виде незначительного пропедевтического трактата, содержавшего предварительные сведения о богословской науке как таковой, а также частично в рамках курса метафизики, при изучении философских дисциплин. Свт. Иннокентий, пользуясь своей властью ректора Академии, впервые ввел основное богословие в куррикулум высших духовных школ, институциализируя его как специальную богословскую дисциплину.
Первые публикации свт. Иннокентия по основному богословию относятся к Петербургскому периоду его научно-преподавательской деятельности. В журнале «Христианское чтение» за 1824–30 гг. было напечатано несколько статей, соответствующих по своему содержанию тематике основного богословия, авторство которых с большой долей вероятности может быть приписано святителю[141]