Глубинная психология и путь к себе. Как почувствовать смысл в жизни
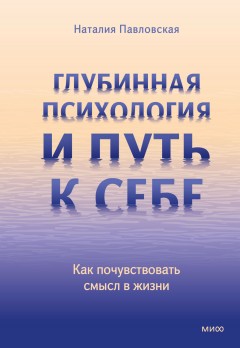
Текст, который вы будете читать, подобен калейдоскопу или мандале – символическому узору жизни. Он создан из множества деталей: из драгоценных впечатлений, историй из жизни людей, из книг и трактатов, из мифов и фантазий, из практик и размышлений. И складывается он, как и узор в калейдоскопе, всякий раз иначе, по-новому, неожиданно – у каждого человека и даже у одного человека в разные периоды жизни и в разном настроении. В этом и есть задача книги: чтобы каждый обретал собственный уникальный узор картины мира, души, чувств и мыслей, показывающий и проясняющий то, что необходимо, целительно и интересно именно сейчас.
Все имена и детали жизненных обстоятельств реальных людей, описанных в книге, изменены.
Моя особенная, высочайшая и глубочайшая благодарность тем, кто за время написания этой книги окружал меня: кто поддерживал меня и кто опирался на меня, кто любил меня и кто позволял мне любить себя, кто приглашал в свой внутренний мир и кто остался загадкой, кто молился за меня и кто доверял молиться за себя, кто щедро одаривал меня и кто не мог дать мне того, что хотелось.
Вы в моей душе навсегда!
«В начале было слово»
Так начинается одна из частей самой читаемой (по статистике) в мире книги, Библии. Это одновременно самая понятная и самая непонятная фраза, самая очевидная и самая спорная. Какое слово? В начале чего? Почему слово? Если мы возьмем вариант этого текста на древнегреческом – языке, на котором, предположительно, было написано Евангелие от Иоанна, – то встретим там слово «логос». Его можно перевести не только как «слово», но и как «мудрость», «причина», «понимание», «смысл».
Лев Толстой в своем исследовании «Соединение и перевод четырех Евангелий» предлагает понимать смысл этой фразы так: «Началом всего стало разумение жизни». Что это значит? Мы обращаемся к смыслу логически, но чувствуем его содержание или его отсутствие интуитивно. Мы ищем рациональное объяснение, но почему-то именно к необъяснимому, таинственному нас тянет душой. Многие люди посвящают всю жизнь научному исследованию таких текстов, а большинство из нас просто переживает глубокие чувства при встрече с ними без каких бы то ни было специальных знаний. Поиск, растерянность и в то же время особенная внутренняя, необъяснимая ясность (не только по отношению к текстам, но и ко всем проявлениям бытия) – все это составляет нашу духовную жизнь.
Важно уточнить: о чем мы вообще говорим, когда упоминаем здесь духовность? Я имею в виду ощущение, энергию, переживание, которые связывают наше рациональное, наше сознание, которое отвечает за существование, за каждодневное функционирование, за эволюционное выживание с той частью нашей личности, которой доступны и необходимы переживания смысла, красоты, этики, эстетики, контакта с трансперсональной и трансцендентной реальностью.
Проще говоря: духовность – это наша потребность в чем-то большем, чем мы сами.
Можно задаться вопросом: зачем вообще в наше технологичное, практичное время вся эта духовность? Ответ простой: именно сейчас она и необходима больше, чем когда бы то ни было. Много противоречивых мнений приходится слышать о стремительном развитии искусственного интеллекта и его интеграции в нашу жизнь. Кто-то радуется, что большую долю работы в мире возьмут на себя коды, программы и механизмы, кто-то по этому поводу впадает в панику: искусственный интеллект вытеснит людей! Действительно, уже сегодня искусственный интеллект справляется со множеством задач в самых разных сферах нашей жизни куда быстрее и эффективнее человека и развивается с каждым днем. Но как раз это – повод задуматься: какое послание нам несет действительность? Кажется, ответ очевиден: технологии освобождают людям время и ресурс как раз на то, что не встроено в компьютерные коды, но встроено в нашу психику, – на иррациональное и духовное.
В этом заключен сакральный смысл достижения баланса, компенсации технологического роста духовным развитием. Есть смысл и практический: духовно развитый человек в мире искусственного интеллекта куда более конкурентоспособен, ведь он может то, чего не могут компьютерные программы, и обладает истинным иррациональным чувством.
До сих пор распространено мнение, что переживание духовности, ощущение надличностного уровня жизни доступно не всем, что оно требует позволенной авторитетными наставниками подготовки, избранности, сложно устроенных условий, что это одновременно и бремя, и привилегия элиты духовенства различных конфессий и избранных обществом творцов искусства. Однако если внимательно читать духовные тексты разных мифологий и религий, становится очевидно, что задача поиска, контакта с божественным и сакральным адресована всем и каждому: в этом-то и заключается главный смысл. Для этого необязательны специальные знания, таланты, избранность в той или иной социальной группе, чье-то особое разрешение. Это так же естественно, как дышать. Когда человек отказывает себе в праве признать, что для него есть что-то, кроме вещного, материального мира, что он имеет право ощущать связь с неким абсолютом, с чем-то большим, чем человеческая воля, с чем-то, что порой нельзя понять, а можно лишь почувствовать, человеку плохо – эмоционально или даже физически.
Я вспоминаю встречу с моим пациентом Иваном, который пришел на психоаналитическую сессию в крайнем волнении: его маленький сын попал в больницу в тяжелом состоянии, а Иван истязал себя вопросами – все ли он предусмотрел, все ли организовал для того, чтобы помочь сыну? И разумеется, будучи крайне встревоженным, он находил новые и новые поводы обвинить себя: что чего-то не предусмотрел. А ведь очевидно, что всего-всего в жизни предусмотреть невозможно. И неизвестно, что терзало Ивана сильнее: волнение о сыне или эти мысленные самоистязания. Я спросила, верит ли он во что-то большее, чем его воля, чем его разум, финансовые и организационные возможности? Иван на минуту отвлекся от самобичевания и изумленно посмотрел на меня:
– Вы имеете в виду Бога? Но я принципиально не хожу в церковь.
– Необязательно. Просто верите ли вы во что-то, что большее, чем вы, большее, чем болезнь?
Иван разгневался:
– Вы сейчас хотите мне всучить идею о том, что не все в наших руках и что надо просто расслабиться, и будь, что будет?!
– Да не расслабиться, а наоборот – собраться с силами. Но не с буквальными, не с теми, к которым вы привыкли: на внешнем уровне вы организовали все, на что хватило ваших ресурсов, сделали все, что могли. Но даже лучшие врачи говорят: пока нет гарантий, ситуация неясная. Может, нужна другая сила?
Иван помолчал и как-то даже внешне изменился: напряженный до предела, словно чугунное изваяние героя, изнывающего под своим же весом надуманного могущества и ответственности, но готовый расколоться вдребезги от малейшего дополнительного усилия, он будто ожил, смягчился, его страх и волнение словно приняли человеческое измерение.
– Я не знаю, что мне делать, – тихо сказал он.
– Никто не знает. Просто попросите… – сказать по правде, я сама не знаю, почему я тогда говорила это. Как будто что-то через меня произносило эти слова.
– Попросить? Как? У кого? – Иван с отчаянной надеждой смотрел на меня, будто я была оракулом.
Но я просто человек. И все, что я могла, – это снова прислушаться к чему-то большему, чем я. И я ответила:
– Вы знаете.
– Я? Откуда мне знать? Я обычный человек.
– Что-то в вас знает.
Время нашей встречи подошло к концу. Позже Иван рассказал, что он почувствовал какое-то особое состояние волнения и энергии внутри себя, и, сам не зная, почему, он поехал на их с сыном любимую поляну для игр, расположенную неподалеку от их загородного дома. Он провел там один всю ночь, представляя сына, разговаривая с ним и обращаясь – он сам не знал, к кому: к Вселенной? К природе? К какому-либо из богов? К самому себе? К душе сына? Он не понимал. Он своими простыми словами говорил о любви к сыну, просил и надеялся. И, к его изумлению, переживал необычное ощущение: будто он был там не один, будто кто-то или что-то слышали его, понимали его, сострадали ему.
Наутро Иван вернулся в больницу. Сыну провели дополнительные обследования, и, к озадаченности врачей, выяснилось, что за ночь его состояние стабилизировалось. И даже срочная операция, которую планировали на этот день, была отменена. Не сразу, но довольно быстро состояние мальчика пришло в норму.
О чем эта история? Хочу ли я сказать, что это рецепт исцеления близких? Нет, конечно. Впрочем, для кого-то, может, и да. Хочу ли я сказать, что именно мольбы отца исцелили сына? Я не знаю. Может ли это быть просто совпадением, объясняемым сложными медицинскими процессами? Разумеется, может. Я правда не знаю. Но в одном я уверена. Этот опыт – обращения к чему-то иррациональному, невидимому, большему, чем наше сознание и эго, и это ощущение услышанности, принятости нельзя подделать. Такое не сыграешь нарочно, в этом нельзя убедить. Это чувствуется – и всё тут. Как вдох и выдох. И это чувство, это знание определяет нашу внутреннюю реальность.
Внутренняя реальность бывает гораздо более влиятельной, чем внешняя, материальная. Вот представьте: каждый из нас день за днем взаимодействует с внешним миром. Но эти действия и решения: что купить к ужину, что надеть, как выполнить задачу на работе, что подарить другу на день рождения и так далее, – заполняя годы нашей жизни, могут никак не влиять на саму жизнь. Они рутина, которая не вызывает ни прозрений, ни переживаний. Многие люди ведут вполне благополучную жизнь, но жалуются на невыносимое ощущение пустоты, уныния, бессмысленного повторения.
А бывает так, что какое-то особое сновидение или мощное переживание, какая-то неожиданная встреча или случайный разговор вызывают в нас сильные чувства. И именно это подталкивает нас к переменам. Что-то иррациональное, непонятное, то, что нельзя потрогать руками, взвесить, спрогнозировать; зов чего-то большего, потустороннего, не измеряемого ни научными закономерностями, ни статистикой.
Насколько мы можем позволить себе принять эту часть жизни, этот духовный уровень нашей личности? И насколько мы можем посмотреть на материальный мир вокруг нас как на отражение мира духовного?
Что вы видите утром, открывая глаза? Привычные будничные предметы? Или, наоборот, незнакомые – если просыпаетесь в новом месте? Близкого человека? Или кота? Или собаку? А может, случайного незнакомца рядом? Или, наоборот, свободное от всех пространство? Что за окном? Привычный пейзаж? Или что-то неожиданное?
А теперь представьте, что вы пришли в музей и смотрите на картину, изображающую то, что вы видите утром. Для наглядности можно прямо утром, проснувшись, сложить указательные и большие пальцы рук в прямоугольник, будто это рама картины, и через нее посмотреть вокруг.
А можно просто воссоздать этот образ привычной утренней картины в воображении, дополнив ее мысленно рамой по вашему выбору.
Другой вариант этой практики: представьте, что вы пришли в храм и видите фреску, где запечатлено ваше утро.
Позвольте себе на несколько минут погрузиться в эту фантазию, в это новое впечатление.
Как теперь видятся вам привычные предметы, игра света и тени на стенах, чей-то профиль рядом? Что вы чувствуете? Изменилось ли что-то для вас?
Попробуйте описать это впечатление, подобрать музыку к нему.
Важный комментарий: эта картина необязательно должна быть «красивой», точнее сказать, «красивенькой». Ведь даже многие шедевры мирового искусства несут в себе особую эстетику – эстетику дисбаланса, образы некрасоты, дисгармонии, и именно в этом их задача – помочь нам проживать жизнь во всей полноте, как она есть, а не так, как бы нам хотелось ее лицемерно приукрасить. Размышляя над этим, может быть интересно посмотреть книги писателя и философа Умберто Эко «История красоты»[1] и «История уродства»[2] и ученого и публициста Марка Роша «Прекрасное уродство»[3].
Очень важный навык – способность (и потребность) видеть в каждом дне своей жизни нечто большее, чем просто рутину, больше, чем примелькавшиеся предметы и лица близких, которых мы, что самое ужасное, часто вообще не замечаем. Навык видеть во всем этом прекрасные произведения искусства, слышать и чувствовать то самое «разумение жизни», распознавать в повседневных словах, в игре пылинок в солнечном луче, в переплетении рисунка света и тени на обычной стене, в ощущениях ветра, воды, прикосновениях родного человека на коже не просто физические явления, а диалог со всем миром. Умение поверить, что и иудейская Тора, и христианское Евангелие, и мусульманский Коран, и зороастрийская Авеста, и индуистская Махабхарата, и буддистская Трипитака, и мифы древних греков, сибирских шаманов, майя, пуэбло и других – все великие тексты составлены о каждом из нас и для каждого из нас.
Для чего это? Практически каждая мифологическая и религиозная система говорит о том, как выстроить связь с чем-то абсолютным и непостижимым для ума. Как проходить свой земной путь, становясь все более точной и полной версией самого себя. Теми или иными словами, знаками, образами нам сообщается идея, что смысл существования – это творение себя самого, воплощение себя, развитие себя.
Почему это так? А потому что без этого нам пусто. И, мучимые этой пустотой, мы начинаем заполнять свою жизнь чем-то шаблонным, отвлекать себя от тоски по самим себе настоящим. Мы втягиваемся во что-то привычное или, наоборот, опасное, пытаемся соответствовать кому-то, становиться не собой, а кем-то выдуманным, заполняем, заполняем, заполняем – и все равно чувствуем пустоту. Грузинский христианский святой, старец Гавриил Ургебадзе, носил на груди табличку с собственным изречением: «Человек без любви – как кувшин без дна». Бесполезный, бессмысленный, всегда пустой. А ведь многие из нас не признают эту любовь: к своей глубине, к способности чувствовать больше, духовно и душевно подниматься выше, к духовной связи с другими – ко всему, что делает сосуд нашей души целым. Не признают – и переживают терзающую пустоту, выбиваясь из сил в попытках наполнить свой кувшин без дна хоть чем-нибудь.
Мне вспоминается Ирина, которая обратилась к психотерапии со мной с довольно распространенным запросом: бессонница, тревожность, раздражительность. Она была очень успешна в своей профессии, одновременно с этим – заботливая жена и мать. Ирина просто хотела, чтобы ей помогли избавиться от неприятных симптомов, мешающих стать максимально эффективной.
Сначала она с большим недоверием отнеслась к моим просьбам рассказывать сновидения и фантазировать. Ирина честно призналась, что, если бы не вызывающие доверие рекомендации знакомых, она бы ушла от меня довольно скоро, поскольку не видела смысла заниматься какой-то «ерундой». Но, будучи человеком дисциплинированным, сны все же записывала и записи приносила. И вот в образах этих сновидений мы смогли увидеть и сложные внутренние конфликты Ирины, и ее потребности, выходящие за рамки четкого функционирования семьи и бизнеса. Ирина смогла признать, что ее волнуют вопросы, связанные с этикой в обществе, что она чувствует в себе потенциал для влияния на коллективные процессы, ощущает желание использовать свою энергию, ресурсы и опыт для привнесения большей справедливости в жизни других людей. Осознав это, она занялась организацией достойного и важного социального проекта. Это, конечно, потребовало много сил и времени, но, как ни удивительно, давало и очень много новой внутренней энергии. Разумеется, ни бессонница, ни тревожность Ирину уже не беспокоили – она словно бы жила в настроении, в энергии другого качества, другого измерения.
Я с волнением вспоминаю одну из наших встреч, на которой Ирина, уже очень изменившаяся, более живая и спонтанная, более тонко чувствующая, ощутила слезы волнения и ошеломленно сказала: «Я даже представить не могла, что меня могут волновать такие глубокие вопросы! Я думала, что я совершенно простой, обыкновенный человек, а все эти сложные переживания – для каких-то особенных людей, и уж точно не для меня». Я спросила, что для нее сейчас значит это осознание другой себя. Ирина сказала, что чувствует уважение к себе. Уважение не к тому, чего она добилась в жизни, а именно к самой себе, вне зависимости от своих побед и поражений. И из этого нового отношения ей хочется проявлять себя ярче, быть честнее с собой и другими, делать больше, давать больше и получать от мира больше.
Такая трансформация, позволяющая проникнуться подлинным интересом и уважением к себе, дающая смелость делать что-то новое, более возвышенное и осмысленное, – это и есть духовное наполнение собственной жизни.
Интересно задуматься: для чего человек с самых ранних этапов своего существования начал создавать ритуалы, для чего пытался понять и объяснить окружающий мир и свою жизнь связью с чем-то большим, чем удовлетворение базовых потребностей? Казалось бы: изобрел палку-копалку – отлично! Стало больше еды и времени на сон и секс. Научились разводить огонь – супер! Жить стало безопасней. Разделились на охотников и земледельцев – еще лучше, больше жизненных удовольствий! Откуда же появляется потребность в проживании связи с чем-то глобальным, божественным, абсолютным, жажда размышлений о чем-то иррациональном? Ученые называют это религиозным инстинктом. Важно не путать в этом контексте переживание религиозности как глубокой веры и воцерковленность – в какой бы то ни было конфессии – как структуры организации повседневной жизни. В нашем случае слово «религиозный» понимается как инстинкт связи с чем-то духовным. И он неотъемлемая потребность именно человеческого вида.
Карл Густав Юнг, швейцарский психолог и философ, связывает эту идею со своей концепцией Самости и коллективного бессознательного. В работе «Нераскрытая Самость»[4], особенно в главе «Религия как противовес массовому сознанию», Юнг как раз и проводит различие между религией, которая связывает нас с Самостью, и вероучением, которое низводит нас до положения слуг внешних авторитетов. В целом его идея, которую он развивает на протяжении своей профессиональной жизни, которая является корнем его философии и которую мы, кстати, можем обнаружить и во многих религиозных системах – от сикхизма и индуизма до иудаизма и протестантизма, а также во множестве мифологий и философских концепций, – заключается в том, что существует некий абсолют, некая вечная и бесконечная, непознаваемая разумом энергия творения, всезнания. Иногда ее объясняют как энергию Единого Творца, иногда – как коллективный опыт всего человечества. Каждый несет в себе часть этой энергии, она центр его личности, сила его воплощения. Благодаря ей человек одновременно уникален и тождественен всему человечеству, поэтому говорят: «В капле отражается космос» и «Каждый человек – это целая вселенная». В юнгианской философии, например, эта неизмеримая вселенная смыслов называется коллективной Самостью, или Душой Мира (Anima Mundi), а часть этой вселенной в каждом из нас – индивидуальной Самостью. И наша задача – сохранять и развивать (или восстанавливать после травм) эту связь, этот диалог между индивидуальной и коллективной Самостью. Так наша жизнь в физическом воплощении обретает осмысленность, и мы освобождаемся от чувства мучительной пустоты.
Такая концепция избавляет нас от экзистенциального ужаса бесконечного одиночества и предлагает взять на себя ответственность не только за свое физическое и психологическое благополучие, но и за воплощение своей Самости или, иными словами, духовного начала, то есть ответственность за поиск и исполнение своего предназначения. Проще говоря: признавая идею связи индивидуального и коллективного, материального и духовного и развивая ее в себе, нам легче понять, что мы должны делать (и чего не делать) в жизни, чтобы чувствовать смысл, наполненность, интерес, уважение и любовь.
Наше духовное начало говорит с нами посредством сновидений, воображения, необычных ощущений, совпадений (которые мы замечаем), необъяснимых событий. Наша задача – отважиться верить, слышать этот голос, признавать, что у нас есть духовные и душевные потребности, а не только рациональные задачи.
Что, если предположить, что каждому из нас жизненно необходим более глубокий взгляд на себя и других, взгляд совершенно естественный и в каком-то смысле практичный? Практичный – потому что он помогает определить направление своей жизни, дает чувство, что вы дышите полной грудью даже в трудных обстоятельствах. Что, если все эти загадочные понятия: духовность, мистика, таинство – такие же простые и насущные потребности, как комфорт, признание и безопасность?
Практика наблюдений показывает, что именно игнорирование духовных потребностей может приводить к неврозам, болезням, тупикам и срывам. Часто человек приходит в кабинет психоаналитика с одним из распространенных запросов: кризис в отношениях, потеря интереса к жизни, тревога, страхи, физические симптомы, которым не находят объяснения врачи, просто хочет, чтобы его «починили», не позволяя себе признать, что ему может быть нужно что-то большее, чем существовать ладно функционирующим элементом своей социальной группы.
Многим людям бывает крайне трудно перейти от убеждения, что все наладится, если только «у меня будет достойный муж» / «красивая, добрая жена» / «ребенок» / «дом» / «мной будут восхищаться мужчины» / «мне будут отвечать взаимностью девушки» / «у меня появится миллион миллиардов денег» / «меня повысят в должности» / «откроется моя новая выставка» / «пройдет моя бессонница» / «я перестану бояться полетов» / «пройдут панические атаки» / «я похудею» / «я подкачаюсь» / «издам бестселлер» / «мама наконец скажет, что я лучше сына ее подруги…» – нужное подчеркнуть или добавить другое. Сюрприз: не факт. И даже, вероятно, наступит еще более сокрушительное разочарование: вроде все сделал как надо, всего достиг, а все равно чувствую себя негодным и нелюбимым. И это разочарование, скорее всего, приведет к еще более мучительным симптомам.
Мы с вами попробуем почувствовать принципы связи нашего тела и сознания с надличностным и глубинным, научиться доверять голосам души и духа.
Мы будем исследовать, казалось бы, понятные жизненные проблемы, с которыми сталкиваются очень многие, учитывая необходимость осознать их духовное измерение. К примеру: человек чувствует грусть и думает, что ему просто нужно стать веселым. Использует для этого подручные средства вроде любимой еды, алкоголя или же приказывает себе «не замыкаться» – идет в гости, на свидание или концерт. Кто-то, послушав блогеров или прочитав статьи о популярной психологии, решает, что грусть – это нормально, и просто пассивно смиряется со своим состоянием. А ведь очень интересно и важно узнать, что это за грусть, какая именно грусть посетила именно вас именно сейчас, она о чем? Может, пытаясь избавиться от грусти или просто бездумно оставаясь в ней, мы не слышим голоса души, которая что-то пытается нам сказать этим симптомом?
Например: может, что-то действительно идет не так? Что-то мешает нам быть собой и наша жизнь нуждается в изменении? Может, мы привыкли считать себя обычными людьми, но на самом деле нам важно не только чтобы вокруг было тепло и светло, но и чтобы на тарелке лежало что-нибудь вкусное? Может, мы способны искренне и глубоко переживать более глобальные процессы и нам не все равно, что творится вокруг? У нас есть энергия влиять на мир, а мы ее подавляем (на что, кстати, уходят немалые силы).
А может, эта грусть и вовсе соединит нас с глубоким духовным переживанием? Моя знакомая рассказывала о своем прадедушке: на его долю выпало немало бед – войны, репрессии, потеря жены, детей и дома, необходимость в одиночку заботиться о троих маленьких внуках. Однако все эти испытания он переживал стойко, спокойно и даже с улыбкой: «где наша не пропадала». Впрочем, иногда он плакал. Например, когда, переделав все бесконечные дела, ночью читал Евангелие. Он был старовером. Его внучка, мама моей знакомой, как-то проснулась, увидела его слезы и спросила: «Дедушка, ты о чем плачешь?» – «Я об Исусе плачу, о страданиях его незаслуженных и одиноких», – отвечал дедушка, обнимая внучку.
С повседневной точки зрения можно решить, что дедушка этот на самом деле не справлялся с трудностями и плакал от усталости о своих страданиях, но выбрал для внуков подходящее объяснение, чтобы их не пугать. С психоаналитической позиции можно предположить, что он проецировал на фигуру Иисуса Христа (Исуса у староверов) свою многострадальную судьбу. А можно посмотреть на это переживание с духовной точки зрения: иногда мы, правда иррационально, переживаем боль мира как свою совершенно искренне. Собственно, об этом и говорит христианский миф: Сын Божий пришел на землю страдать за всех людей. Так что, скорее всего, на разных уровнях своей психики и души дедушка, конечно, и заботился о своих внуках – чтобы переживание жизненных тягот было им по силам; и чувствовал себя Христом, а Христа – собой (как и каждый из нас немного Христос, немного Антихрист, немного Будда, немного Мокошь с Перуном, немного представители древнегреческого пантеона); и переживал сакральное ощущение боли и надежды всего человечества. Очень важно признать в себе и в других людях разные уровни глубины, а еще право на переживание. Это делает нас более объемными, живыми.
Вспомните какой-то ваш болезненный симптом или трудное переживание, от которого хочется избавиться. А теперь попробуйте рассмотреть его внимательнее и понять значение на трех уровнях:
• на повседневном уровне отношений с близкими;
• уровне своего внутреннего мира, личных переживаний;
• абсолютном уровне символических переживаний.
Например: человек боится летать на самолетах. На первом уровне это переживание неловкости, неудобства, которые могут быть связаны с чувствами злости, стыда. Стыда быть высмеянным и отверженным другими за свое несовершенство; злости на себя за то, что не можешь преодолеть страх и быть «нормальным». На этом уровне могут помочь когнитивно-поведенческие подходы: переформулирование мыслей, вызывающих страх, формирование ритуалов, помогающих лучше переносить стрессовое событие.
На втором уровне это встреча с осознанием своих ограничений, невозможности все контролировать, со страхом смерти. Здесь хорошим помощником будет психоанализ: какая часть меня боится? Какое переживание беспомощности в прошлом стало травматичным? Чем меня страшит смерть? Может, тем, что я еще не начинал жить по-настоящему?
А на третьем уровне может обнаружиться глубокое духовное переживание. И оно очень индивидуально: кого-то может охватить сострадание к планете, биосфера которой разрушается карбоновым следом технического прогресса. И тогда удобство и быстрота авиаперелетов отзовутся в душе ужасом от ущерба, который они наносят природе. Кто-то переживет ощущение хрупкости и родства: вот мы здесь, в этой титановой скорлупке, сидим рядом друг с другом – и в то же время бесконечно одиноки. А кто-то вдруг почувствует смесь ужаса и восторга от захватывающей дух несовместимости могущества человека и его беспомощности.
Почему, например, многие люди, даже определяющие себя атеистами, признаются, что в самолете, особенно при турбулентности, начинают молиться? Поверхностный ответ: потому что очень страшно. Согласно поговорке, «как тревога – так до Бога». А более глубокий ответ таков: в ситуации, когда мысли отвлекаются от повседневных хлопот, каждый из нас может почувствовать связь со Всевышним – с неким непознаваемым абсолютом.
Таким образом, получается, что если мы поспешим бороться с симптомом (например, со страхом полетов) на самом первом уровне – найдем хорошего когнитивного терапевта с проверенными протоколами или подберем подходящие медикаменты, – то мы лишим себя возможности увидеть свою же глубину и высоту одновременно. Потому что на втором, а особенно на третьем уровне проявляется наша личная мифология, наша внутренняя поэзия.
Только так, пытаясь понять, выучить язык духа и души, мы можем разрешить наш фундаментальный внутренний или внешний конфликт. Наша задача – укрепляться в уважении к своей глубине, осознании своей значимости и значимости других вокруг нас. Вера в связь каждого с чем-то надличностным, сверхматериальным дает ощущение особой силы и достоинства, переживания особой духовной красоты чувств, мыслей, поступков в нашем далеко не совершенном мире.
Когда человек позволяет себе поверить, что он (она) не просто отпетый лентяй и презренный слабак или зависимая жертва обстоятельств и воли других людей, неспособный(ая) не то что жениться (выйти замуж) и построить, пусть и в ипотеку, дом, как все нормальные люди, и просто выполнить квартальный план по работе и перестать быть слабым и уязвимым; когда разрешает себе осознать, что на самом деле душа его где-то и когда-то была предана – окружающими и/или им самим, и теперь нужно услышать ее, понять ее язык и пойти за ней, – все становится иначе. Человек начинает уважать и себя, и других, и жизнь его из тревожной превращается в интересную (хотя и не становится от этого проще).
Подсказки и приглашения духовного
Однажды Андрей шел по улице в самом скверном настроении. Да и улица была довольно скверной – серой и унылой, протянувшейся на стыке промышленной зоны и старых многоэтажек. Кроме того, место, в которое Андрей шел, его не вдохновляло: там должно было проходить собеседование, не обещавшее особых карьерных перспектив. Андрей согласился пойти скорее для очистки совести перед сочувствующей подругой, которая предложила его на эту позицию, да и от отчаяния. Он переживал период полного провала по всем фронтам: из-за конфликта с конкурентами потерял прекрасную позицию в большой корпорации, случайно разбил вдребезги свою дорогую машину, заболел какой-то вялотекущей гадостью, лишающей его сил, обидно расстался с любимой девушкой – та устала ждать, пока он снова начнет нормально зарабатывать. В общем, совсем не то настроение, чтобы начинать работу в каком-то экологическом стартапе. Мимо проехал грязный автобус и обрызгал Андрея жижей из лужи, мутной от реагентов. «Пока, дорогие штаны из прошлой жизни, – зло подумал Андрей, – такое не отстирывается». Он закашлялся: промышленные трубы неподалеку вовсю чадили.
И Андрей вдруг задумался: «А если я сейчас просто задохнусь этим дымом и умру, что изменится на земле? Честный ответ: ничего. От этого ни-че-го не изменится». И ему стало не по себе. Он даже остановился. Вот были у него деньги, красивая машина и подружка, тоже красивая, теперь нет ни того, ни другого, ни третьего. Ну, допустим, он приложит сверхусилие и у него снова появятся машина, деньги и подружка – и что? Андрей слышал какую-то оглушающую пустоту в голове и, не в силах ее выдерживать, даже вслух решительно сказал: «Я так больше не хочу!» Проходившая мимо старушка шарахнулась в сторону. И вдруг…
Андрей увидел на небе двойную радугу. Впервые за свою тридцатипятилетнюю жизнь. На небе, которое за полминуты до этого выглядело как застиранное до дыр больничное одеяло. Радуга сияла, источала такой чистый цвет, такую энергию, что Андрей залюбовался. Он чувствовал, как этот свет и энергия словно наполняют его, отчего даже выпрямился и задышал легче. И ощутил какой-то особый трепет внутри, где-то там, где, по его представлениям, могла располагаться душа (у тех, кто верит в существование души, конечно. Себя он обычно к таким не относил).
Для Андрея этот момент стал поворотной точкой. В каком-то особом состоянии душевного подъема он пришел в офис на собеседование, и все, что там происходило, перевернуло его жизнь и карьеру. Он почувствовал, что здесь сможет делать что-то действительно полезное, заметное. Он больше не будет эксплуатировать свои навыки и знания лишь для увеличения банковского счета, а применит их, чтобы достигать более высоких, наполненных смыслом целей. Это особенное чувство всегда трудно объяснить другим, а часто даже и не хочется – настолько это интимное переживание. Андрей почувствовал, что может поделиться им только с подругой, которая много лет была ему «своим парнем» и предложила пойти на это собеседование. Она смогла понять его, Андрей оценил это и почувствовал, что и ее теперь видит по-другому. У них начался роман, нежный и искренний, какого еще не было в жизни Андрея. Вскоре они собираются пожениться.
Андрей рассказывал об этом на психоаналитической сессии и говорил, что лишь позже смог рационально сформулировать суть своего переживания при той встрече с радугой: он осознал – не просто от ума, а как-то всем нутром, что долгие годы он предавал себя, выхолащивал свою жизнь, чтобы соревноваться с кем-то, часто даже воображаемым, а эта удивительная радуга стала для него символом настоящего смысла. Ведь в ней нет практичного мотива, нет выгоды, нет конкуренции, она просто есть, потому что она есть, она хороша сама по себе, у нее есть свое место и задача во Вселенной, и это неоспоримо и несомненно просто по факту ее появления на свет.
«Ну и что, – можно спросить, – кто из нас не видел радуги? Даже, может, и двойной». Обычное атмосферное явление. Понятно, что в таком сером месте она смотрелась особенно выигрышно. Что в этом особенного? Ну собрался парень, взял себя в руки – и все наладилось. Так-то оно так, да только сколько раз Андрей, как и многие другие, ни пытался рационально взять себя в руки, все было безуспешно. А вот случилось что-то такое необычное и необъяснимое – и все изменилось.
Такие ситуации, когда наше внутреннее переживание вдруг встречается с каким-то внешним событием, вроде бы случайным, но заставляющим нас чувствовать особый трепет, когда мы вдруг можем пережить озарение, увидеть ситуацию или всю свою жизнь по-новому, – особенные феномены. Карл Густав Юнг назвал их синхронией. В одноименной работе[5], написанной им при сотрудничестве с физиком, нобелевским лауреатом Вольфгангом Паули, он исследует связь подобного субъективного переживания и физических законов и высказывает гипотезу о принципе иррациональных связей. Юнг и Паули предполагают, что в мире существует категория обстоятельств, которые связываются смыслом, а не причинно-следственными мотивами.
Иногда мы называем такие случаи совпадениями. Но чем будет отличаться совпадение от переживания синхронии? Вот, например, история, которую рассказала мне знакомая, назовем ее Анна.
Анна летела к своему жениху в другой город, где они должны были пожениться. Она очень тревожилась, была напряжена, что, впрочем, вполне объяснимо в такой ситуации. Уже перед посадкой в самолет Анна с ужасом обнаружила, что потеряла помолвочное кольцо. Где?! В кафе? В уборной? Соскользнуло с пальца по пути? Будто одержимая, Анна бросилась искать по всему аэропорту. Она даже представить себе не могла, что прилетит к жениху без этого кольца, которое он так долго выбирал и так торжественно дарил ей. В панике она даже не услышала объявлений по громкой связи о том, что посадка на ее рейс заканчивалась и что ее вызывали особо. Анна летела без багажа, так что в какой-то момент самолет просто улетел без нее.
Для Анны тогда время будто остановилось, и она испытала необычное состояние: трепета и покоя одновременно. И тут в зоне ожидания Анна увидела Михаила, свою первую юношескую любовь. Они не встречались много лет, были счастливы увидеться, и это было какое-то необыкновенное переживание Анной себя – будто она вернулась домой из утомительного путешествия.
Если бы это был романтический фильм, то, конечно, для большего эффекта стоило бы придумать, что Анна и Михаил вскоре поженились, родили детей, построили дом, посадили деревья, и только смерть разлучила их, но – нет. В реальной жизни эта остановка и встреча иррациональным образом заставили Анну по-новому взглянуть на ее отношения с женихом и признать, что она не хочет за него замуж, вообще не хочет быть с ним, несмотря на то что объективно он неплохой человек. Да, ей льстят его серьезные ухаживания, ее успокаивают его материальные и социальные перспективы, но она его не любит. Не любит так, как когда-то любила Михаила. И дело не в том, что она поняла: ей нужен только Михаил, – нет. Михаил уже был счастливым мужем и отцом троих детей, и к этому, сегодняшнему Михаилу Анна не чувствовала влечения. Но своим появлением он помог ей вспомнить себя любящую. И эту разницу между собой любящей и собой равнодушной больше невозможно было отрицать или игнорировать. Неурядица с кольцом дала Анне время опомниться и признать, чего она хочет на самом деле.
Если бы это было просто совпадение, а не рационально необъяснимая встреча внутреннего переживания и внешних событий, разумная и практичная Анна, обнаружив пропажу кольца и видя, что самолет уже готовится к взлету, наверное, просто оставила бы номер телефона на стойке информации и попросила сделать объявление: вдруг кто-то найдет кольцо и сможет переслать ей. Даже если бы она все же опоздала на самолет, то спохватилась бы и полетела следующим рейсом. Также она бы признала, что, конечно, жених расстроится из-за пропажи кольца, но он тоже адекватный человек, и это событие не станет концом света. Словом, вся эта история выглядела бы как хлопотная заминка – не более. Но для Анны досадная потеря кольца обернулась глубоким переживанием своего истинного «я», своих настоящих желаний, своего протеста, нежелания предавать себя в самом глубоком и уязвимом – в вопросе отношений и привела к дальнейшим глобальным переменам в ее жизни.
Особенные душевные события, подобные тем, что пережили Андрей и Анна, сопровождаются деталями, в которых мы можем распознать метафоры: нетрудно увидеть, что потерянное помолвочное кольцо может стать символом отказа от этого союза, и глубже – избавления от оков, а двойная радуга – символом прояснения атмосферы, множественности вариантов, особенной встречи.
Можете ли вы вспомнить какие-либо особые события в своей жизни, которые трудно объяснить, но которые существенно повлияли на вас? Попробуйте погрузиться в них как можно глубже, почувствовать себя как тогда.
Попытайтесь вспомнить, в особенности свои телесные ощущения, где и как вы чувствовали этот трепет, или подъем, или волнение? Хорошо запомните это ощущение.
И тогда в ситуациях растерянности, запутанности вы сможете задействовать телесную память, чтобы вспоминать и воссоздавать это чувство. Оно, в свою очередь, поможет прояснить текущую ситуацию.
Теолог Рудольф Отто в своей книге «Священное»[6] пишет, что духовный, иррациональный опыт приводит человека к реальности, превышающей его рациональное познание. То есть, уделяя внимание вещам, казалось бы, непрактичным, необъяснимым и непредсказуемым, мы на самом деле учимся точнее и шире понимать самую обычную реальность. Отто также вводит понятие «нуминозного», образуя его от латинского numen, что означает «божественная воля», «божественное присутствие». В нашем контексте мы рассматриваем это не только в значении христианского понятия Бога, но и в более широком – как абсолютное и масштабное в сравнении с человеческим. Исследователь описывает переживание нуминозного как состояние особого возбуждения, торжественного благоговения, умиления и трепета одновременно. Причем часто этот трепет бывает не только нежным: описываемое состояние похоже на то, что богословы называют «страх Божий» – глубочайшее переживание ужаса и восторга одновременно. Ужаса и восторга перед чем-то грандиозным и всеобъемлющим. Ошеломляющего признания того, что мы, будучи обычными людьми, способны ощущать присутствие чего-то большего.
Энергия нуминозного поистине колоссальна. Это она помогает нам решаться на что-то значительное, видеть себя и жизнь совсем иным зрением, созерцать, как описывают буддистские учителя, мир без иллюзий.
Важно отметить, что, как ни странно, у многих людей приближение к нуминозному, сакральному, божественному вызывает чувство неловкости и даже стыда. Как-то в частном разговоре мой коллега признался, что ему как будто становится стыдно, когда его клиенты начинают говорить и чувствовать на сессиях что-то особенное, погружаться в глубины и воспарять в высоты. Я удивилась: почему? Не то ли это, к чему мы и помогаем продвигаться людям? У Юнга есть мудрая мысль, что в психоанализе человек не столько решает свои насущные проблемы, сколько признает их несущественными и формирует для них другие, более зрелые паттерны поведения. А высвободившиеся внимание и энергию направляет на действительно глубокие вопросы внутреннего мира. То есть, по сути, человек просто перерастает рутинные проблемы. Коллега согласился, что это странно – испытывать стыд там, где стоило бы радоваться. И, прислушавшись к себе, он описал природу этого стыда: «Кто я такой, чтобы признавать себя активным участником таких великих процессов: Духовного Развития, Индивидуации, Исполнения Предназначения, Связи с Божественным?..»