Из Ада в Рай. Избранные лекции по психотерапии
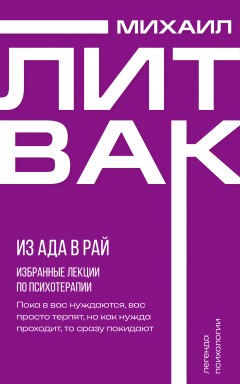
© М. Литвак, наследники.
© ООО «Издательство АСТ».
Предисловие ко второму изданию
Первое издание этой книги вышло в 1997 г. Опубликована она была по просьбе моих учеников, которые слушали мои лекции по психотерапии и медицинской психологии. А это были в основном начинающие психотерапевты, которым необходимо было довольно быстро сориентироваться в обширной психотерапевтической литературе, во взаимоотношениях и взаимовлияниях многочисленных направлений, школ, течений, выбрать свое место, свой зал в этом огромном психотерапевтическом Эрмитаже, где расположены вполне действующие экспонаты. Я ожидал, что книгу очень быстро раскупят и вскоре потребуется новая допечатка. Но расходилась она медленно. Еще в конце 1999 г. ее хотя и с трудом, но можно было отыскать на прилавках книжных магазинов. А вот когда она исчезла полностью, то за ней стали гоняться. Так возникла мысль о втором издании. Мне захотелось узнать, а кто же все‑таки купил эту книгу. К моему огорчению, именно те, для кого она была написана, ее как раз и не покупали. А приобретали и читали ее в основном те, кто хотел повысить свое общее образование. Я видел ее в руках филологов, педагогов, юристов, математиков, бизнесменов, студентов разных вузов и вообще среди специалистов, не имеющих никакого отношения к психотерапии, хотя, конечно, иногда ее читали психотерапевты и даже психологи.
Я провел читательскую конференцию по этой книге. На конференцию пришли преимущественно непрофессионалы. Один из них покритиковал эту книгу и попросил сделать ее изложение более доступным для непрофессионалов. (А профессионалы обвиняют меня в дилетантизме и примитивности изложения; вот и попробуй угодить всем.) Тогда ценность ее станет, по его мнению, еще большей. Вот краткое изложение его речи. Это был очень высококвалифицированный математик, к своей речи он еще и схемы приложил.
«Меня эта книга всколыхнула и позволила мне повысить как общекультурный, так и профессиональный уровень. В своей профессии я довольно быстро освоился, занял в ней хорошее место, работал в очень престижном учреждении и не видел уже особых перспектив. Вот в это время мне и попалась эта книга. В ней собраны мысли более 50 гениев, составляющих гордость всего человечества. Автору удалось обратить внимание на те их мысли, которые актуальны именно в наше время. Я и сам заглядывал и в Библию, и в Евангелие, почитывал Ницше и Шопенгауэра, конечно же, читал Пушкина и пытался понять Фрейда и многих других психологов и психотерапевтов. Но честно признаюсь, что это чтение мне принесло мало пользы, да многого я там и не нашел. Теперь же, когда читаю эти книги, я получаю наслаждение, которое мало с чем могу сравнить. Второй эффект был совсем неожиданным. Мне стали в голову приходить новые мысли, связанные с моей специальностью, где наметился совершенно незапрограммированный рост. Я теперь представляю человека в виде возвышенности, а на ней водружено знамя. Знамя – это его профессиональные знания, возвышенность – это его общее образование. Увеличивать знамя сложно, а вот возвышенность можно столько, сколько хочется. И знамя будет подниматься выше. Третье достоинство этой книги – она заменяет целую библиотеку. Ведь в ней изложены мысли более 50 гениев, причем именно те, которые необходимы нам.
У англичан есть две хорошие пословицы. «Если хочешь воспитать леди, начни с бабушки» и «Для воспитания джентльмена нужно три диплома: один у деда, второй у отца, третий у джентльмена». Я, интеллигент полуторного поколения (когда родился, мой отец, выходец из рабочей среды, был только студентом), понял, что не дотягиваю до интеллигента только сейчас, когда мне уже 42 года и я являюсь специалистом высшей категории. Теперь благодаря этой книге я понял, что же такое интеллигент. У меня теперь есть образец, на который я буду равняться. Если я раньше доживал, то теперь я только начал жить».
Это и другие подобные выступления и оценки привели меня к тому, что я постарался сделать второе издание более доступным для непрофессионалов. Кроме того, за последнее время я заметил, что увеличилось количество людей, которые понимают, что общее образование – это тот фундамент и стены здания, крышей которого являются наши профессиональные навыки. У меня сложилось убеждение, что человека, имеющего диплом о высшем образовании, можно назвать интеллигентом только в том случае, если у него имеется мощное общее образование. Тому, кто имеет диплом о высшем образовании, но не имеет хорошего общего образования, я не советую его выбрасывать. Но только нужно знать, что диплом – это только крыша и что нельзя все время жить на чердаке. Давайте подводить под крышу фундамент и стены общего образования. Эта книга поможет вам это сделать. Конечно, если у вас уже есть серьезное общее образование или вы не согласны с моими соображениями, то и не покупайте эту книгу.
Изменились за 5 лет и мои некоторые воззрения. Что‑то из изречений великих я стал понимать иначе, обратил внимание также на некоторые мысли гениев, которые раньше мне были непонятны и поэтому не были включены в книгу. Особенно подробно изложен психологический портрет психологически здорового человека по материалам А. Маслоу.
Но я хотел бы также, чтобы книга пользовалась успехом у профессионалов. Поэтому в качестве приложения приведена разработанная мною в 1999 г. классификация методов и направлений современной психотерапии, ряд таблиц и введен раздел «Как стать психотерапевтом».
В заключение предисловия хочу еще раз подчеркнуть, что при изложении той или иной психотерапевтической идеи приводится и психотерапевтическая техника в рамках этой идеи, и приемы, которые могут в повседневной жизни использовать мои читатели, не являющиеся психотерапевтами, как в порядке самопомощи, так и взаимопомощи. Обучаем же мы, врачи, население оказанию первой медицинской помощи. Ведь каждый культурный человек должен уметь сделать перевязку, остановить кровотечение, сделать искусственное дыхание до приезда специалиста.
Так и при душевных недомоганиях и катастрофах мы должны уметь оказать первую неотложную психотерапевтическую помощь себе и близким. Я думаю, что эта книга должна помочь решить и эту задачу.
И еще один совет непрофессионалам. Не читайте эту книгу подряд. Начните лучше со второй части. Там вы познакомитесь с высказываниями великих, которые были предшественниками психотерапии. Но их мысли психотерапевтами доведены до более употребимого вида. В моих пояснениях к афоризмам и высказываниям гениев указано, в каком психотерапевтическом методе искать более подробное толкование.
Я хочу пожелать вам, мой дорогой читатель, если жизнь иногда представляется вам Адом, выкинуть его из своей души. Эта книга сможет стать той метлой, которая поможет выкинуть весь мусор. Тогда в вашей душе поселится Рай, чего я вам и желаю.
Предисловие к первому изданию
Философы древности определяли человека как животное, которое умеет смеяться. Юмор тесно связан с интеллектом, особенно с его творческой частью. Поэтому несерьезно делать серьезные дела с серьезным видом. А человек с серьезным лицом представляется мне несерьезным по сути. Ничего путного с ним не придумаешь и не сделаешь. Для меня идеалом ученого и человека является мой научный руководитель профессор Борис Дмитриевич Петраков. Сколько я с ним общался, столько и смеялся. А ведь он автор нескольких десятков монографий. Да и подготовил 30 докторов и 49 кандидатов наук. Дай Бог ему здоровья! Как только я начал смеяться, у меня пошли книги и начали защищаться ученики. Да и метод психосмехотерапии родился.
Поэтому людям, которые редко смеются, я бы не советовал приобретать эту книгу. Она вызовет у них возмущение ненаучностью изложения, эклектизмом, отсутствием четкого плана и т. д. Не стоит ее приобретать и тем, кто доволен своей жизнью и улучшать ее не хочет.
Еще Цицерон говорил, что каждый оратор должен знать, что, выходя на трибуну, он должен чему‑то научить, повести за собой и доставить наслаждение. Думается, и любая книга должна выполнить эти три задачи. Ведь если книга ничему не учит, то незачем ее читать. Если после ее прочтения поведение человека не изменилось в лучшую для него сторону, то ее нельзя назвать полезной. А доставлять наслаждение необходимо, ибо тем самым ты выказываешь свое уважение слушателю и читателю.
Так вот, я буду доволен, если эта книга выполнит хотя бы третью задачу. Если даже ничему не научу, если вы и не пойдете за мной, то наслаждение, которое вы получите от прочтения книги, немного улучшит ваше настроение и, следовательно, здоровье.
Книга написана для начинающих психотерапевтов, и идея ее создания принадлежит моим ученикам. С 1980 г. у меня начали формироваться представления о современной психотерапии и одновременно я стал ее преподавать на факультете усовершенствования врачей. Врачи‑психиатры слушали меня внимательно, но когда начиналась групповая психотерапия, вели себя весьма скованно, не раскрывались. Тогда я стал привлекать к занятиям врачей других специальностей. Эти были побойчее. Через некоторое время в состав учебной группы я ввел больных неврозами и психосоматическими заболеваниями. Дело пошло веселее.
Конечно, я старался, чтобы курс соответствовал учебным программам и имел высокий научный уровень, а состав слушателей вынуждал меня проводить занятия так, чтобы материал был доступен не только профессионалам, но и людям, по роду своей деятельности далеким от медицины. Постепенно у меня стало получаться. Больные были довольны, так как им все было понятно. Да и ознакомившись с трудностями нашей работы, они как‑то прониклись идеей психотерапии. В конечном итоге остались довольны и профессионалы. Они сразу получили технику работы с больными без необходимости сложного перевода психологической и психиатрической терминологии на доступный язык, язык, который был бы понятен пациентам и всем тем, кто нуждается в психологической помощи.
Лекции и тренинги я стал записывать на магнитофон. Теперь вот прослушиваю запись. При подготовке данной работы я прочел много учебников и руководств по психотерапии. Это хорошие книги. В них все написано правильно. Но понятны они только профессионалам. Я сам, когда был начинающим, испытывал чувство растерянности, самостоятельно изучая психиатрическую, психологическую и психотерапевтическую литературу. Спасибо учителям и старшим товарищам. Они меня поддержали, сказав, что и у них было то же самое. Очень хотелось бы, чтобы эта книга хотя бы частично освободила начинающих врачей от такого чувства и от необходимости часто ездить на дорогостоящую учебу (хотя бы ко мне).
А теперь несколько слов о названии книги. Оно навеяно «Божественной комедией» Данте. Ад – это то, что творится в душах моих подопечных, когда они обращаются за помощью. Пройдя через Чистилище лечения и психологической коррекции, они попадают в Рай счастливой жизни.
Часть I
Современные психотерапевтические направления
Думается, сегодня психотерапевтических направлений так же много, как залов в Эрмитаже. Хочу показать вам некоторые из тех залов, в которых сам побывал. О многих направлениях здесь ничего не сказано (психосинтез, нейролингвистическое перепрограммирование (НЛП), «второе рождение» и др.). Это очень интересные направления, но «нельзя объять необъятное».
Лекция 1
Место психотерапии в современной жизни
Если бы червяк знал устройство яблони, он не подъедал бы плодоножку. И тогда, может быть, против него не боролись бы так интенсивно. Около месяца я не заглядывал в подвал, где хранились яблоки. К моему неудовольствию, почти во всех ящиках были надгрызенные мышами яблоки. Пришлось начать с ними борьбу. Им бы грызть яблоки только в нижнем ящике и, съев одно, приниматься за другое. Тогда, может быть, они спокойно бы перезимовали. Короче говоря, пословица «Знай свое место» весьма актуальна, и не только для червей и мышей.
Я как врач‑психотерапевт должен знать, где в системе человеческих знаний находится медицина, где место психотерапии в медицине и как психотерапия связана с другими областями знаний.
Я придерживаюсь точки зрения, согласно которой большинство болезней являются результатом неправильного образа жизни. И рассматриваю больного (если, конечно, болезнь не генетическая) как плохо воспитанного и неприспособленного к жизни человека, а область клинической медицины – как одну из ассенизационных (еще одна – места лишения свободы) ям, куда общество выбрасывает своих негодных представителей. При таком подходе становится ясно, что вылечить больного и не перевоспитать его – значит почти ничего не сделать. Вернувшись в свою среду, он будет делать те же ошибки и опять заболеет той же или более тяжелой болезнью. Это наблюдается в практике лечения не только неврозов, но и психосоматических заболеваний, которые принимают хронический характер. Кому из врачей не знакомы повторяющиеся гипертонические кризы, обострения язвенной болезни, инфаркты и приступы бронхиальной астмы? В этом свете нелепыми выглядят многие расхожие мнения о враче. Вот одно из них: врач любит своих больных. Только извращенец может любить больных! Что в них хорошего? Плохой внешний вид, не всегда приятный запах и постоянное нытье! Поэтому тот врач, который любит больных, напоминает мне человека, живущего на свалке и старающегося затащить туда как можно большее количество людей, за счет которых он живет.
Любить нужно не больных, а здоровых людей! Врач, который любит человека, а не больного, старается не дать ему свалиться в ассенизационную яму клинической медицины. Конечно, иногда приходится спускаться в нее для того, чтобы изгнать болезнь и вытащить больного из ямы. Но получать удовольствие следует от того, что вытащил человека, а не от того, что был в яме. Еще большее удовольствие (хотя, к сожалению, менее оплачиваемое) получаешь от того, что помог человеку не попасть в нее.
При таком подходе врач вынужден изучать, как протекала вся жизнь человека. Он оказывается информированным об ошибках родителей, педагогов, начальников и самого пациента, приведших его к болезни. И поэтому он обязан сказать больному и обществу, чего не следует делать, если хочешь остаться здоровым. А что же делать? Это лучше нас знают педагоги, родители, начальники! Наукой установлено, что, если педагогический и производственный процесс идет как следует, люди не болеют. Ну а если педагоги, родители и начальники пациента не знают, что делать (ведь если бы они знали, он бы не заболел), то рассказать ему об этом должен его лечащий врач или другой представитель медицинского учреждения. Конечно, хирург, терапевт или отоларинголог не могут знать все приемы лечебного перевоспитания, но они обязаны знать, что это необходимо, а в структуре клинической медицины должны быть специалисты, к которым следует направить больного для коррекции ошибок воспитания после медикаментозного, хирургического и иного лечения. А еще лучше проводить комплексное лечение. В этом свете становится ясно: что утверждение, что «нет узких специальностей, а есть узкие специалисты», абсолютно верно.
Из всего сказанного вытекает, что если бы педагоги и родители воспитывали правильно, а начальники вели производственный процесс таким образом, чтобы личность не невротизировалась, то, может быть, роль медицины свелась бы к оказанию помощи при родах и несчастных случаях. Тогда количество медиков стало бы минимальным, а освободившиеся высококвалифицированные кадры начали бы заниматься производственной и педагогической деятельностью.
Теперь я, врач‑психотерапевт, хочу определить свое место в обществе.
Разберем эту схему. Опыт выдающихся педагогов (Я. Корчак, В. Сухомлинский, А. Макаренко и др.) показывает, что правильно организованный педагогический процесс позволяет сохранить и укрепить здоровье занимающихся. В современной педагогике разрабатываются системы, содержащие не только образовательные идеи, но и стратегии, укрепляющие здоровье. Одна из них, знакомая мне, так и называется «Оздоровление через образование» (Т.Ф. Акбашев, 1992). Ее надо применять и в психотерапевтической работе. С другой стороны, психотерапевтические приемы могут использоваться и педагогикой как в самом педагогическом процессе, так и для коррекции личности самих педагогов, ибо уровень невротических реакций у этого контингента самый высокий (Б.Д. Петраков, Л.Б. Петракова, 1984). Накоплен значительный опыт по применению психотерапевтических приемов в педагогическом процессе. Регулярно проводятся соответствующие курсы по подготовке педагогов.
То же самое можно сказать и о производстве. Нет ничего более оздоравливающего, чем правильно организованный творческий труд. И здесь психотерапевтам в своей работе не стыдно использовать опыт лучших руководителей производств. Трудотерапия – тот связующий мостик между производством и психотерапией, который может сделать более рентабельным производство и удешевить психотерапию. Мы в свою очередь обучаем руководителей производств приемам психотерапии в организационной работе.
Связь между психотерапией и общей психологией самая тесная. Ведь по отклонениям от нормы можно судить о том, каким должен быть нормальный человек. И не случайно выдающиеся открытия в области современной психологии были сделаны врачами‑психотерапевтами (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, Э. Берн, А. Адлер, К. Хорни и др.). Но и открытия психологов служили основанием для создания психотерапевтических систем. Таковыми являются гештальтпсихология, когнитивная, гуманистическая психология.
Связь психотерапии с социальной психологией настолько очевидна, что не нуждается в длительном обосновании. Групповая психотерапия базируется на теоретическом фундаменте социальной психологии, но и психотерапевтические приемы формирования группы из ассоциации в коллектив используются социальными психологами при работе в производственных, спортивных и педагогических коллективах.
Психотерапия связана и с физиологической наукой. Примером может быть поведенческая терапия, основанная на положениях И.П. Павлова. Перспективным для объяснения некоторых феноменов и положений психотерапии является учение Г.Н. Крыжановского о гиперактивных детерминантных структурах. Оно открывает новые подходы к медикаментозному лечению при использовании личностно‑ориентированных методик психотерапии в терапии неврозов и делает более целенаправленными психотерапевтические техники при лечении органических заболеваний головного мозга.
Проблемы деонтологии тесно связаны с психотерапией. Деонтология указывает, каким должен быть врач, психотерапия показывает, как это сделать.
Но основной областью применения психотерапии являются практически все разделы клинической медицины.
А теперь пришло время дать определение психотерапии. Сделать это не так просто. С точки зрения семантики самого слова, это метод лечения, которым должен (я бы сказал, вынужден) пользоваться врач любой клинической специальности. С другой стороны, это отдельная врачебная специальность, которая имеет свой предмет. В отечественной литературе психотерапию принято определять как систему лечебного воздействия с помощью психических средств на психику больного и через нее – на весь его организм с целью устранения болезненных симптомов и изменения отношения к себе, людям и труду (В.Е. Рожнов, 1985; Б.Д. Карвасарский, 1985).
Из этого определения вытекает, что психотерапия может быть симптоматической, когда основной ее целью является снятие симптомов, и патогенетической, когда речь идет об изменении отношения личности к себе и миру. А психология определяет личность как свойство человека, делающее его носителем социальных отношений. Таким образом, предметом психотерапии является невротизированная и невротическая личность. Когда личность невротизирована конкретными обстоятельствами, тогда можно ограничиться симптоматической терапией. Если невротизм становится чертой характера, следует прибегнуть к патогенетической терапии для изменения отношения личности к себе и миру.
Врачи древности говорили, что слово, нож и трава являются тремя «китами», на которых стоит медицина. Нож нужен, когда не помогают лекарства (травы). Последние не всегда возможно и желательно применять. Слово же используется всегда. Врач занимается психотерапией независимо от своего желания. Здесь крайне необходима специальная подготовка. Одни благие намерения обязательно приведут к отрицательному антипсихотерапевтическому эффекту.
Также следует вести подготовку медицинского персонала и специальную психотерапевтическую работу с больными по методикам групповой психотерапии для обучения их приемам взаимной поддержки и профилактики эгротогений. А квалифицированно такую работу может проводить только профессионал‑психотерапевт.
В клинику урологии на операцию по поводу травматической стриктуры уретры поступил больной П. 35 лет. Клиника и ее руководитель пользовались большим авторитетом у населения, и больной был очень доволен, что его мучения кончатся (ранее он несколько раз безуспешно оперировался в других лечебных учреждениях). Операция была двухэтапной. Первый этап прошел благополучно. Больной с хорошим настроением ждал второго этапа. В это время кто‑то из соседей по палате сказал ему, что он зря радуется и еще успеет намучиться. Вечером у него развился гипоталамический пароксизм симпато‑адреналового типа, сопровождавшийся страхом смерти. Пароксизм был купирован, операция прошла успешно, но развился выраженный невроз навязчивых состояний, что привело больного к инвалидности. К счастью, психотерапевтическое лечение оказалось эффективным.
Практически каждый больной неврозом и психосоматическим заболеванием нуждается в психотерапевтической помощи. Это очевидно. Но и каждый больной с заболеванием соматического профиля должен получать ее, ибо если внутренняя картина болезни такова, что вызывает избыточную тревогу, это может неблагоприятно сказаться на течении основного заболевания. Примером тому может служить высокая до 30–40 %, смертность от инфаркта миокарда в 50‑е гг., когда население считало это заболевание смертельным. Опасно и преуменьшение больным тяжести своего заболевания, например анозогнозия при алкоголизме. В первом случае больного нужно успокоить, а во втором – напугать. Это тоже входит в задачу психотерапии соматических расстройств.
Трудно представить, что у нас в стране скоро будет достаточное количество профессионалов‑психотерапевтов, так что обучение врачей других специальностей следует считать делом важным. Это нужно хотя бы для того, чтобы они своими действиями не наносили вреда и вовремя направляли больных на психотерапевтическое лечение.
Психотерапия крайне необходима и в психиатрических учреждениях, где работают с больными, находящимися в психотическом состоянии. Чего стоит только одна часто повторяющаяся здесь фраза: «Больной, все, что вы делаете и говорите, связано с тем, что у вас психическое заболевание». А у больного нет критики, и он считает себя здоровым. Коллеги! Если вас кто‑нибудь назовет психически больным, вы будете рассматривать это как оскорбление. Вы сдержитесь, а вот у больного усилится психомоторное возбуждение, ибо к основному заболеванию прибавится невротическое состояние, связанное с оскорблением личности. Дозу психотропных средств придется увеличить. Так больные расплачиваются своим здоровьем и деньгами за наши ошибки.
Необходимость психотерапии в наркологии не нуждается в обосновании.
Чем объяснить широкое распространение психотерапии и потребность в ней в наше время? Динамизмом нашей жизни. Мир так быстро меняется, что даже при правильном воспитании та структура личности, которая была адаптивной 10 лет тому назад, сегодня является невротизирующим фактором. Если в прошлом веке врач, окончив университет и приобретя за несколько лет опыт практической работы, мог в течение всей оставшейся жизни спокойно жить на проценты от накопленного профессионального капитала, то сейчас груз устаревших сведений при наличии личностной ригидности и нежелании использовать последние достижения науки может еще недавно авторитетного врача быстро превратить в реликт.
Современная жизнь меняет и педагогическую концепцию. В соответствии с ней человека необходимо научить не только чему‑то конкретному, но и быстро отказываться от всего устаревшего, т. е. следует все время развивать психологическую гибкость, менять систему отношений. А ведь, пожалуй, психотерапия – единственная наука, которая владеет техникой изменения отношения личности к себе, людям и труду. Собственно, это и является ее основной задачей. Вот почему психотерапия оказывается применимой и полезной повсеместно.
В этой связи уместно определить отношения психотерапии с религией и философией.
Религия тесно связана с нашим обществом, со всеми его институтами и личностью каждого человека. На большую психотерапевтическую роль религии указывал В. Франкл, который подметил, что у верующих неврозы встречаются реже. Действительно, практически во всех религиозных учениях заложены психотерапевтические идеи. Я даже сказал бы, что одна из основных задач веры – снять то напряжение, ту тревогу, которые возникают у человека по мере проникновения его в тайны мира и самого себя.
Человек – единственное в мире существо, которое осознает, что оно не по своей воле появилось на этот свет и не по своей воле уйдет. Страх смерти, осознанный или неосознанный, является постоянным спутником человека. Это источник, из которого черпают энергию остальные отрицательные эмоции.
В связи с обсуждаемым вопросом я хотел бы поговорить о чувстве одиночества. Чем выше развитие общества, тем оно может быть мучительней.
Сначала человек начал понимать, что он не такой, как неживая природа. Произошло отчуждение от последней. И богами стали неодушевленные предметы. Так, в некоторых верованиях богами были то солнце, то луна, то горы, то ветры. Это был этап анимизма, который воссоединял человека с неживой природой и успокаивал его.
Затем человек стал понимать, что он не такой, как другие животные. Тотемизм разрешил эту проблему, и богами стали животные. Это объединяло и успокаивало.
Когда человек стал понимать, что он не такой, как другие люди, когда появились Я, ВЫ и ОНИ, произошло отчуждение Я от других людей. Одним источником тревоги стало больше. Язычество разрешило эту проблему, и тогда богами стали люди. Это объединяло и успокаивало.
В наиболее развитой и увлекательной форме язычество проявилось в древнегреческой культуре и мифологии, которая до сих пор является богатым духовным источником. Недаром один из римских императоров любил повторять, что все идеи появились в Древней Греции. По‑видимому, людей с выдающимися качествами было не так много, и считалось, что те, кто ими обладает, пользуются покровительством богов или ведут от них происхождение. Это герои, как правило, полубоги‑полулюди. Смертны как люди и могущественны как боги (Ахилл, Персей, Геракл и др.).
При дальнейшем развитии цивилизации в процессе воспитания усложнились структура личности и духовная жизнь человека. Мощь интеллекта и духа далеко превосходила возможности смертного тела. Возникло отчуждение человека от самого себя. В одном месте сошлись смертное тело и бессмертный дух. Появление монотеистических религий и, в частности, иудаизма и его основных ветвей – христианства и ислама, решало и эту проблему. «Я Господь, Бог твой… Не делай себе кумира… Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» Это указание на то, что все мы сотворены по единому Закону Божиему, на который и надо равняться, а не сотворять себе авторитетов («Не делай себе кумира» – вторая заповедь), которые являлись бы образцами поведения, что следует заниматься своими делами, не произнося напрасно имени Бога. Это объединяло и успокаивало.
Теоретически все это хорошо и правильно. Действительно, исполняй все заповеди – и будешь процветать. Но на практике даже в рамках одной религии заповеди нарушаются и не могут не нарушаться. Ведь когда служитель культа объявляет себя представителем Бога на земле, волей‑неволей он становится кумиром. Но ведь он только человек, а не Бог. И неудивительно, что вся история человечества пронизана религиозными войнами и распрями. Однако виноваты не сами религиозные представления, а их толкователи. На одной из научных конференций в 1992 г. уже шла речь о православной психотерапии. Что‑то это напоминает марксистско‑ленинскую философию и мичуринскую биологию. Когда‑то мы это уже проходили. И куда тогда податься католику, магометанину и иудею? Но стоит ли отказываться от всего ценного, что дала нам религия? Конечно нет! А врачу‑психотерапевту не мешает знать религиозные представления своего пациента и использовать их для достижения терапевтического эффекта.
З. Фрейд называл верующего человеком находящимся в глубоком сне. Он не призывал его будить, но хотел, чтобы не усыпляли тех, кто еще не спит, и неоднократно повторял, что наш Бог – разум, который говорит, что наши возможности не безграничны.
З. Фрейд не возражал против заповедей религии, однако указывал, что к этим выводам можно прийти и без религиозных положений.
Например, заповедь «Не убий». Мне не нужно руководствоваться этой заповедью, если у меня все хорошо с интеллектом. Нужно только немного подумать. Если я убью ближнего своего, что из этого выйдет? Начнут преследовать. Даже если и не поймают, то я все равно буду в эмоциональном напряжении. Ничем хорошим это не кончится. И даже если меня не разоблачат, все равно мне будет плохо. Поэтому я лучше постараюсь наладить с ближним своим отношения для взаимовыгодного сотрудничества. Правда, и в Библии говорится то же самое: «Мирись с противником, пока ты еще на одном пути с ним».
«Не укради». Не проще ли научиться хорошо зарабатывать? Тогда и в голову не придет красть, да и времени не будет.
«Не прелюбодействуй». Не проще ли наладить сексуальные отношения со своим партнером? Тогда и в голову не придет желать «жены ближнего своего». Если же эти отношения налажены не будут, то все равно будешь засматриваться на других женщин. А Иисус Христос говорит, что «всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем».
Запретительный характер религиозных положений, правильных по своей сути, входит в противоречие с истинной природой человека, который стремится делать именно то, что ему запрещают. Если я сейчас буду запрещать вам просмотреть 95‑ю страницу и повторю запрет много раз, может быть, вы и не просмотрите ее, но захотите это сделать.
Не исключено, что, когда образованных людей с развитым мышлением, умеющих, не вступая в конфликт с окружающими, удовлетворять свои потребности, было немного, введение религиозных запретов имело смысл. Но сейчас, в век техники, когда мышление развито у многих людей, возникает противоречие между заповедями, требующими бездумно соблюдать правила общежития, и ростом потребностей, неумением удовлетворять их, не входя в противоречие с обществом или самим собой. Все это усиливает чувство одиночества. Кроме того, представители каждой религии утверждают, что их учение является истинным, что скорее разъединяет, чем объединяет человечество. Вот тут как раз и должны сказать свое слово психология и психотерапия. А наука нам говорит, что все люди устроены одинаково, что ожог от кипятка будет примерно одинаковым и у христианина, и у иудея, и у магометанина. Да и психологические феномены у них такие же.
Таким образом, только наука при правильном к ней подходе может решить тяжкую проблему одиночества.
Все мы устроены по одному Закону природы (верующие говорят, что по Закону Божьему). Вот на него и следует равняться, его и следует изучать. Ведь и по науке получается, что стоит равняться не на авторитеты, а только на Законы. Как Библия, так и наука говорит, что нельзя отклоняться ни вправо ни влево. И если мы будем жить не по законам авторитетов, а по Авторитету Закона, то тем самым достигнем того объединения, той трансценденции человечества, о которой мечтали все религиозные деятели. Э. Фромм справедливо заметил, что без веры жизнь бессмысленна. Вера – это тот духовный хребет, который должен быть у каждого свой собственный. А прочным он может быть только в том случае, если его устройство соответствует Законам. И чем точнее вера отражает Законы, тем стройнее и устойчивее духовный позвоночник. Без веры человек беспомощен, бесплоден и полон страха. Вера означает устойчивость.
Сомнение – это не только неуверенность. Сомнение может стать установкой, которая определяет всю личность человека. А вот на каком предмете он останавливается в своих сомнениях, это дело второстепенное.
Иррациональное сомнение не является реакцией интеллекта, а окрашивает всю интеллектуальную и эмоциональную жизнь человека. Самая крайняя форма – навязчивое невротическое сомнение, которое постоянно «вмешивается» в пустяковые вопросы. Такое сомнение всегда мучительно и свидетельствует об отсутствии цельности личности. Рациональное сомнение возникает тогда, когда ставится вопрос о правильности положений, высказанных авторитетом. Такое сомнение способствует развитию личности человека.
И вера, как писал Э. Фромм, бывает рациональной и иррациональной. «Верую, ибо абсурдно» – девиз иррациональной веры. Самый поразительный феномен иррациональной веры в наше время – это фанатическая вера в вождей. Рациональная вера представляет собой твердую убежденность, основанную на плодотворной интеллектуальной и эмоциональной деятельности. Необходимо верить в мощь разума, иначе не сделаешь открытия. Вера – необходимое условие всякой дружбы и любви. Также необходимо верить и в себя, в возможности своего ребенка. И, наконец, необходимо верить в человечество.
Э. Фромм указывал, что основой рациональной веры является плодотворность. Кто верит в силу, тот не верит в свои возможности. История показала, что сила – самое неустойчивое из человеческих завоеваний. Рациональная вера не пассивна. В ней нет ничего, выходящего за пределы человеческого опыта. Если человека научили верить в любовь, справедливость и разум, то это нельзя считать рациональной верой. К рациональной вере можно отнести идеи, к которым человек пришел сам, размышляя и действуя.
Прочтите еще раз последнее предложение. Я глубоко верующий человек. Я верю, что если поместить обнаженную руку в кипяток, то будет ожог, степень которого будет определяться временем, проведенным рукой в этом кипятке. Но она совершенно не будет зависеть от национальности, образования, вероисповедания, общественного положения, пола, возраста. Эта вера заставляет меня много работать над собой, следить за своим здоровьем, сотрудничать с людьми, ибо я знаю, что когда ничего не делаешь, то ничего и не будет, что ориентироваться нужно на объективные законы природы, а не на мнения авторитетов.
И тут намечается самая тесная связь психотерапии с философией. В трудах философов от античных времен до наших дней прослеживаются психотерапевтические идеи. Достаточно назвать Сократа, Сенеку, Шопенгауэра, Ницше, Бердяева, которые почти прямо высказывали современные психотерапевтические идеи. Философы говорили, что нужно делать, но не всегда указывали, как это сделать. Психотерапевты, занимаясь непосредственно лечением больных и консультированием, разрабатывая как, достигали выдающихся философских обобщений, и многие из них уже могли сказать что (З. Фрейд, А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни и др.).
И, может быть, основной задачей психотерапии является помощь конкретному человеку в формировании рациональной веры, коррекции духовного горба, которым он задевает других и по которому его бьют. А после коррекции психотерапия могла бы способствовать формированию собственного духовного хребта, без которого невозможна счастливая жизнь.
А так как у нас большинство населения невротизировано, то мое твердое убеждение, что без психотерапии нам не обойтись, ибо нам необходимо менять отношение к себе, людям и труду с иррационального в рациональное.
Лекция 2
Предшественники: Сократ, Джемс
История психотерапии уходит в глубь веков и описана во многих руководствах. Повторений, по‑видимому, не избежать. И на полноту изложения я не претендую. В основном буду рассматривать те положения, которые вошли в систему целенаправленного моделирования эмоций. Приводя исторические данные, я расскажу о самом методе. Не исключено, что кто‑то этим и ограничится. Вообще читать учебное пособие от корки до корки как художественную книгу никто не будет, и грех мне претендовать на это, но очень хотелось бы, чтобы оно читалось взахлеб.
А теперь обратимся к Сократу. Сократ (469–399 до н. э.) был сыном скульптора и сам стал бы скульптором, если бы его не освободил от мастерской и не дал ему образования Критон, привлеченный его душевной красотой. Поняв, что физическая философия современникам безразлична, он стал рассуждать о нравственной философии по рынкам и мастерским. Сама его биография и образ жизни могут служить образцом, к которому следует стремиться и нам, врачам, и нашим подопечным.
Основные положения научной психотерапии Сократа изложены Платоном в диалоге «Хармид». Пересказывать античных авторов дело неблагодарное – все равно получится длиннее. Перейду к цитированию. «Как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову – отдельно от тела, так и не следует лечить тело, не леча душу, и у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом, а между тем, если целое (здесь и далее выделено мною. – М. Л.) в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке. Ибо все – и хорошее и плохое – порождается в теле и во всем человеке душою, именно из нее все проистекает, точно так же, как в глазах все проистекает от головы. Потому‑то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечить же душу… должно соответствующими заклинаниями, последние же представляют собой не что иное, как Верные речи: от этих речей в душе укореняется Рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы и в области всего тела… Пусть никто не вздумает убеждать тебя излечить ему голову с помощью этого лекарства, если он прежде не даст подлечить с помощью заговора его душу. Ныне распространенной среди людей ошибкой является попытка некоторых из них лечить либо одним из этих средств, либо другим. Он [учитель Сократа] наказывал весьма настойчиво, чтобы я не поддавался на уговоры ни богатых людей, ни знатных, ни красивых и не поступал бы вопреки этому наставлению. Я же послушаюсь его (ведь я же поклялся ему, так что мне необходимо повиноваться!), и если ты пожелаешь, согласно наставлениям чужеземца, предоставить мне душу, чтобы заговорить ее заговором, то я присовокуплю к этому и лекарство; если не пожелаешь, то у меня нет средства помочь тебе, мой милый Хармид. Критий, услышав мои слова, воскликнул:
– Мой Сократ, головная боль была бы для юноши истинным даром Гермеса, если бы вынудила его ради головы усовершенствовать и свой разум!»
Здесь отражены современные положения о необходимости психотерапии во всех областях медицины, правильно решена психосоматическая проблема, поставлен вопрос о необходимости комплексного лечения, заложены идеи гештальттерапии, показана связь между эмоциями и мышлением. Сейчас ведь уже доказано, что при творческом мышлении в кровь выбрасываются эндорфины, весьма благоприятно влияющие на адаптационные процессы. А Критий указывает на сигнальное значение симптома и как бы намекает, что болезни возникают из‑за отсутствия рассудительности, что ведет к неправильному образу жизни и болезням.
Теперь позволю себе сразу перейти к XIX в. Это не значит, что на более чем двухтысячелетнем отрезке, который я пропустил, не было высказано ценных психотерапевтических идей. Просто психотерапии как отдельной специальности тогда не было. Психотерапевтические идеи высказывались философами, писателями, поэтами. Но об этом во второй части. Уильям Джемс (1848–1910) – наиболее яркая фигура в истории мировой психологии. Его идеи широко использовали основатели современных психотерапевтических направлений. Он – первый профессор психологии в Гарвардском университете, создатель первой психологической лаборатории в Америке. Среди основателей науки психологии Джемсу принадлежит особое место. По сути, им обозначен целый ряд устремленных в будущее направлений продуктивного развития новой отрасли знаний. Он осознавал, что ни один исследователь не может быть совершенно объективным. Позднее эту мысль подчеркивал Э. Фромм, когда говорил, что Учитель всегда несет в себе этические импликации: если ученики верят в то, чему вы их учите, и действуют в соответствии с этой верой, ваше учение имеет реальные последствия. И я хочу, чтобы вы мне поверили (а для этого вначале хочу вас убедить, и не только убедить, но и доказать). Вот почему Джемс не занимался развитием единого подхода.
Его философия явилась предшественницей бихевиоризма, экзистенциальной психологии, гештальттерапии, роджеровского подхода. Он легко мирился со взглядами, которые противоречили его собственным. Он указывал, что в каждом личном сознании мысли все время меняются. А если не меняются, то это уже не мысль, а штамп, ибо только при поверхностном подходе многое кажется повторяющейся мыслью.
«От года к году мы видим вещи в новом свете. То, что было нереальным, переросло в реальное, то, что было волнующим, стало скучным. Друзья, определявшие наш мир, стали бледными тенями, женщины, когда‑то божественные, звезды, ветры, воды – все переменилось». (Мысль богатая. Иногда помогает человеку, находящемуся в депрессии вследствие любовной неудачи. «А вспомни, что ты говорила два года назад о Н., и что ты думаешь о нем сейчас» – М. Л.)
Сознание селективно, «оно всегда интегрируется более одной частью объекта, чем другой, оно принимает и отвергает или выбирает все время, пока оно мыслит. Что определяет выбор – это и есть тема большей части психологии». «Только то, что я заметил, формирует мой ум. Мой опыт – это то, на что я согласился обратить внимание. Только интерес создает акценты и аспекты, свет и тени, фон и фигуру – одним словом, воспринимаемую перспективу». Нетрудно заметить, что здесь уже намечены идеи гештальтпсихологии, в основе которой лежит целостный подход, а одним из центральных понятий является понятие фигуры‑фона.
Вклад Джемса в психологию трудно переоценить. Он много говорил о привычках. Привычка отличается от инстинкта тем, что она создается, может быть изменена или устранена сознательным управлением. «Привычка упрощает движения, необходимые для достижения определенного результата, делает их более точными и менее утомительными. Привычка уменьшает сознательное внимание, с которым исполняются наши действия. Фактически наши добродетели являются привычками, как и пороки. Вся жизнь есть лишь сумма привычек… неотвратимо влекущих нас к нашей судьбе, какова бы она ни была» (основы сценарного анализа Э. Берна).
«Обычно мы видим лишь то, что предвосхищаем, предполагаем», а может быть, хотим увидеть. Почему одна идея принимается, а другая отвергается? Джемс считает, что частично это эмоциональное решение. Теория должна быть логичной и эмоционально приемлемой. Да и все решения должны быть эмоционально приемлемыми. К кому мы обращаемся за советом? Пить мне водку или нет? Я заранее знаю, что мне скажут родители, учителя, друзья. И если для меня эмоционально приемлемо пить водку, я за советом обращусь к тому, кто мне это посоветует. Нетрудно заметить, что здесь описан один из феноменов психологической защиты, который психоанализ назовет рационализацией.
Формирование привычки Джемс сравнивал с наматыванием клубка. Как только прекращаешь наматывать, сразу начинает разматываться. Он призывал больше доверять разуму. «Дайте своим эмоциям прийти или дайте им уйти… и в любом случае не придавайте им значения. Они не имеют отношения к делу. Они лишь индикатор вашего темперамента или физического состояния (уже здесь заметен когнитивный подход. – М. Л.).
Эмоциональный взрыв – одно из средств разрушения укоренившихся привычек; он освобождает человека, дает ему возможность попробовать вести себя по‑новому. Дело не в самом событии, а в том, как реагирует на него индивид».
Препятствием для личностного роста Джемс считал дурные привычки, которые делают незаметными большие глупости, и неотреагированные эмоции. Он полагал, что необходимо что‑то делать с эмоциональной энергией, блокирование которой ведет к заболеванию. Но он подчеркивал, что нет необходимости выражать сильные эмоции, если это может повредить другим и себе. Ибо причиненный вред в свою очередь вызовет сильную отрицательную эмоцию. Возникнет порочный круг. Но какой‑то выход найти необходимо, чем и занимались более поздние школы психотерапии. Джемс призывал почаще выражать благородные чувства, но в меру, ибо каждая добродетель, если она принимает преувеличенную форму, приносит вред своему обладателю.
Джемс выдвинул понятие о психологической слепоте – неспособности понять другого человека. «Мы не осознаем своей психологической слепоты (смотрим, но не видим), и это основной источник наших неприятностей. Мы начинаем решать за других, что для них хорошо, что им нужно, чему их следует учить… и впадаем в ошибку» (описаны вытеснение и проекция). Вытесняются свои отрицательные качества и проецируются на других. Получается так, что человек, глядя на другого, фактически общается со своей тенью.
Эта слепота не дает осознавать интенсивность настоящего момента. А ведь всегда «есть “изюминка”», вкус, волнение реальности». Так мы часто теряем сознавание, контакт с природой. Здесь можно узнать принципы гештальттерапии – жить «здесь и теперь» и осознавание. Как подчеркивал Джемс, «нас приучают искать исключительное, избранное (жить в будущем. – М. Л.) и не обращать внимания на обычное… Мы растем глухими и нечувствительными к более элементарным и общим радостям и благам жизни». К другим проявлениям слепоты он относил неспособность выражать чувства, отсутствие чувства меры, попустительство собственным дурным привычкам.
Джемс полагал, что, когда мы воспринимаем ситуацию, возникает инстинктивная физическая реакция, а затем мы уже осознаем эмоцию. Эмоция, с его точки зрения, основана на узнавании этого физического чувства, а не исходной ситуации. Мы чувствуем печаль, потому что плачем, нам весело, потому что смеемся. Это положение подтверждается психофармакологией. Препараты создают определенное физическое состояние, и появляется соответствующая эмоция. Улыбайтесь, и вам будет весело. На основе теоретических положений Джемс разработал ряд практических рекомендаций, самая известная из которых «keep smiling» (держи улыбку). С легкой руки Джемса сейчас улыбается вся американская нация.
Связь эмоций с мышечными движениями и деятельностью внутренних органов лежит в основе современной аутогенной тренировки.
Известна формула Джемса: самоуважение = успех: уровень притязаний. При отказе от последних человек испытывает такое же облегчение, как и при их удовлетворении. «Как прекрасен день, когда мы отказались от стремления быть молодыми или стройными. Слава богу, говорим мы, с одной иллюзией покончено… Уменьшите свой уровень притязаний, и у ваших ног будет весь мир».
Большой вклад внес Джемс в развитие педагогики. Он говорил, что обучение будет успешным тогда, когда содержание обучения будет соответствовать потребностям и интересам учащихся или хотя бы казаться соответствующим. Ученики должны осознавать связь между тем, чему они учатся, и их собственными нуждами. В преподавание необходимо постоянно вводить новое. «Предмет требует обогащения, ибо от неизменного предмета внимание неизбежно ускользает». Вот уж точно. Нельзя все время говорить одно и то же, даже если слушатели меняются. Один‑то человек всегда присутствует во всех твоих делах.
Вначале следует выработать и развить у себя способность, потребность и привычку учиться. На этом этапе содержание обучения не имеет значения. «Тогда мы сделаем нашу нервную систему помощником, а не противником. Все наши приобретения консолидируются в капитал, и мы легко сможем жить на проценты с этого капитала».
Очень важное положение, особенно в процессе воспитания детей. Если ребенок хоть чему‑то хочет учиться, пусть учится. Один девятиклассник решил пойти в охранники. Родители были в шоке, но последовали моему совету и разрешили ему учиться на охранника, для чего определили в секцию у‑шу. Там он научился упорно трудиться. Когда окончил школу, выбрал совсем другую специальность, но навык методичной работы ему очень помог.
Джемс изучал и психоделические состояния. Он экспериментировал с закисью азота (веселящим газом). «У меня было чувство интенсивного метафизического озарения. Ум видит логические связи с очевидной тонкостью и внезапностью, не имеющей параллели в обычном сознании. Дальнейшие исследования этих психоделических состояний привели к разработке таких методов, как «второе рождение» (Грофф) и «первичный крик» (Янов).
Известны исследования Джемса, посвященные биологической обратной связи. Он выдвинул положение о двух видах воли: активной и пассивной. Нас учат быть настойчивыми, упорными, преодолевать те силы, которые мешают делать то, что мы хотим. Но мы не обучены быть пассивными. Пассивная воля определяется как способность не вмешиваться, дать событиям происходить так, как они происходят, «не стараться». Тогда человек учится медитации, которую можно использовать даже при лечении рака, наркомании и алкоголизма.
Гипноз Джемс рассматривал как орудие для изучения сознания, а не как метод лечения. Он изучал и экстрасенсорные явления, но исследовал лишь доступные ему случаи и не создавал теоретических моделей. Он высказал предположения, что между матерью и грудным ребенком существует телепатическая связь, что на основе телепатии возникает чувство эмпатии.
Джемса заботило, что люди делают со своей жизнью; он был сторонником активной, вовлеченной, действенной в «гуще жизни» науки. И психотерапевты до сих пор идут по его стопам. Джемс также оказал ощутимое влияние на образование, философию и психологию. Его то принимали, то охаивали.
Чтение книг Джемса доставляет удовольствие. О том, как он писал, можно судить по следующему отрывку. «Очень важно, чтобы учителя поняли важность привычки, и психология оказывает нам в этом большую помощь. Мы, правда, говорим о дурных и хороших привычках; но большей частью, говоря о привычках, имеем в виду дурные: привычки к курению, ругательствам, пьянству, а не привычку к воздержанности, к умеренности или привычку к мужеству. Но факт состоит в том, что наши добродетели – такие же привычки, как и наши пороки. Вся наша жизнь в той мере, в какой она имеет определенную форму, – это сумма привычек – практических, эмоциональных, интеллектуальных, систематически организованных на горе или на радость нам и несущих нас неизбежно к нашей судьбе, какой бы она ни была (Э. Берн примерно так определяет сценарий. – М. Л.).
Поскольку ученики могут понять это уже в довольно раннем возрасте и поскольку понимание этого немало добавляет к их чувству ответственности, было бы хорошо, если бы учителя могли говорить с ними о философии привычки в таком же несколько абстрактном ключе, как я собираюсь сейчас поговорить с вами.
Я полагаю, что мы подлежим закону привычки вследствие того факта, что обладаем телами. Пластичность живой материи, нашей нервной системы является причиной того, что мы делаем нечто с трудом, если делаем первый раз, но постепенно мы делаем все легче и легче, наконец, после достаточной практики почти механически, едва ли осознавая вообще. Наша нервная система «врастает» в способ, каким упражнялась, как лист бумаги или кусок ткани, будучи согнут и сложен, стремится сохранить эти складки».
Привычка, таким образом, – вторая натура, или, как говорит Веллингтон, «удесятеренная природа», во всяком случае в отношении ее важности для жизни взрослых, поскольку обретенные к этому времени привычки воспитания подавили или исключили большую часть естественных тенденций, которые могли быть ранее на их месте. Девяносто девять сотых или, возможно, девятьсот девяносто девять тысячных нашей деятельности совершенно автоматичны и привычны, от утреннего вставания до вечернего отхода ко сну. Одевание и раздевание, еда и питье, приветствие и прощание, поднимание шляпы и уступание места дамам, более того, большая часть форм нашей обыденной речи столь стерилизованы повторением, что могут быть названы почти что рефлексами. На каждый род впечатлений мы имеем автоматическую, заранее готовую реакцию. То, как я вам сейчас говорю, может быть примером; прочтя уже не одну лекцию на эту тему, напечатав главу о привычке в книге, прочтя эту главу в печати, я обнаруживаю, что мой язык как бы сам попадает на старые фразы и повторяет почти буквально то, что я говорил ранее.
Итак, мы – связки привычек, стереотипизированные создания, имитаторы и копии самих себя в прошлом… При любых условиях забота учителя должна состоять в том, чтобы заложить в ученике набор привычек, которые будут наиболее полезны ему в жизни. Образование создает поведение, а привычки – тот материал, из которого поведение состоит…
Нет наиболее несчастного существа, чем человек, в котором нет ничего привычного, кроме нерешительности, для которого закуривание сигареты, поднесение ко рту чашки, время, когда он встает и ложится спать, начало любого фрагмента работы – дело явно волевого решения. Добрая половина времени такого человека уходит на решение делать и отказ от делания вещей, которые должны быть столь прочно укоренены в нем, чтобы вообще не занимать его сознания. Если такого рода ежедневные дела не укоренены в каком‑либо из моих слушателей, нужно сейчас же заняться исправлением положения.
В главе профессора Бейна о «Моральных привычках» есть несколько прекрасных замечаний; из них следуют две важные максимы. Первая состоит в том, что при обретении новой привычки или искоренении вредной старой нужно позаботиться о том, чтобы включиться в это со столь интенсивной инициативой и столь решительно, как это возможно. Используйте все возможные обстоятельства, которые могут усилить нужные мотивы; прилежно ставьте себя в условия, которые способствуют новому способу поведения, и берите на себя обязательства, не совместимые со старым; бейтесь публично об заклад, если обстоятельства это позволяют; короче говоря, окружите свое решение всяческой возможной помощью. Это даст вашему начинанию такую силу, что намерение нарушения не исполнится так скоро, как могло бы, а каждый день отсрочки нарушения увеличивает шанс, что оно не произойдет вообще.
Следующая максима такова: используйте первую же возможность реализовать решение, которое вы приняли, пользуйтесь каждым эмоциональным побуждением для обретения привычек, к которым вы стремитесь. Решающим является не формирование намерения, а порождение моторного действия, именно это передает новую связь в мозг.
Недостаточно иметь набор максим и самые лучшие чувства, если не используется каждая конкретная возможность для действия (идея, которая затем использовалась в экзистенциальном анализе. – М. Л.); такой характер может остаться совершенно невосприимчивым к лучшему. Как гласит пословица, благими намерениями вымощена дорога в ад. Это очевидное следствие из тех принципов, которые я изложил. «Характер, как говорит Дж. Ст. Милль, это совершенно сформированная воля». А волю он понимает как совокупность тенденций действовать твердо, безотлагательно и определенно во всех важных случаях жизни. Тенденция действовать укореняется пропорционально тому, сколь часто мы безотлагательно совершаем действия, и мозг «врастает» в эти действия. Если решению или тонкому отблеску чувства дают угаснуть, не принеся практического результата, это хуже, чем упущенная возможность: это прямой вред будущим решениям и эмоциям, которым будет труднее найти нормальный способ разрядки. Нет более жалкого человеческого существа, чем вялый сентиментальный мечтатель, проводящий свою жизнь в засасывающем море чувствительности и никогда не делающий конкретных человеческих дел».
Джемс дает ряд техник медитации, тренировки эмоций, осознавания и пр. Приведу упражнение для укрепления воли. Его нужно выполнять в течение 5 минут каждый день.
1. Возьмите коробку спичек.
2. Положите ее на стол перед собой.
3. Вынимайте спичку одну за другой.
4. Закройте коробку.
5. Откройте коробку.
6. Положите спички обратно, одну за другой.
7. Закройте коробку.
8. Продолжайте выполнять пункты 3–7, пока не истечет время.
Запишите, что вы чувствовали во время его выполнения. Обратите внимание на все причины, которые находили для того, чтобы прекратить это бесполезное занятие. Это неполный список личностных элементов, которые противостоят воле. После того, как проделаете это упражнение в течение пяти дней, можете пересмотреть роль воли в вашей жизни.
Открытость всему новому, антидоктринерство позволили У. Джемсу восторженно принять З. Фрейда, когда тот прибыл в Америку. Прослушав его лекции, он сказал: «Теперь ваше время».
Лекция 3
Классический психоанализ: З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер
Центральной фигурой в психоанализе и всей современной психотерапии, бесспорно, является З. Фрейд. Все последующие теории или являются дальнейшим развитием его идей, или противопоставляются им. Встречается некорректная критика, которой возмущался еще Морено. «Не стоит обращаться с З. Фрейдом, как с мертвой собакой», – писал он. С моей точки зрения, критиковать гениев – неблагодарное дело. Конечно, многого они не сделали, но они сделали, что могли. Им следует воздать должное, сказать спасибо, использовать то, что еще можно использовать, и идти дальше, если способен на это. Я буду говорить об исследователях, внесших существенный вклад в развитие современной психотерапии, о том, что они сделали и чего сделать не смогли или не успели. Но критики не будет.
Биография Зигмунда Фрейда (1856–1939) достаточно хорошо известна. Он окончил Венский университет, занимался теоретическими исследованиями, а потом частной практикой. Термин «психоанализ» он впервые применил в 1886 г. Постепенно возле него сформировался кружок единомышленников. Организовалось общество психоанализа, стал выпускаться журнал. В 1910 г. он посетил Америку и вскоре приобрел всемирную известность. Фрейд много писал. Собрание его сочинений составляет 24 тома. В 1938 г. он эмигрировал в Англию, где через год умер.
Фрейд не позволял менять детали техники психоанализа, боясь, что это может подорвать его силу и возможности. Поэтому многие его ученики отошли от него и создали свои направления.
Представим современную психотерапию в виде деревьев, ветви которых переплетаются (см. рис.). Тогда почвой можно считать учения таких мудрецов, как Сократ и Джемс, а также произведения лучших представителей философской мысли, литературы и т. д. Дерево психоаналитических направлений следует признать самым мощным, а его ствол – Фрейд. Значение его трудов не только для медицины, но и для всей человеческой культуры трудно переоценить. Недаром А. Эйнштейн назвал его Коперником бессознательного.
Случайно ли сделал свое открытие Фрейд? Конечно нет! Раньше условия жизни менялись медленно, переходы из одной социальной группы и переезды с места на место были редкими, и бессознательное, от которого зависят поступки человека, поведение и судьба, не выступало на первый план. Человек, окончивший медицинский факультет университета, с багажом, приобретенным во время учебы, мог благополучно просуществовать в течение всей своей жизни и даже передать свои знания детям. Сейчас быстротечность изменений реальной действительности требует постоянной подстройки под нее. Тут‑то и выясняется, что одного осознания, что следует менять себя, недостаточно. Уже понял, что нужно изменять себя, а не можешь. Начинается внутренний конфликт. Чтобы избежать его, психотравмирующие стимулы должны быть вытеснены в бессознательное, потом появляются рационализация, проекция, сублимация и прочие механизмы, которые описал Фрейд и его ученики. Все эти механизмы действовали, но названий еще не имели.
Проблемы, которые описываются сейчас в терминах современной психологии и психотерапии, раньше волновали лишь некоторых, находящихся на вершине достижений тогдашней цивилизации, да и то лишь тех, кто обеспечивал прогресс общества. Большинства же они не касались, а если и касались, то все равно были тихие заводи, где можно было благополучно отсидеться, наблюдая за происходящим из окна.
В конце XIX – начале XX в. изменения условий существования стали касаться большинства. Прогресс пришел в самые глухие места. Вера в Бога перестала успокаивать, и проблема невротичности начинала захватывать мир. А раньше невротические проблемы касались лишь некоторых и описывались они в художественных произведениях. Героями их были представители высших классов. Низшие классы боролись с нуждой. Им было не до неврозов. Застывшие личностные структуры мешали адаптации, неврозы стали самым распространенным заболеванием.
В области медицины и психологии Фрейд разрабатывал три проблемы и выдвинул три концепции: этажи личности; детская сексуальность; лечение неврозов. По З. Фрейду, личность имеет три этажа: нижний – бессознательное «ID» («ОНО»); средний – предсознательное «EGO» («Я»); верхний – сознательное «SUPER‑EGO» («СВЕРХ‑Я»).
Рассуждения Фрейда были умозрительными. И можно поражаться его интуиции, так как многие положения в дальнейшем получили экспериментальное и клиническое подтверждение.
По З. Фрейду, «ОНО» работает по принципу удовольствия, «Я» – по принципу реальности, ибо знает, что при неверном поступке последует наказание. «СВЕРХ‑Я» – это могучая сила морально‑этических норм, чаще удерживающая, но иногда заставляющая совершать те или иные поступки. Это наша совесть, наш внутренний страж, а иногда и тиран с кнутом.
Люди, работающие и живущие только по принципу «ОНО», – это низшие биологические существа. Даже у собаки ее «Я» контролирует «ОНО», что позволяет ей избегать наказания. «СВЕРХ‑Я» вырастает из «Я» и сдерживает личность сильнее, чем «Я». «Я» удерживает человека от воровства страхом наказания, «СВЕРХ‑Я» – муками совести. Конечно, обществу выгодно, чтобы внутри каждого человека был внутренний сторож.
«ОНО» имеет энергию возбуждения (катексис), «Я» и «СВЕРХ‑Я» – энергию торможения (антикатексис). Какой же инстинкт тормозится сильнее всего? У человека сильнее всего тормозится сексуальный инстинкт. У животных он тормозится реальными условиями – необходимостью удовлетворять пищевой и оборонительный инстинкты. Условия жизни человека (легкость добывания пропитания и хорошая защита) не вызывают такого торможения. Вместо него действует «СВЕРХ‑Я», которое тормозит сексуальный инстинкт в ряде случаев еще сильнее, чем «Я», вытесняя его в «ОНО». У некоторых людей сексуальный инстинкт настолько вытеснен, что они не ощущают сексуальной потребности («Мне это не надо»).
Но ведь исчезнуть эта потребность не может! И когда «Я» спит, «ОНО» остается наедине со «СВЕРХ‑Я» и распоясывается. Человеку снятся сексуальные сцены, а при сильном «СВЕРХ‑Я» – символы. Мужчины видят во сне сумки, ящики (символы вагины), женщины – трости, зонты (символы фаллоса).
- И снится чудный сон Татьяне.
- Ей снится, будто бы она
- Идет по снеговой поляне,
- Печальной мглой окружена;
- В сугробах снежных перед нею
- Шумит, клубит волной своею
- Кипучий, темный и седой
- Поток, не скованный зимой
(символ неэрегированного фаллоса. – М. Л.);
- Две жердочки, склеены льдиной,
- Дрожащий, гибельный мосток,
- Положены через поток
(сон стал глубже, уже снится символ эрегированного фаллоса. – М. Л.);
- И пред шумящею пучиной,
- Недоумения полна,
- Остановилася она.
- Как на досадную разлуку,
- Татьяна ропщет на ручей;
- Не видит никого, кто руку
- С той стороны подал бы ей;
- Но вдруг сугроб зашевелился.
- И кто ж из‑под него явился?
- Большой взъерошенный медведь;
- Татьяна ах! а он реветь,
- И лапу с острыми когтями
- Ей протянул; она скрепясь
- Дрожащей ручкой оперлась
- И боязливыми шагами
- Перебралась через ручей;
- Пошла – и что ж? медведь за ней!
(«СВЕРХ‑Я» еще не уснуло, и возлюбленный является в образе медведя. Ведь если бы это было не так, Татьяна не протянула бы ему руку. – М. Л.)
Но вернемся к Татьяне и посмотрим, что ей снится.
- Она, взглянуть назад не смея,
- Поспешный ускоряет шаг;
- Но от косматого лакея
- Не может убежать никак
(или не хочет. – М. Л.);
- Кряхтя, валит медведь несносный;
- Пред ними лес; недвижны сосны
- В своей нахмуренной красе;
- Отягчены их ветви все
- Клоками снега; сквозь вершины
- Осин, берез и лип нагих
(символы фаллоса. – М. Л.)
- Сияет луч светил ночных;
- Дороги нет; кусты, стремнины
- Метелью все занесены,
- Глубоко в снег погружены.
Кстати, многих девочек мамы воспитывают примерно так.
«Мужчины – это грязные животные, будь с ними осторожнее». Вот девочку и раздирают противоречия. «ОНО» тянет к противоположному полу, а «СВЕРХ‑Я» пугает и отталкивает. Если «СВЕРХ‑Я» побеждает, девочка с мальчиками не общается и не приобретает соответствующего опыта. Реальность
(«Я») приведет к замужеству. И без опыта предварительных ухаживаний начинается сексуальная жизнь. Вот где истоки сексуальной холодности!
- Татьяна в лес; медведь за нею;
- Снег рыхлый по колено ей;
- То длинный сук ее за шею
(пошли в ход руки. – М. Л.)
- Зацепит вдруг, то из ушей
- Златые серьги вырвет силой;
- То в хрупком снеге с ножки милой
- Увязнет мокрый башмачок;
- То выронит она платок;
- Поднять ей некогда; боится,
- Медведя слышит за собой,
- И даже трепетной рукой
- Одежды край поднять стыдится;
- Она бежит, он все вослед:
- И сил уже бежать ей нет
(да и не хочется. Оправдание «ОНО» перед «СВЕРХ‑Я» – М. Л.).
Татьяна засыпает глубже. Возникают картины почти сексуального содержания.
- Упала в снег; медведь проворно
- Ее хватает и несет;
- Она бесчувственно‑покорна
(сама не знаю, как получилось. – М. Л.),
- Не шевельнется, не дохнет;
- Он мчит ее лесной дорогой;
- Вдруг меж дерев шалаш убогой
(с милым рай в шалаше. – М. Л.);
- Кругом все глушь; отвсюду он
- Пустынным снегом занесен,
- И ярко светится окошко,
- И в шалаше и крик и шум;
- Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
- Погрейся у него немножко!»
- И в сени прямо он идет
- И на порог ее кладет
(сон продолжает углубляться – медведь уже заговорил человеческим голосом. – М. Л.).
- Опомнилась, глядит Татьяна:
- Медведя нет; она в сенях;
- За дверью крик и звон стакана,
- Как на больших похоронах;
- Не видя тут ни капли толку,
- Глядит она тихонько в щелку,
- И что же видит?.. за столом
- Сидят чудовища кругом:
- Один в рогах с собачьей мордой,
- Другой с петушьей головой,
- Здесь ведьма с козьей бородой,
- Тут остов чопорный и гордый…
Опускаю описание других чудовищ.
- Но что подумала Татьяна,
- Когда узнала меж гостей
- Того, кто мил (для «ОНО». – М. Л.)
- и страшен ей (для «СВЕРХ‑Я». – М. Л.),
- Героя нашего романа!
- Онегин за столом сидит
- И в дверь украдкою глядит.
- Он знак подаст – и все хлопочут;
- Он пьет – все пьют и все кричат;
- Он засмеется – все хохочут;
- Нахмурит брови – все молчат;
- Он там хозяин, это ясно.
- И Тане уж не так ужасно,
- И, любопытная, теперь
- Немного растворила дверь…
- Вдруг ветер дунул, загашая
- Огонь светильников ночных;
- Смутилась шайка домовых;
- Онегин, взорами сверкая,
- Из‑за стола, гремя, встает;
- Все встали; он к дверям идет.
- И страшно ей; и торопливо
- Татьяна силится бежать
(«СВЕРХ‑Я». – М. Л.)
- Нельзя никак; нетерпеливо метаясь, хочет закричать;
- Не может; дверь толкнул Евгений
(работа «ОНО». – М. Л.)
- И взорам адских приведений
- Явилась дева; ярый смех
- Раздался дико; очи всех,
- Копыты, хоботы кривые,
- Хвосты хохлатые, клыки,
- Усы, кровавы языки,
- Рога и пальцы костяные,
- Все указуют на нее,
- И все кричат: мое, мое!
- Мое! – сказал Евгений грозно,
- И шайка вся сокрылась вдруг;
- Осталася во тьме морозной
- Младая дева с ним сам‑друг…
Читая эти строки, я вдруг увидел, как молодой человек в общественном транспорте обнимает свою подружку. Она с восхищением смотрит на него. И вся шайка (пассажиры) исчезают. Это очень красивая сцена. Не осуждайте их! Не мешайте им! Лучше украдкой полюбуйтесь ими и поучитесь у них так относиться к своим мужьям и женам, когда остаетесь наедине. Но вернемся к сну Татьяны.
- Онегин тихо увлекает
- Татьяну в угол и слагает
- Ее на шаткую скамью
- И клонит голову свою
- К ней на плечо; вдруг Ольга входит
(тут вмешалось «СВЕРХ‑Я». – М. Л.),
- За нею Ленский; свет блеснул;
- Онегин руку замахнул,
- И дико он очами бродит,
- И незваных гостей бранит
(фрустрационное поведение. – М. Л.);
- Татьяна чуть жива лежит.
«ОНО» и «СВЕРХ‑Я» продолжают скандалить. В жизни, особенно нашей, когда мораль претерпела существенные изменения, хотя бы во сне побеждает «ОНО». Но тут XIX век.
- Спор громче, громче; вдруг Евгений
- Хватает длинный нож, и вмиг
(символ фаллоса. – М. Л.)
- Повержен Ленский; страшно тени
- Сгустились; нестерпимый крик
- Раздался… хижина шатнулась…
- И Таня в ужасе проснулась…
«СВЕРХ‑Я» даже во сне не дало довести дело до конца. Но Татьяна не очень закомплексована. У сильно невротизированных личностей и ханжей символика более сложная, и вытянуть из сновидений реальность достаточно трудно. З. Фрейд создал символику сновидений и расшифровывал истинный сигнал. Он считал, что в норме неизрасходованная энергия «ОНО» направляется на творческую деятельность (сублимация) или представляется в виде механизмов психологической защиты и симптомов невроза. Психоанализ позволяет продуктивным образом разрядить энергию «ОНО» и избавить человека от невроза.
Ханжи совершенно несправедливо обвиняли Фрейда в пан‑сексуализме, так как он в термины «сексуальное», «либидо» вкладывал совсем другое содержание. Он просто призывал правильно удовлетворять прямой сексуальный инстинкт, указывая, что его можно очень долго подавлять и сублимировать, но кое‑что необходимо использовать по прямому назначению.
Три основных инстинкта – пищевой, оборонительный и сексуальный – Фрейд разделил на два: эрос – инстинкт любви, ведущий к соединению, и танатос – инстинкт смерти, ведущий к разобщению, разрушению.
Пищевой инстинкт он распределил между эросом и танатосом. Когда мы поглощаем пищу, можно наблюдать действие эроса, диссимиляция – проявление танатоса. Дружеские отношения – проявления эроса, враждебные – танатоса.
Фрейд описал четыре фазы развития сексуальности: орального каннибализма, анального садизма, фаллическая и зрелой сексуальности.
I фаза – орального каннибализма – связана с сосательным рефлексом и имеет огромное биологическое значение, ибо способствует выживанию. Если она затягивается, то в дальнейшем может проявиться грубой оральной сексуальной патологией. В более мягкой форме сохраняется в виде чрезмерного влечения к еде, выпивке, курению, болтовне с чрезмерной артикуляцией. Одна из моих пациенток, женщина 35 лет с выраженной депрессивной симптоматикой, рассказала, что до 28 лет у нее не возникало проблем, ибо по вечерам она часами «висела» на телефоне, болтая с подругами. Когда те обзавелись семьями, она стала страдать от одиночества. Трагедия ее заключалась в том, что влечения к мужчинам она не испытывала. В норме рот остается одной из эрогенных зон, и у зрелых личностей сексуальное сближение начинается с разговоров и поцелуев.
II фаза – анального садизма – проявляется стремлением детей подольше сидеть на горшке. В биологическом плане она полезна, ибо приучает детей к опрятности. Задержка на этой стадии может привести к гомосексуальным нарушениям. В мягкой форме она проявляется так называемым анальным характером, характерные черты которого аккуратность, бережливость и упрямство. Фрейд описывал анальные семьи.
III фаза – фаллическая. Биологической необходимости в ней нет, но она связана в выбросом в кровь половых гормонов. В это время происходит половая идентификация. Мальчик начинает осознавать себя мальчиком, девочка – девочкой. Отмечается внимание к половым органам в виде детской мастурбации, которая проходит сама по себе. Часто запретами родители привлекают внимание детей к данной зоне. Это ведет к задержке развития на этой стадии, что может проявляться онанизмом как сексуальным расстройством. В норме раздражение половых органов остается одной из форм предварительных ласк.
К этому времени у мальчиков формируется Эдипов комплекс (половое влечение к матери со страхом кастрации), а у девочек – комплекс Электры (половое влечение к отцу и чувство зависти по отношению к мальчикам, имеющим фаллос). Названия комплексов заимствованы из греческой мифологии. Эдип, сам того не зная, убил отца и женился на матери. Когда все выяснилось, он выколол себе глаза. Электра, дочь царя Агамемнона, убитого своей женой, настояла, чтобы ее брат убил мать. К 5 годам эти комплексы вытесняются в бессознательное. В норме мальчик выбирает сублимацию, что помогает социализации. В реальной жизни это проявляется тем, что довольно часто сыновья ближе к матерям и выбирают себе супругу, чем‑то напоминающую мать. Если контакт между сыном и матерью чрезмерный и происходит идеализация матери, у мужчины будут трудности в выборе партнерши. В патологических случаях разовьется невроз, в более мягких случаях гарантирован конфликт невестки и свекрови. Вот почему мамам я настоятельно рекомендовал бы не ласкать своих сыновей, когда им уже исполнилось 5 лет, а лучше прекратить это делать еще раньше. У девочек комплекс Электры проявляется тем, что нередко дочери ближе к отцу, а женщина выбирает себе супруга, чем‑то напоминающего отца. Если контакт между дочерью и отцом чрезмерный, то у женщины возникают трудности в выборе сексуального партнера. Все мужчины кажутся недостойными по сравнению с идеализированным отцом. В тяжелых случаях развивается невроз.
IV фаза – латентная, когда неразрешимые сексуальные желания не привлекают внимания «Я» и успешно подавляются «СВЕРХ‑Я». В это время возникают стыд, отвращение, мораль, которые будут противостоять бурям периода полового созревания и направлять просыпающиеся сексуальные желания. Сексуального влечения в это время нет. Вот здесь бы и налечь на учебу. Но нудная учеба в школе приводит к чрезмерно раннему развитию сексуального влечения. Очень рано развивается следующая фаза.
V фаза – генитальная – наступает с приходом половой зрелости и возвращает внимание либидинозной энергии к половым органам. Юноши и девушки начинают искать пути удовлетворения своих эротических потребностей. В общем, я хочу подчеркнуть, что идеи Фрейда в прямом их виде до сих пор имеют прямую практическую значимость.
Фрейд назвал свою теорию и практику психоанализом. «Психоанализ – это название (1) процедуры исследования психических процессов, которые почти недостижимы никаким другим способом, (2) метода (основанного на таком исследовании) лечения невротических нарушений и (3) суммы психологической информации, полученной таким путем, постепенно собираемой в научную дисциплину».
Цель психоанализа – освободить ранее недоступный бессознательный материал так, чтобы можно было оперировать им сознательно. Сокрытие этого материала требует постоянного расхода энергии. Если этот материал становится доступным, энергия высвобождается и может быть успешно использована «Я». Люди освобождаются от страданий, которые сами себе приносят, и начинают расти.
Препятствием для роста З. Фрейд считает тревожность, которая вызывается ожидаемыми неприятностями и потерями: потеря желаемого объекта, любви, себя, любви к себе. Есть два способа уменьшить тревожность: непосредственно обратиться к ситуации (здоровый путь) и исказить или отрицать саму ситуацию (защитные механизмы).
Фрейд описал следующие механизмы психологической защиты: сублимация, рационализация, реактивное образование, изоляция, проекция и регрессия.
В дальнейшем мы подробно коснемся всех форм психологических защит, описанных классиками психоаналитических направлений. Здесь мы дадим лишь определения Фрейда.
Сущность сублимации заключается в переключении энергии на цели социальной деятельности или культурного творчества. Но сублимация не осуществляется раз и навсегда, она требует постоянного расхода энергии для поддержания подавления, а подавленное постоянно стремится найти выход. Некоторые истерические и психосоматические симптомы вызваны подавлением.
Вытеснение – попытка не принимать в качестве реальности событие, которое беспокоит личность. Взрослые имеют тенденцию говорить, что определенные события не таковы, каковы они есть, или что они не происходили.
Рационализация – нахождение приемлемых причин или оснований для неприемлемых мыслей и действий. Объясните, почему вы перепиваете, переедаете и недосыпаете под Новый год? Рационализация – это способ принять давление «СВЕРХ‑Я», она скрывает истинные мотивы и делает наши действия социально приемлемыми, но препятствует личностному росту, ибо не дает работать с истиной, которая часто бывает не очень приятной.
Реактивное образование подменяет поведение и чувствование такими формами поведения, которые прямо противоположны истинному желанию (ненависть вместо любви). Главные характеристики реактивных образований – преувеличение, экстравагантность и ригидность.
Изоляция – отделение вызывающей тревожность части ситуации от остальной сферы души. Ребенок, играя, от имени зверюшки совершает социально неприемлемые действия.
Проекция – приписывание другому человеку, животному или объекту своих качеств, чувств, намерений.
Регрессия – возвращение на более ранний уровень развития (поведение во время фрустрации) – курение, выпивка, ковыряние в носу, рискованное вождение машины, азартные игры.
Защиты связывают психическую энергию, которая могла бы быть использована в более полезных деятельностях «Я».
Исследования З. Фрейда вышли далеко за пределы медицины. Его можно также считать одним из основателей современной психологии, ибо он дал свою модель личности, к которой подходит с точки зрения физического тела, утверждая, что все побуждения вытекают из физических источников. Он утверждал, что первые отношения, которые возникают в семье, являются определяющими. Наши выборы в жизни – любимые, друзья, начальники и даже враги – производные наших детских связей. И во взрослой жизни разыгрываются сцены нашего детства, хотя это не всегда осознается. Жизнь подростка, юноши или девушки, взрослого, дружба и браки – воспроизведение незавершенных сюжетов того, что начиналось в раннем детстве.
В структуре личности меньшее значение он придавал воле. Посредством воли удается только подавлять, что в конечном итоге скажется неблагоприятным образом на жизни. Мы прежде всего не рациональные животные, а влекомы могущественными эмоциональными силами, действующими подчас бессознательно, интеллект – это только оружие, которым мы располагаем, чтобы расстаться с иллюзиями. Наиболее поразительными чертами самого З. Фрейда были его страсть к истине и бескомпромиссная вера в разум. Предоставляю ему слово. Я хотел бы, чтобы вы прочли эти полторы страницы, выписали бы кое‑что в свою записную книжку, а я обещаю не перебивать ваше чтение своими комментариями. Разве что курсивом.
«Она» [иллюзия] имеет сходство с бредом, но она не находится в таком противоречии с действительностью, как бред. Девушка‑мещанка может предаться иллюзии, что на ней женится принц.
Вера – это тоже иллюзия, где присутствует исполнение желания. Множество людей находит свое единственное утешение, лишь с ее помощью они могут выносить жизнь.
У верующего веры не отнимешь ни доказательствами, ни запретами. Кто десятилетиями принимал снотворное, не может спать, если лишить его этого средства. Некоторые утверждают, что человек не может обходиться без утешения религиозной иллюзией, что без нее он не вынес бы тягот жизни, жестокой действительности. Да, не вынес бы человек, которому с детства вливали этот сладкий или сладко‑горький яд. Ну, а другой, кто получил трезвое воспитание, но не страдает неврозом, не нуждается в интоксикации, невроз заглушающей. Отказавшись от религии, он должен войти во «враждебную жизнь». Но инфантилизм надо преодолеть. Не может же человек вечно оставаться ребенком! Единственное средство – это воспитание в реальности.
Не надо бояться, что ребенок не выдержит столь трудного воспитания. Позвольте нам все‑таки надеяться.
Что‑нибудь да значит, когда знаешь, что рассчитывать приходится на одни лишь собственные силы. Тогда научишься их правильно применять.
А что касается великих необходимостей судьбы, которых избежать невозможно, он научится переносить их с покорностью. Когда человек перестанет ожидать от мира чего‑то потустороннего и сосредоточит все освободившиеся силы на земной жизни, тогда человек достигнет того, что жизнь станет выносимой и культура не будет никого подавлять.
- И уступаем ангелам и воробьям
- Мы наши небеса.
Многие учения, применявшиеся… с целью воспитания, нередко ставили преграды мышлению более зрелых лет, как и религия.
Мы можем сколько угодно подчеркивать бессилие интеллекта по сравнению с властью человеческих первичных позывов. Однако этой слабости присуща некоторая особенность. Голос интеллекта тих, но он не успокаивается до тех пор, пока его не услышат. В конце концов, после бесчисленных отпоров слушатели находятся.
Наш бог, Logos, может быть, не очень всемогущ, и в состоянии исполнить лишь малую часть того, что обещали его предшественники. Если мы это поймем, то примем его с покорностью. Интереса к миру и жизни мы не потеряем, так как интеллект – это надежная точка опоры.
Вера в науку не иллюзия, так как наука может нам кое‑что дать. Иллюзией было бы верить, что мы откуда‑то могли бы получить то, что наука нам дать не может.
Ну, и каково? Надеяться только на собственные силы. Говорить тихо, но повторять. Рано или поздно слушатели находятся. Для меня это как руководство к действию. Как только стал надеяться на собственные силы, так что‑то сделал. Помощники нашлись. Как стал говорить тихо, так и слушатели нашлись.
Фрейд увидел, что любой аспект бессознательного в свете сознания может быть рассмотрен рационально. Пусть «ЭГО» будет там, где было «ИД». Если первоначальное побуждение не подавляется, «Я», использующее интеллект, находит безопасный путь для его удовлетворения.
Сам Фрейд применял свои теории в практике психоанализа. Он указывал, что аналитиком может быть только тот, кто сам прошел анализ, чтобы не смешивать свои потребности с потребностями пациента. «В глазах закона шарлатан – тот, кто лечит пациентов без диплома. Я предпочитаю другое определение: шарлатан – это тот, кто предпринимает лечение, не обладая для этого необходимыми знаниями и способностями». И эту фразу я часто повторяю на лекциях врачам. На некоторых это подействовало. Их было 2 группы. Меньшая ушла из медицины, бо́льшая стала хорошими врачами.
Роль врача в психоанализе – поддерживать все откровения больного без критики и ободрения. Он служит зеркалом, в котором пациент видит свою личность, белым экраном для высказываний больного. Терапевт представляет пациенту свою личность в возможно меньшей степени. Это дает возможность больному трактовать аналитика множеством способов, перенося на него отношения, идеи, которые в действительности принадлежат людям из прошлого пациента. Перенесение является критически важным. Благодаря ему удается разложить симптом на элементы, высвободить инстинктивный импульс из определенной связи. Улучшение старых и создание новых и более здоровых привычек происходит без вмешательства терапевта. Психосинтез достигается во время психоаналитического лечения без вмешательства врача, автоматически и с необходимостью. Психонализ пригоден не для всех. Область его применения – неврозы перенесения: фобии, истерия, неврозы навязчивости, нарушения характера, являющиеся результатом этих неврозов.
Идеи Фрейда повлияли на психологию, литературу, искусство, антропологию, социологию и медицину. Чтение работ Фрейда – открытие для каждого читающего. Не со всем соглашаешься. Но с ним стоит иметь дело. Ваша реакция на Фрейда – это индикатор вашего состояния. И как говорил поэт У. Оден, «хотя это часто ошибочно, а иногда и прямо абсурдно, для нас это более чем личность – это целое умонастроение эпохи». Внимательный читатель даже в небольших отрывках из произведений Фрейда, которые я здесь поместил, увидит те принципы, которые затем развивались в других, и не только психоаналитических, направлениях.
Если вы, читая Фрейда, утомились, то Юнга пропустите вообще. Потом прочтете. Но если вы любитель мистики, то прочтите обязательно. Хотя, как я понял Юнга, он атеист.
Карл Густав Юнг (1875–1961) родился в Швейцарии. После учебы обосновался в Цюрихе. В 1904 г. организовал экспериментальную психологическую лабораторию, где разработал ассоциативный тест, который и сейчас широко используется для психологической диагностики. Он сблизился с Фрейдом, который стал считать Юнга своим последователем, хотя неодобрительно относился к его интересам в области мифологии и оккультизма. В 1912 г. произошел разрыв, так как Юнг предложил применять психоанализ при расшифровке мифов, сказок, религиозных символов и символов искусства.
Юнг высоко ценил Фрейда. Он писал: «… считая сны наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он [Фрейд] вернул человечеству орудие, которое казалось безвозвратно потерянным».
Юнговское представление о личном бессознательном совпадает с трактовкой Фрейда. Но он формирует также понятие о коллективном бессознательном. Его содержание универсально и не коренится в нашем личном опыте. Читая работы Юнга и работы о нем, я пришел к выводу, что коллективное бессознательное есть частный случай учения об истине. Истина объективна в том смысле, что ей безразлично, что о ней говорят. Земля вертится. И даже если все будут утверждать, что она не вертится, такое высказывание истиной не назовешь. Все Законы природы, в том числе и законы психологии, существовали, существуют и будут существовать вечно. Вода при 100 градусах и нормальном давлении закипает. Это Закон. На Солнце он не действует. Но если на Солнце условия изменятся и станут такими же, как на Земле, тогда и на Солнце вода закипит при 100 градусах. Ученые не создают Законы природы. Они их открывают и описывают. Точно так же это верно и для бессознательного. Коль уж появился человек, то у него возникло и бессознательное.
Содержание этого бессознательного у каждого индивидуума закономерно модифицируется в соответствии с его индивидуальными особенностями. Ведь и вода в горах, где давление ниже, закипает при температуре менее чем 100 градусов. Неизменно только то, что при нагревании жидкости закипают. О наличии коллективного бессознательного говорит тот факт, что в легендах и мифах многих народов описывается примерно одно и то же. Коллективное бессознательное – как воздух, который одинаков повсюду, им дышат все, и он не принадлежит никому. Понятно, что у этого коллективного бессознательного есть и свои архетипы. Это оболочка, которая в течение жизни наполняется конкретным содержанием. Например, архетип матери, в который входит не только реальная мать, но и все, кто кормит и воспитывает. Это паттерны психического формирования вообще. И мистики в данных утверждениях нет. Вернувшись из путешествия по Индии, Юнг писал: «Я старательно избегал встреч с так называемыми “святыми”. Я поступал так потому, что я должен следовать моей собственной истине, а не принимать от других то, чего я не смог достичь сам».
И еще одна метафора, которая помогла мне понять, что такое коллективное бессознательное. Если нос, волосы, глаза, уши, ноги, руки и т. д. считать коллективным бессознательным, то форма носа, цвет волос и глаз, особенности мочки уха и длина рук и ног являются индивидуальным бессознательным.
От Юнга в практику прочно вошел ассоциативный эксперимент, о котором я уже упоминал, и понятия экстраверсии‑интроверсии, которые в наших учебниках психологии рассматриваются как свойства темперамента.
Юнг полагал, что поведение интровертов во многом зависит от внутренних представлений, а экстравертов – от внешних впечатлений. Иными словами, энергия интровертов направлена к внутреннему миру, экстравертов – к внешнему. Чистых интровертов и чистых экстравертов нет. Что лучше, что хуже – вопрос неправомерный. Лучше всего принимать ту ориентацию, которая более всего подходит к каждому конкретному случаю. Когда нужно четко выполнить задание, лучше поручить это дело интроверту. Когда идут поиски вариантов, быстрее найти лучший сможет экстраверт. Мужчина‑интроверт (среди мужчин их больше) пойдет себе покупать брюки. Он будет знать четко все параметры (цвет, фасон, материал и пр.) этих брюк. Он их или купит, обойдя все магазины в округе, или не купит, принесет деньги домой и не будет знать, что делалось в соседних отделах магазинов, в которых он побывал. Все это вызовет возмущение его жены. Она пойдет сама покупать ему брюки. Не знаю, купит она их или нет, но деньги домой не принесет. Это уж точно. При неврозе у экстравертов в бессознательное вытесняется их интровертированная часть, у интровертов – экстравертированная. Суть психоанализа – добиться равновесия.
Юнг выделяет четыре основные психические функции: ощущение, мышление, чувствование и интуиция. «Чтобы ориентироваться, мы должны обладать функцией, которая свидетельствует о том, что нечто наличествует (ощущение); вторая функция устанавливает, что именно наличествует (мышление); третья решает, подходяще это или нет, хотим ли мы это принять (чувствование); и четвертая указывает, откуда это пришло и к чему это приведет (интуиция)». К сожалению, эти четыре функции развиты у человека не в одинаковой степени. Обычно одна функция доминирует и развита хорошо, а еще одна, относительно развитая, является компенсаторной. Остальные две бессознательные. Их Юнг называет низшими. Их действие может показаться демоническим влиянием. Так, у мыслительного типа сексуальные импульсы, вышедшие из‑под контроля, могут восприниматься как таинственные.
Из комбинации экстравертированности/интровертированности и четырех психических функций Юнг описывает восемь типов личности: тип мыслительного экстраверта и мыслительного интроверта и т. п.
Большое внимание Юнг уделяет анализу сновидений. Основную функцию снов он видит в том, чтобы восстановить психическое равновесие. Юнг подходит к снам как к живой реальности, которая должна быть пережита и понята, ибо это сообщение о продолжающихся бессознательных процессах, которым надо дать право голоса. Когда бессознательное выпускается на волю, оно перестает быть демоном, а становится ангелом.
Юнг создал свою структуру личности, состоящую из «ЭГО» («Я»), Персоны, Тени, Души.
«ЭГО» – центр сознания и один из основных архетипов личности. Его содержание и функции совпадают с «ЭГО» Фрейда. Оно стоит между сознанием и бессознательным.
Персона – то, какими мы предстаем перед миром. Она включает социальные роли, одежду, индивидуальный стиль самовыражения. Персона может задушить индивидуальность. Все‑таки Персона – это только фасад. Юнг назвал ее архетипом комфортности. Но с другой стороны, Персона защищает «ЭГО» и Душу в целом от различных деструктивных сил. Персона – прекрасный инструмент для коммуникации.
Тень – центр личностного бессознательного, фокус для материала, который был вытеснен из сознания. В нем собирается все то, что несовместимо с Персоной или противоречит социальным идеалам. В снах Тень выступает как животное, карлик, бродяга или иная фигура, наделенная низким статусом. Если Тень не осознается, то индивидуум проецирует свои отрицательные качества на других людей или остается во власти Тени, не осознавая этого. Каждая вытесняемая в бессознательное частица Тени ограничивает нас. В Тени много позитивного. Это хранилище нашей энергии, спонтанности, творчества. Тень с нами всю жизнь, и чтобы иметь с ней дело, нужно вглядываться в себя и честно сознавать, что мы видим. С Тенью нужно вести терпеливые переговоры. Иногда эти переговоры доставляют страдания. Страдания показывают, до какой степени мы невыносимы для самого себя. Но при успешном ведении этих переговоров мы станем сами собой. «Примирись с врагом своим, внешним и внутренним! – пишет Юнг. – Вот в чем проблема. Такое примирение не унизит ни тебя, ни твоего врага. Я понимаю, что правильную формулу нелегко найти, но если это удается – вы становитесь целостным, а это, я думаю, и есть смысл человеческой жизни».
Если этого не происходит, человек отбрасывает свою Тень на других и не знает не только других, но и себя. Общается не с другими, а со своей Тенью, с худшими ее качествами, и смена партнеров по общению не может изменить его трагического существования.
Душа (Анима, Анимус) – то неосознаваемое противоположного пола, которое есть в каждом человеке. Женское неосознаваемое начало в мужчине Юнг назвал Анимой, а мужское начало в женщине – Анимусом. Поскольку этот образ бессознателен, то у мужчины он проецируется на любимую женщину и является одним из главных оснований для привлечения или отталкивания. Мать у мальчика и отец у девочки оказывают значительное влияние на развитие Анимы и Анимуса. Этот архетип – один из наиболее влияющих на поведение. Он проявляется в снах и фантазиях как фигура противоположного пола и действует как посредник между сознательными и бессознательными процессами. Он первоначально ориентирован на внутренние процессы, как Персона – на внешние. Это путь к творчеству в Душе, ибо данный архетип является источником проекций и образов. Не случайно мужчины, занимающиеся творческим трудом (писатели, художники и поэты), представляют свою Музу в виде богини‑женщины.
Тень и Анима (Анимус) совпадают с представлениями Фрейда об «ОНО». Когда сознание и бессознательное дополняют друг друга, составляют единое целое, они представляют собой архетип самости. Самость – это внутренний руководящий фактор, отличный от «ЭГО» и сознания. Большинству людей самость незнакома, ибо она не развита в них. Когда она начинает появляться, то в снах вначале является в виде точки, затем пятнышка, а потом окружности, охватывающей сознательное и бессознательное. Развитие самости не означает растворения «ЭГО», которое по‑прежнему остается центром сознания. «ЭГО» перестает казаться центром личности, а занимает свое место как одна из структур души.
В процессе личностного роста происходит индивидуация, или саморазвитие, т. е. развитие целостности и, таким образом, движение к большей свободе. В процессе индивидуации возникает сознание, которое не порабощено мелким, излишне чувствительным миром вещных интересов. «Расширенное сознание – это уже не тот раздражительный эгоистический комок личных желаний, страхов, надежд и амбиций, который всегда нуждается в компенсации или исправлении с помощью противоположных тенденций бессознательного; это функция отношения с миром объективности, вводящая индивидуума в абсолютное, связующее и неразрывное общение с широким миром».
Для «ЭГО» рост и развитие – это приобретение знаний и навыков, т. е. расширение зоны сознания. Молодые, как правило, мало вовлечены во внутренний процесс индивидуации, они заняты внешними достижениями. Люди более позднего возраста, решившие подобные задачи, имеют другие цели – они ищут гармонию и целостность души.
Юнг выделяет четыре шага (этапа) индивидуации.
Первый шаг заключается в раскрытии Персоны. Необходимо сорвать с нее маску. Тогда удается обнаружить, что то, что казалось индивидуальным, оказалось коллективным. Персона нереальна: это компромисс между индивидом и обществом относительно того, чем человек должен быть. Он принимает имя, добывает титулы, звания, представляет свое учреждение. Он то одно, то другое. Это все реально, но для личности это продукт компромисса, в осуществлении которого другие принимают часто большее участие, чем сам носитель Персоны.
Второй шаг – встреча с Тенью. Если мы признаем реальность Тени и отличаем себя от нее, то сможем освободиться от ее влияния. Мы сможем также ассимилировать материал личного бессознательного, который организован вокруг Тени.
Третий шаг – встреча с Анимой или Анимусом. С этим архетипом следует обращаться как с реальным лицом, существом, с которым можно общаться и у которого можно учиться. «Рассматривайте ее [Аниму] как личность, если хотите, как пациентку или как богиню, но в любом случае – как что‑то существующее. Вы должны разговаривать с ней, чтобы увидеть, что это такое, чтобы понять ее мысли и характер».
Четвертый шаг индивидуации – развитие самости. Самость – «это наиболее полное выражение того судьбоносного сочетания, которое мы называем индивидуальностью…» Самость становится новым центром Души. Она создает единство и интегрирует сознательный и бессознательный материал.
Юнг пишет: «Человек должен быть собой, должен найти собственную индивидуальность, тот центр личности, который одинаково удален от сознания и бессознательного; мы должны стремиться к этому идеальному центру, к которому природа, кажется, направляет нас. Только из этой точки могут быть удовлетворены наши нужды».
Индивидуация – не всегда легкая и приятная задача. Сначала это опасность отождествления себя с Персоной. Тогда человек старается быть слишком «совершенным», неспособным принять свои ошибки и слабости, подавляет те тенденции, которые ей не соответствуют, и проецирует их на других.
Тень также может препятствовать индивидуации. Люди, которые не знают своей Тени, легко поддаются вредоносным импульсам. Дурные поступки рационализируются. Неосведомленность о Тени часто приводит к ультраморализму и проецированию Тени на других. Анима может сделать мужчину эмоционально переменчивым. Анимус может сделать женщину ригидно придерживающейся иррациональных убеждений (упрямство).
Есть опасность быть полностью поглощенным бессознательным материалом. Как в сказках: чем ближе к цели, тем больше препятствий. Когда индивид имеет дело с Анимой или Анимусом, высвобождается большое количество энергии. Она может использоваться для укрепления «ЭГО», а не для развития самости. Такие люди пытаются быть больше или меньше, чем они есть на самом деле: больше, потому что начинают верить, что стали совершенными, святыми; меньше, потому что теряют связь со своей человеческой сущностью, не понимая, что нет совсем непогрешимых, мудрых и безупречных.
Юнг различает две стадии терапевтического процесса.
На первой, аналитической, происходит «признание», во время которого индивид возвращает себе бессознательный материал. Затем идет фаза толкования. Пациент зависим от врача.
На второй, синтетической, идет освоение нового актуального опыта. Затем происходит трансформация. Отношения аналитика и пациента интегрируются, и зависимость больного от врача уменьшается.
Затем идет самообучение, в процессе которого индивид принимает на себя все больше ответственности за свое развитие.
Альфред Адлер (1870–1937) был создателем нового направления, которое получило название «индивидуальная психология». В ее создании, по‑видимому, большую роль сыграл тот факт, что сам А. Адлер в детстве тяжело болел и упорно боролся со своими многочисленными недугами. Это определило и выбор профессии. Став врачом, он в 1895 г. занялся частной практикой. Перепробовав много специализаций, он остановился на психиатрии.
В 1901 г. Адлер выступил в защиту Фрейда, а год спустя стал активным членом его кружка. В 1910 г. по предложению Фрейда он был избран первым президентом психоаналитического общества, выросшего из этого кружка, хотя к этому времени у него уже были большие теоретические разногласия с Фрейдом. В 1911 г. произошел разрыв с Фрейдом, и Адлер основал свою собственную организацию – Ассоциацию индивидуальной психологии. После Первой мировой войны Адлер стал интересоваться вопросами педагогики. В 1935 г. он эмигрировал в США, где продолжал клиническую практику и работал в Колумбийском университете.
Индивидуальная психология Адлера является одним из направлений классического психоанализа, так как сохраняет положение об основополагающей роли бессознательного в жизни человека.
Адлер, как и Дарвин, указывал, что стремление к превосходству является одним из фундаментальных аспектов жизни, но считал, что органическая неполноценность может стимулировать высшие достижения и не всегда приводит к поражению (червивый плод всегда слаще). Кроме того, он полагал, что в человеческом обществе более важна кооперация, а не конкурентная борьба.
Но предоставим слово самому Адлеру.
«Свою первую задачу [индивидуальная психология] видит в новом освещении проблемы души и тела… Было установлено, что ребенок на собственном опыте узнает свойства и возможности своего организма, и в условиях длительного переживания чувства собственной неполноценности стремится ощутить собственную целостность (холистический подход. – М. Л.), способность преодолеть свою природную слабость, трудности в социальных отношениях, стремится испытать чувство целостности. Соответственно испытываемым трудностям и ощущению своей слабости человек испытывает растущее стремление ощутить свою силу (букв. стремление к власти – Streben nach Macht), с которым связана потребность индивида направить развитие присущих ему сил и возможностей к некой конечной смутно определяемой им цели – “совершенству”…В ходе индивидуально‑неповторимого освоения ребенком его творческие стремления встречаются с самыми различными препятствиями. Поэтому с первых двух лет жизни, когда ребенок находит свое собственное “Я” и начинает восхождение к соответствующему этому “Я” конечной цели, все душевные феномены представляют собой не реакции, зависящие от степени напряжения, которые испытывает ребенок в определенной ситуации, а творческие установки (выделено мною. – М. Л.)» Поэтому тело и отдельные его органы для одного ребенка имеют одно значение, для другого другое в зависимости от сложившейся цели. С точки зрения Адлера, в основе закладывающейся у ребенка структуры лежат не объективные значения, а его индивидуальные впечатления. (Вот почему некоторые родители недоумевают: «Все у него есть, не понимаю, что ему еще надо!» – М. Л.) А особенности этих впечатлений можно понять, лишь зная стиль жизни индивида.
«При этом особое значение имеют исследования, вскрывающие конечные цели человека, которого мы должны рассматривать как целостное существо, действующее целесообразно и обдуманно… но в своем индивидуальном своеобразии цели человеческих действий определяются самим индивидом». А если сказать короче, то общим для всех людей является то, что у каждого есть цель, но содержание этой цели у каждого свое.
«Если бы нам была известна цель личности… то мы могли бы понять и объяснить язык душевных феноменов… Мы могли бы понять, почему в его развитии наблюдаются отклонения от нормы и насколько они велики, если бы смогли узнать, насколько цель индивида отличается от нашей и вообще от целей, предписываемых общественной жизнью. Ведь мы можем узнать почерк знакомого композитора в неизвестной нам до сих пор мелодии… Определить жизненный путь человека таким образом не всегда столь же просто. Существующая типология ничего не говорит об индивидуальных различиях. Если бы мы могли, исследуя завитки и мелодии человеческой жизни, сделать вывод об исходной цели человека, в целом о его жизненном стиле, тогда мы смогли бы почти с такой же надежностью, как в естественных науках, и почти с математической точностью определить место этого человека… предсказать, как будет действовать индивид в определенных ситуациях».
«По‑видимому, индивидуальная психология поможет исследователям разрешить эту задачу… Мы научились видеть в любом движении человека одновременно прошлое, настоящее и будущее и конечную цель человека, а также исходную ситуацию, в которой формировалась личность пациента в раннем возрасте».
Почитайте еще немного и вернитесь к этому отрывку. Вы увидите, что здесь заложены идеи, которые получили развитие в экзистенциальном анализе, когнитивной терапии, сценарном анализе и работах К. Хорни.
«…Под влиянием конечной цели все душевные движения упорядочиваются в единую линию активности (Aktionlinie), и каждое отдельное душевное движение подготавливает акт, следующий за ним. В самом действии глубоко заложено стремление к завершенности… В зависимости от того, в чем индивид находит свою конечную цель, – видит ли он себя в роли кучера, лошади, генерала, лечащего врача или спасителя человечества, – именно в зависимости от этого он будет ощущать и оценивать достигнутую им позицию.
В системе отношений решающим является ощущение собственной ценности, большая или меньшая сила которого побуждает к решению индивидуально понимаемых жизненных задач. В последующей жизни не имеют никакого значения ни особенности его телесной или духовной организации, ни наследственные особенности, если они не включаются в формирующийся в первые 3–5 лет жизненный стиль индивида».
Никогда одно и то же жизненное событие не переживается двумя разными людьми одинаково, и от жизненного стиля человека зависит, какие уроки он извлечет из пережитого. Любое душевное явление всегда означает большее, чем находит здравый смысл. Только в сопоставлении со всей системой отношений можно узнать, означает ли ложь хвастовство или увертку, является ли пожертвование проявлением сострадания или мании величия, соболезнование – социального чувства или высокомерия.
Кроме стремления к превосходству, с точки зрения Адлера, поведение человека определяется врожденным общественным чувством, идущим, по‑видимому, от стадного инстинкта. Это чувство и должно развиваться с раннего детства, иначе индивид будет испытывать затруднения в приспособлении к обществу. Только развив социальное чувство, можно достичь светлого будущего. Все религиозные, юридические, государственные и социальные институты были созданы для того, чтобы сделать совместную жизнь легче и лучше, предписав индивидам жить так, как это необходимо для сохранения человеческого рода. Индивидуальная психология стремится к тому же, только она лучше вскрывает препятствия, встающие на пути развития социального чувства, и стремится найти методы их обнаружения.
Все значительное, что имеет человек, обусловлено этим чувством. И только одно приобретение имеет другое происхождение. Это чувство неполноценности, которое возникает у ребенка с момента развития сознания. Оно обусловлено его слабостью. Чувство неполноценности усиливается и растет, как только ребенок начинает смутно осознавать свою бесполезность для общества, и в норме компенсация этого чувства становится мощным источником для индивидуального развития. Ребенок старается стать полезным, и чувство неполноценности ослабевает.
Возникает противоречие между стремлением к личной власти и общественным долгом, который сдерживает это стремление. Если ребенка сразу ставят в центр семьи и живут для него, у него развивается только одно стремление к власти, стремление брать, а не отдавать. Он превращается в индивидуалиста. И только тогда, когда стремление к власти, стремление быть первым (сперматозоидное чувство. – М. Л.) уравновешивается социальным чувством, появляется возможность стать счастливым.
«Индивидуальная психология подчеркивает то обстоятельство, что в детстве у всех духовно несчастных, дурно воспитанных и невротичных натур не было условия для развития социального чувства, и поэтому им недостает мужества, оптимизма, уверенности в своих силах». Только связь с обществом порождает устойчивое чувство собственной ценности. Развитие общественного чувства происходит в трех отношениях: «Я» к «ТЫ», в продуктивной деятельности, в любви. В этих отношениях отражается жизненный стиль индивида. Особенно это заметно, когда необходимо принять немедленное решение.
Если побеждает стремление к власти, то, находясь в зависимости от других людей, индивид считает их своими личными врагами. Не веря в свою победу и с еще большим страхом ожидая поражения, они в конце концов оказываются в таком положении, что не могут избежать неудач. Многие из них начинают испытывать сильное чувство неполноценности, что мешает развитию социального чувства.
Индивидуальная психология позволяет вскрыть и исправить ошибки воспитания раннего детства. Здесь необходимо глубокое осознание человеком их последствий. Если этого не происходит, чувство неполноценности, способствующее развитию, превращается в комплекс неполноценности, деформирующий развитие и приводящий к неврозу.
Адлер описывает две формы защитных механизмов: компенсацию и гиперкомпенсацию. Компенсация проявляется тем, что вместо развития недостающего качества ребенок начинает интенсивно развивать тот признак, который у него и так хорошо развит, компенсируя тем самым свой недостаток. Например, хилый подросток вместо того, чтобы развить свои физические данные, начинает интенсивно заниматься шахматами, где у него выявились неплохие способности. В шахматах он достигнет неплохих успехов, но физическое недоразвитие сделает его несчастным и приведет к неврозу.
Гиперкомпенсация проявляется тем, что ребенок старается развить те данные, которые у него слабо развиты. Например, хилый подросток идет в секцию борьбы и пытается стать драчуном, чтобы отомстить своим обидчикам. Пропорциональное развитие при этом также нередко искажается. Примером такой гиперкомпенсации может служить биография А.В. Суворова. Конечно, он стал великим полководцем! Но был ли он счастлив?
«Индивидуальная психология разрешила также проблему выявления известных затруднений, которые в первые пять лет жизни и порождают у человека чувство неполноценности. Тем самым открылись возможности для профилактики отклонения от нормы, неврозов, психозов и педагогической запущенности. Именно поэтому эта наука и получила признание у педагогов. Индивидуальная психология считает неверным широко распространенное заблуждение о неполноценности ребенка, старика, женщины; с ее точки зрения, причины этой недооценки гнездятся в некоторых непреодолимых предрассудках, свойственных нашей культуре, и недостаточном знании вопроса».
Адлер выделяет три главных условия для появления чувства неполноценности в раннем детстве.
Первое условие – врожденные физические недостатки. При неправильном воспитании ребенок воспринимает их как жизненные препятствия. И даже если он потом неплохо устраивается в жизни, у него сохраняется пессимистическое отношение к решению жизненных проблем.
Второе условие – изнеженность. Когда такой жизни приходит конец, ребенок чувствует себя изгнанным из рая. Поэтому в последующей жизни ему всегда недостает душевной теплоты и он никогда не может найти взаимопонимания с другими людьми.
Третье условие – жесткое воспитание, которое приводит к развитию бессердечия. Такие люди повсюду видят врагов и ведут себя так, словно находятся во враждебной стране.
Адлер приходит к выводу, что главнейшими моментами в воспитании являются развитие в детях упорства и самостоятельности, терпения в трудных ситуациях, отсутствие любого бессмысленного принуждения, унижения, насмешек, оскорблений, наказаний. Самое главное: ни один ребенок не должен потерять веру в свое будущее.
Мне нравится девиз Акки Кнебекайзе, предводительницы диких гусей из известной сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями», которая воспитывала орла. Когда птенец был недоволен собой, она каждый раз ему говорила: «Все равно из тебя вырастет хорошая птица!»
Я старался показать, что адлеровская теория оказала большое воздействие на многие последующие психологические и психотерапевтические системы. Однако, как указывал Д. Фейдимен, достижения Адлера редко получали должное признание. Его оригинальные находки часто рассматривались как производное от психоаналитической теории или как нечто самоочевидное. Как справедливо заметил Элленбергер, «трудно найти другого автора, у которого столь многое заимствуется без ссылок и признательности, нежели Альфред Адлер. Его учение стало местом… где все и каждый могут без зазрения совести взять что угодно. Иной автор, скрупулезно указывающий источник при цитировании мельчайшей фразы, даже не думает поступить так же, заимствуя что‑нибудь из индивидуальной психологии, как будто у Адлера не может быть чего‑нибудь оригинального».
Фейдимен видит причину этого в том, что теории Адлера изложены простым языком здравого смысла. Поэтому они часто кажутся поверхностными и неглубокими. Адлера больше интересовала практика, а не теория. Он наиболее популярен среди учителей и всех тех, кому нужны практические клинические навыки. Сейчас уже имеется достаточное количество работ Адлера, выпущенных на русском языке. Можно прочесть о творчестве Адлера и в работах других психологов.
Лекция 4
Другие школы психоанализа: В. Райх, Ф. Перлс
Жизнь Вильгельма Райха (1897–1957) была полна взлетов и падений. Начинал он у Фрейда и был его первым клиническим ассистентом в 1922 г., а в 1924 г. стал директором Семинара по психоаналитической терапии. В 1927 г. у него возникли теоретические расхождения с Фрейдом, ибо он считал, что каждый невроз основан на отсутствии сексуального удовлетворения. Кроме того, психоаналитики не поддерживали его увлечения марксизмом. Не одобряли его и марксисты за радикальные программы по сексуальному воспитанию. В результате он был исключен из компартии и Интернациональной психоаналитической ассоциации, изгнан из Швеции и Норвегии. С 1937 г. Райх живет в США. Там он стал выпускать аппараты с аккумуляторами «оргонной» энергии, которыми пытался лечить не только неврозы, но и рак, астму, эпилепсию и т. д. Когда это лечение в 1954 г. было запрещено, он нарушил запрет и был заключен в федеральную тюрьму, где умер в 1957 г.
Райх считал, что любой характер имеет не только психологические характеристики, которые нуждаются в коррекции, но и соответствующий мышечный панцирь, задерживающий свободное протекание энергии из сердцевины организма на периферию и во внешний мир: тревожность является отвлечением от контакта энергии с внешним миром, возвращением ее внутрь. Лечение Райх представляет как восстановление свободного протекания энергии посредством освобождения блоков мускульного панциря. Он считал, что мышечные зажимы искажают естественное чувствование и приводят, в частности, к подавлению сексуальных чувств.
Идеи Райха намного опережали время, его программы удивительно современны:
1. Свободное использование противозачаточных средств; интенсивное просвещение в области контроля рождаемости.
2. Отрицание значимости законности брака; свобода развода.
3. Борьба с венерическими заболеваниями и сексуальными проблемами посредством полного сексуального образования.
4. Полный отказ от запретов на аборты.
5. Обучение врачей, учителей всему необходимому для проведения сексуально‑гигиенической работы.
6. Лечение, а не наказание в борьбе с сексуальными преступлениями.
Цель терапии, с точки зрения Райха, должна состоять в освобождении всех блоков тела для достижения оргазма. Райха понимали превратно, из‑за чего он подвергался яростным нападкам. Он полагал, что характер создает защиты против беспокойства, которое вызывается в ребенке сексуальными чувствами и страхом наказания. Вначале страхи подавляются. Когда защиты становятся постоянными, они превращаются в черты характера и образуют панцирь. Невротические черты характера переживаются не как симптомы невроза, а как составные части личности. На них жалуются, но не пытаются изменить. «Такой уж я застенчивый». Мало того, их пытаются рационализировать: «Да, я от этого страдаю, но ведь иначе нельзя!» И когда Райх имитировал характерные позы и жесты пациентов и предлагал им самим утрировать их, у пациентов возникала мотивировка к их изменению. Сейчас для этого используется видеотренинг. В качестве стратегии терапии Райх предлагал расслаблять мышечный панцирь, что помогало психоаналитической работе. Постепенно акцент смещался на работу с телом. Райх предлагал пациенту усилить определенный зажим, чтобы лучше осознать, прочувствовать его и выявить эмоцию, которая связана с этой частью тела. Затем он стал работать с зажатыми мышцами, разминая их руками.
Райх был убежден, что биоэнергия в индивидуальных организмах – один из видов универсальной энергии, присутствующей во всех вещах. «Оргонную» (корни слов «организм» и «оргазм») энергию он понимал как специфическую биологическую энергию, которая управляет всем организмом и выражается в эмоциях и движениях. Его критиковали, но никто не проверял его экспериментов.
Лечение Райх рассматривал как распускание мышечного панциря, который имеет семь защитных сегментов в области глаз, рта, шеи, груди, диафрагмы, живота и таза (ср. с семью чакрами индийской йоги).
Распускание мышечного панциря Райх проводил тремя способами: накопление в теле энергии путем глубокого дыхания, прямое воздействие на мышечные зажимы (массаж), дискуссия с пациентом, в которой выявляются сопротивление и эмоциональные ограничения.
Вот как описывает Райх сегменты защитного панциря:
1. Глаза. Неподвижный лоб, «пустые» глаза. Сегмент удерживает плач.
2. Рот. Слишком сжатая или неестественно расслабленная нижняя челюсть. Этот сегмент удерживает плач, крик, гнев. На лице может быть какая‑нибудь гримаса.
3. Шея. Сегмент удерживает гнев, крик и плач.
4. Грудь. Широкие мышцы груди, плеч, лопаток, вся грудная клетка и руки. Сегмент удерживает смех, гнев, печаль и страстность.
5. Диафрагма. Диафрагма, солнечное сплетение, внутренние органы. Защитный панцирь особенно заметен в положении лежа на спине. Между нижней частью спины и кушеткой остается значительный промежуток. Выдох сделать труднее, чем вдох. Сегмент удерживает сильный гнев.
6. Живот. Широкие мышцы живота и мышцы спины. Напряжение мышц спины свидетельствует о страхе нападения. Сегмент удерживает злость и неприязнь.
7. Таз. Все мышцы таза и нижних конечностей. Чем сильнее защитный панцирь, тем более таз вытянут назад. Ягодичные мышцы напряжены и болезненны. Сегмент подавляет ощущение сексуального удовольствия и сексуальное возбуждение, а также гнев. Пережить сексуальное удовольствие невозможно, пока не разрядится гнев в тазовых мышцах.
Эти сегменты нарушают единство организма. Человек превращается как бы в кольчатого червя.
Когда посредством терапии восстанавливается единство организма, возвращаются глубина и искренность, ранее утерянные. «Пациенты вспоминают периоды раннего детства, когда единство ощущения тела еще не было разрушено. Глубоко тронутые, они рассказывают, как маленькими детьми они чувствовали единство с природой, со всем вокруг себя, когда они чувствовали себя живыми, и как впоследствии это было разбито в куски и разрушено обучением». Они начинают чувствовать, что ригидная мораль общества, которая ранее казалась естественной, становится чуждой и неестественной. Изменяется отношение к работе. Пациенты начинают искать новую, более живую работу, соответствующую их внутренним потребностям и желаниям. Те же, кто интересуется своей профессией, обретают новую энергию, интерес и способности.
Райх считал, что защитный панцирь создал две ложные интеллектуальные традиции: мистическую религию и механическую науку. Механицисты поражены глубинным страхом эмоциональности, жизненности, спонтанности и стремятся создавать ригидные представления о природе. «Машина должна быть “совершенной”. Перфекционизм – сущностная характеристика механистического мышления. Оно не признает ошибок; неуверенности, неопределенности, неясные ситуации избегаются».
Мистики остаются частично в соприкосновении со своей жизненной энергией и способны на великие прозрения. Но эти прозрения искажены аскетическими и антисексуальными тенденциями, отрицанием собственной физической природы и потерей контакта с собственным телом.
Основным источником неврозов Райх считал подавление естественных инстинктов и сексуальности в индивидууме. Это подавление отмечается в течение трех основных фаз жизни: в раннем детстве, в период полового созревания и в течение взрослой жизни.
В детстве ребенка заставляют «держать себя в руках», требуют «хорошего» поведения.
В подростковом периоде дети лишены реальной половой жизни; мастурбация запрещается. Что еще важнее, общество в целом не дает подросткам найти значимую осмысленную работу. В результате надолго сохраняется инфантильная привязанность к родителям.
А когда люди становятся взрослыми, они оказываются в ловушке принудительного брака, к которому не готовы из‑за предбрачного целомудрия. И хотя в наше время редко кто вступает в брак девственником, все же настоящего сексуального опыта большинство не получает, ибо все делается тайком, нет соответствующего сексуального образования, а девушки вступают во внебрачные сексуальные отношения не по желанию, а из‑за страха лишиться партнера. В результате нередко развивается депрессивная симптоматика. Райх указывал, что брак в нашей культуре содержит в самом себе неизбежный конфликт. Сексуальная неудовлетворенность, с одной стороны, экономическая зависимость, моральные ограничения и обычаи – с другой, заставляют продолжать брачные отношения. Семейная жизнь превращается в сплошное страдание, создает невротическую атмосферу для последующего поколения. Мы проводили большое социологическое исследование и установили, что из 400 семей, где супруги считали себя счастливой парой, только 3 семьи можно было считать воистину счастливыми. Можете сами провести такое исследование. Мы задали один вопрос: «Вы бы еще раз вступили в брак со своим супругом (ой), если бы были сейчас в полной независимости от него (е)?» Так вот, взаимно выбрали друг друга только 3 из 400. (Подробнее смотрите в книге «Секс в семье и на производстве»).
Райх был противником всякого подавления. «То, что живо, само по себе разумно. Оно становится карикатурой, если ему не дают жить». Страх получения удовольствия формирует панцирь характера, который является основой «одиночества, беспомощности, поиска авторитета, страха ответственности, мистических стремлений, сексуальных страданий, импотентного бунтовщичества, равно как и покорности патологических типов».
Райха совершенно зря обвиняли в аморальности. Он предвидел, что большинство людей из‑за мощных защит не будет способно понять его теорию и исказит его идеи. «Учение живой Жизни, подхваченное и искаженное человеком в защитном панцире, будет последним несчастьем для всего человечества… Как стрела, выпущенная из ограничения туго натянутой тетивы, – искание скорого, легкого и ядовитого генитального удовольствия разрушит человеческое общество».
Защитный панцирь отрезает нас не только от нашей внутренней природы, но и от социальных страданий вокруг нас. «Из‑за трещины в современном человеческом характере природа и культура, инстинкт и мораль, сексуальность и успех кажутся несовместимыми. Единство культуры и природы, работы и любви, морали и сексуальности, которого человечество вечно жаждет, остается несбыточной мечтой, но человек отвергает удовлетворение биологических требований естественной сексуальности. При этих условиях истинная демократия и ответственная свобода остаются иллюзией…»
Райх не требовал каких‑то внешних преобразований. «Все, что нужно, – это продолжать то, что вы всегда делали и хотели делать; делать свою работу, дать возможность детям расти счастливыми, любить своих жен…»
Райх считал, что защитный панцирь не дает человеку пережить сильные эмоции, ограничивая и искажая выражение чувства. Эмоции, которые блокируются таким образом, никогда не устраняются, потому что они не могут быть полностью выражены. А если у человека блокировано удовольствие, это ведет к гневу и ярости. С точки зрения Райха, пережить позитивные чувства невозможно, пока не произошла разрядка отрицательных эмоций.
Райх утверждал, что полное развитие интеллекта требует развития истинной генитальности. К сожалению, слова часто «скрывают язык чувств». «Во многих случаях это доходит до того, что слова уже ничего не выражают, и говорение превращается просто в деятельность соответствующих мускулов».
Каким врачом был Райх, можно судить по отзыву его ученицы: «Я могла выдержать сокрушительность Райха, потому что любила правду. И, как ни странно, я не была сокрушена. Во время работы со мной у него все время был любящий голос, он сидел рядом со мной и заставлял меня смотреть на себя. Он принимал меня и сокрушал лишь мое тщеславие и мою ложь. И я поняла в эти моменты, что подлинная честность и любовь у терапевта, как и у родителей, – это часто мужество быть как бы жестоким, если это необходимо. Это, однако, многого требует от терапевта, от его квалификации и его диагностирования пациента».
Современники не вполне могли оценить работы Райха. Но сейчас стало совершенно ясно, что они явились источником для многих методов современной психотерапии, ориентированных на тело. Это биоэнергетика Лоуэна, массаж Иды Рольф, техника Ф.М. Александера, австралийского актера, в которой основное внимание уделяется работе с позвоночником, метод Фельденкрайза, направленный на восстановление естественной грации и свободы движений, которой обладают все маленькие дети.
Райх ввел в психотерапию упражнения из хатха‑йоги, гимнастику тайцзицюань и систему айкидо. И, наконец, идеи Райха можно проследить в «первичном крике» Янова и «голотропном дыхании» Грофа. А нейролингвистическое перепрограммирование (НЛП) показывает, что лучше всего его методы подходят для кинестетиков.
Фредерик Перлс (1893–1970) родился в Берлине. Он пишет о себе как о паршивой овце: он постоянно воевал с родителями, его исключали из школы, он не ладил с авторитетами. Во время войны Перлс, окончив университет, служил в армии. Затем он начал психоаналитическое обучение в Вене. В 1933 г. он бежал в Южную Африку, где основал психоаналитический институт. В 40‑е гг. Перлс порвал с психоаналитическим движением. В 1946 г. эмигрировал в США, где продолжал разрабатывать метод гештальттерапии. В 1962 г. в Нью‑Йорке он основал институт гештальттерапии. Его метод стал завоевывать широкую популярность. Он получил развитие и у нас в стране.
Расхождения Перлса с Фрейдом касались скорее психотерапевтических методов, чем основных положений Фрейда о важности неосознаваемой мотивации, динамики личности. Получив из гештальтпсихологии представления об организме как целом, Перлс понял, что необходим подход, в котором индивид и его среда выступали бы постоянно взаимодействующими частями поля. При этом каждый элемент поведения рассматривается как постоянно взаимодействующие части поля в интимных связях с целым. Перлс ставит акцент на очевидном, а не на подавляемом. Он подчеркивает важность рассмотрения ситуации в настоящем, а не исследования причин в прошлом. Осознавание человеком того, как он ведет себя от мгновения к мгновению, более важно для понимания себя, чем понимание того, почему он ведет себя таким образом.
Перлс утверждает, что организм имеет мириады потребностей, которые ощущаются, когда нарушается психологическое или физиологическое равновесие. Организм пытается его восстановить. По Перлсу, ни один инстинкт не является основным: все потребности – прямое выражение органических инстинктов. При анализе «сопротивления» он подчеркивал форму этого избегания, а не его содержание. Правильным вопросом является «как я избегаю осознания?», а не «что я не хочу осознавать?»
Перлс полагает, что каждый индивид, просто благодаря тому что он существует, имеет огромный материал для терапевтической работы. В раннем детстве ребенок «проглатывает» (интроекция) опыт взрослых, но он не в состоянии его «переварить», ассимилировать и интегрировать по‑своему. Этот непереваренный опыт становится привычкой, чертой характера, паттерном поведения и т. п. Весь этот материал необходимо «переварить», ассимилировать и интегрировать или отторгнуть, ибо в противном случае человек будет жить не своей жизнью, не так, как ему нужно, а так, как его запрограммировали в раннем детстве родители, и напоминать утку Мюнхгаузена, которую поймали на удочку.
Как происходит это программирование? Дети такими, какие они есть, родителям не нужны. И они заставляют детей делать не то, что тем хочется, а то, что нужно им самим. Ребенку хочется избить обидчика, а его заставляют просить у него прощения. Он хочет играть, а его заставляют учить уроки. К родителям возникает чувство ненависти, но оно не находит разрядки, вытесняется в бессознательное. Уже во взрослой жизни человек находит себе для общения примерно таких же людей, с которыми он общался в раннем детстве, и безнадежно пытается завершить те же детские дела до тех пор, пока невроз не выбьет его из реальной жизни.
Перлс в своей практике использовал положения гештальтпсихологии, первое из которых – анализ частей не может помочь пониманию целого, поскольку целое определяется взаимосвязью и взаимозависимостью частей. Винегрет – это не капуста, не картофель, не морковь, не огурец, это винегрет. Выделенные из винегрета капуста, картофель, морковь, огурец не равны тому, чем они были в винегрете. Так и выделенные из гештальта части не тождественны тому, чем они были ранее. К. Левин рассматривал поведение как вектор всех сил, действующих в психологическом «жизненном пространстве». Его представления и легли потом в основу групповой психотерапии.
Второе положение – организм приспосабливается к среде, достигая оптимального равновесия и организации частей, и нельзя изменить какую‑то одну часть, чтобы при этом не изменились и другие. Организм в данном поле выбирает для себя нечто значимое. Оно становится фигурой, а все остальное – фоном. А выбирает организм то, что ему интересно и важно в данный момент. На рис. 1 человек, испытывающий жажду, увидит рюмку, а человек с сексуальными проблемами – целующуюся парочку. На рис. 2 повеса увидит привлекательную женщину, а женщина, которая не ладит со свекровью, – уродливую старуху. Все органы, ощущения, движения мысли подчиняют себя этой потребности. Они могут быстро сменить свои подчинение и функцию: как только потребность удовлетворяется, фигура отступает в фон.
Рис. 1
Рис. 2
Вы уже целый час читаете с интересом эту книгу. Интерес стал угасать, и появилось чувство голода, но необходимость продолжать чтение заставляет вас не отрываться от книги. На одном фоне две фигуры. Вы уже не усваиваете того, что написано здесь, и в то же время вас беспокоит чувство голода. Жизнь становится серой. Прекратите чтение, пройдите на кухню, завершите гештальт, связанный с чувством голода. Как только удовлетворится потребность в еде, фигура (чувство голода) отступит в фон, и вы вновь с интересом будете читать книгу. Понятия гештальтпсихологии великолепно объясняются Г.Н. Крыжановским. В соответствии с его теорией о детерминантных структурах во время той или иной деятельности в головном мозгу из отдельных центров формируется детерминантная структура. Один из этих центров становится детерминантным, остальные ему подчинены. Когда действие совершено, структура (гештальт) распадается, и освободившиеся от детерминантного очага центры вступают в связь в другой комбинации в зависимости от потребностей организма, а детерминантным центром становится другой участок мозга.
Перлс утверждал, что каждая встреча врача с пациентом – это экзистенциальная встреча человеческих существ, а не разновидность классического отношения между терапевтом и больным. Люди творят и раскрывают свои миры. Каждый психический акт – это интенция, и он не может пониматься отдельно от того, что мыслится, а каждое намерение должно быть понимаемо из самого себя, а не с точки зрения более фундаментального акта. Понимание иногда становится утонченной формой невежества. Если мы поймем красный цвет с точки зрения определенной длины волны, то мы упустим самое главное – сам красный цвет. Это так, потому что это так. Причинные объяснения недостаточны для понимания действий и намерений человека. Вот почему в трудах Перлса нет цепи аргументов. Вы можете на основании собственного опыта принять или отвергнуть его положения.
Основные положения гештальттерапии
1. Организм – это единое целое как в отношении организменного функционирования, так и с точки зрения создания единого поля деятельности. Между ментальной и физической деятельностью нет пропасти. Просто ментальная деятельность осуществляется на более низком энергетическом уровне, чем физическая. Когда интенсивность реакции организма на среду уменьшается, физическое поведение превращается в ментальное. Когда увеличивается, ментальное поведение превращается в физическое. То, что делает человек, дает много информации о нем, как и то, что он говорит и о чем думает. Между индивидом и его средой имеется контактная граница. У здорового она подвижна, постоянно допускает как контакт со средой, так и уход из нее. Контакт – это формирование гештальта, уход – его завершение. У невротика контакт и уход искажены. Не закончив одно дело, невротик принимается за другое. Индивид оказывается перед конгломератом гештальтов, которые в той или иной мере не закончены, не полностью сформированы или завершены. Ключом к ритму контактов и уходов является иерархия потребностей. Доминирующая потребность проявляется как фигура на фоне остального, что есть в личности. Эффективное действие направляется в сторону доминирующей потребности. Невротики неспособны определить и почувствовать, какая потребность является доминирующей. Нередко эта потребность вытесняется из сознания, и тогда все действия оказываются неэффективными. Приведу пример.
Один пациент был раздосадован недостойным поступком своего друга. В дискуссии мы безуспешно пытались решить эту проблему, затем выяснилось, что у пациента были напряженные отношения с отцом. И здесь наши советы оказались неэффективными. Но как только мы стали обсуждать его взаимоотношения с приятельницей, то довольно быстро нашли решение проблемы. Мы даже выработали правило: если что‑то не получается, значит, не то делаешь.
2. «Здесь и теперь» («here‑and‑now»). Невротик не способен жить в настоящем, поскольку несет в себе незаконченные ситуации (незавершенные гештальты). Его внимание, по крайней мере частично, привлекается этими ситуациями, поэтому ему не хватает ни осознания, ни энергии, чтобы полно жить в настоящем. Как можно быть эффективным в сексе, если ночью думаешь о дневном конфликте? Хорошо, что еще это осознаешь. А если незавершенные гештальты не осознаются? Суть гештальтистского подхода как раз и состоит в том, чтобы не исследовать прошлое в поисках воспоминаний о травмирующей ситуации, а предложить пациенту сосредоточиться на осознавании того, что переживается в настоящем: фрагменты травмирующих ситуаций из прошлого неизбежно всплывут как часть опыта в настоящем. Тогда пациенту предлагается вновь проиграть их и пережить, чтобы закончить и ассимилировать их в настоящем.
Вот один характерный пример.
Больной с неврозом навязчивых состояний страдал от издевательств своего начальника и подшучиваний друзей. Первый момент он осознавал, и нам удалось с этим справиться. Но состояние не улучшалось. Когда удалось выяснить, что еще больше он страдал от дружеских шуток, то решение этой проблемы привело к значительному улучшению. Один из его приятелей удивился: «Ты ведь никогда так не реагировал». На что наш больной ответил: «Нет, я всегда так реагировал, но только после того, как с тобой прощался. Вел мысленные разговоры с тобой ночью в постели. Больше не хочу с тобой спать. Теперь я тебе ответил, и ты поспи со мной, а у меня есть с кем спать».
Тревожность Перлс определял как напряжение между «сейчас» и «тогда». Неспособность принять это напряжение заставляет невротика планировать, репетировать свое будущее. Это отвлекает от настоящего, постоянные репетиции создают незаконченные ситуации. Разрушается открытость в будущее. Это часто проявляется вопросом: «А вдруг станет хуже?» или ответом на вопрос о самочувствии: «Пока хорошо!» А ведь сейчас хорошо! Жизнь в настоящем сама по себе есть нечто хорошее.
3. «Как важнее, чем почему». «Если я понимаю, как делаю, то я в состоянии понять и само действие». Каждое действие имеет много причин, и каждая причина имеет множество причин. Объяснение этих причин все дальше уводит от понимания самого действия. В гештальттерапии акцент делается на возрастающем осознании человеком своего поведения, а не на исследование того, почему он ведет себя таким образом. Эти идеи позволили нам сформулировать правило общения: «Не интересуйся, почему человек именно так поступает, а проси, чтобы он совершал те поступки, которые тебе необходимы».
4. Сознавание. По Перлсу, процесс роста – это расширение зон самоосознавания, а основной фактор, препятствующий росту, – избегание самоосознавания. Перлс рассматривал здорового зрелого индивидуума как самостоятельное саморегулирующееся существо. Он развил понятие континуума сознавания. Прерывание самоосознавания не дает человеку проработать неприятности. Он остается лицом к лицу с незаконченной ситуацией. Сознавать – значит все время уделять внимание постоянно возникающим в собственном восприятии фигурам.
Перлс полагает, что у человека есть три зоны сознавания: сознавание себя, сознавание мира и сознавание того, что лежит между тем и другим – своего рода промежуточная зона фантазии. Эту промежуточную зону исследовал Фрейд, который забыл такие зоны, как себя и мир.
Перлс дает два критерия психологического здоровья и зрелости: опора на себя и переход на саморегуляцию, тогда как незрелый человек пытается манипулировать другими людьми и менять ситуацию. Терапевтический процесс направлен на созревание организма, который обладает способностью достигать оптимального равновесия внутри себя и между собой и средой. Надо не жаловаться на волны, а обучаться в них плавать. Саморегулируемые опирающиеся на себя индивиды характеризуются свободным изменением и отчетливым формированием фигуры‑фона в выражении своих потребностей в контакте и уходе. Они знают о своих способностях и возможностях выбирать средства для удовлетворения потребностей, когда эти потребности возникают. Они сознают границы между собой и другими и внимательны к различению своих фантазий о других и среде и того, что воспринимается в непосредственном контакте. Пути психологического роста Перлс видит в завершении ситуаций, или гештальтов.
Невроз Перлс рассматривает как пятиуровневую структуру. Рост и освобождение от невроза происходят по мере прохождения этих пяти уровней.
Первый уровень – уровень клише («Доброе утро», «До свидания» и т. п.), знакового существования.
Второй уровень – уровень ролей, или игр. Он характеризуется тем, что на нем мы притворяемся такими, какими хотели бы быть: компетентным бизнесменом, всегда очаровательной девушкой и т. п.
Реорганизовав эти два уровня, мы достигаем третьего уровня тупика, или фобического избегания. Здесь мы переживаем пустоту. Это критический момент. Он иногда напоминает депрессию. Близкие люди вдруг становятся чужими, дело оказалось неинтересным, все, что раньше было важным, стало ненужным. И тут некоторые индивиды опять возвращаются к знаковому существованию и игранию ролей.
Если мы способны поддержать сознавание себя в этой пустоте, то достигнем четвертого уровня – уровня умирания, или внутреннего взрыва. Старая личность с ее защитами умерла, а высвободившаяся энергия проявляется четырьмя вариантами взрыва: горя и печали, гнева, оргазма у сексуально заблокированных людей, смеха и радости. Не следует контролировать энергию этих взрывов.
Пятый уровень – уровень эксплозивный, внешнего взрыва. Подлинная личность осознает его.
Невротики, т. е. те, кто прерывает свой рост, не принимают собственных потребностей, а также не могут провести четкое разграничение между собой и остальным миром. Обычно при этом человек чувствует проникновение слишком глубоко в себя границ социальной среды («Ты должен!»). Невроз состоит в защитных маневрах, предпринимаемых индивидом, чтобы уравновесить себя в этом нападающем мире.
Имеются четыре основных невротических механизма искажения границ, препятствующих росту: интроекция, проекция, слияние и ретрорефлексия.
Интроекция, или «проглатывание непережеванным», – это механизм, посредством которого люди присваивают стандарты, нормы, способы мышления. Они не становятся их собственными, не ассимилируются, не «перевариваются». Одно из следствий интроекции: индивид перестает различать, что он действительно чувствует, а что другие хотят, чтобы он чувствовал. А если требования интроектов противоречивы, то ему кажется, будто его рвут на части. Интроекты необходимо «переварить» или «отрыгнуть».
Вот как описывает пациент этот процесс.
«Долгое время принцип: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, я понимал буквально. Мой жизненный путь наметил отец. Я должен был заниматься наукой. Для этого надо пойти в научный кружок, там взять тему, затем поступить в аспирантуру, быстро защититься, стать ассистентом, затем доцентом, а после защиты докторской диссертации и профессором. Легче всего это сделать, если заняться хирургией. И хотя у меня к хирургии не было большой склонности, я стал ею заниматься. Но в клинику не пошел, а стал заниматься оперативной хирургией, чтобы быстрее начать делать сложные операции, правда на собаках, и быстрее защититься. Были и определенные успехи – несколько удачных сообщений на студенческих научных конференциях. После института я безуспешно пытался поступить в аспирантуру. Потом я хотел защитить диссертацию как соискатель. К этому времени я уже стал терапевтом, но тематика научных работ была связана с лабораторными исследованиями, которые меня не очень интересовали. Карьера не получалась. Не все ладилось и в личной жизни. Начались болезни. После психотерапевтического лечения я вдруг понял, что мечтать стать генералом надо для того, чтобы быть хорошим солдатом (интроект «переварился». – М. Л.). Я увлекся психотерапевтическими методами лечения, выздоровел сам и стал успешно лечить своих больных. Мысли о том, чтобы двигаться по служебной лестнице, меня не посещали («отрыгивание» интроекта. – М. Л.). Научный материал накапливался. Я сделал несколько сообщений. Мне предложили оформить все это в диссертационную работу. Вскоре пришло и повышение по службе. И ведь верно, что успех – побочный продукт правильно организованной деятельности!»
Проекция – это тенденция переложить ответственность за то, что исходит от себя, на другого, поместить вовне то, что принадлежит тебе самому. Понимание проекции в системе гештальттерапии соответствует трактовке защитных механизмов других школ. Проецирующие люди видят свои неосознаваемые качества в других. Они видят «сучок в глазу брата своего», но не замечают «бревна в собственном глазу».
Слияние делает невозможным здоровый ритм контакта и ухода, поскольку контакт и уход подразумевают «другого». Слияние также делает невозможным принятие различий между людьми. Человек, страдающий слиянием, нередко заявляет, что «все одним миром мазаны». Мама, страдающая слиянием со своим собственным ребенком, рассказывая о нем, говорит «мы». «Вот побаловаться мы любим, а вот чтобы заниматься – это нам не нравится».
Ретрофлексия – это обращение энергии против самого себя вместо того, чтобы направлять ее на изменение среды. Эта форма защиты еще называется «окаменелость»: «Готов убить его, но держу себя в руках», т. е. убиваю себя. Иногда кулаки стискиваются так, что ногти впиваются в ладони, губы прикусываются до крови. Но чаще всего убийство самого себя идет путем развития психосоматических расстройств: артериальной гипертензии, инфарктов, кровоизлияний, язв и пр.
«Интроектор делает то, чего хотят от него другие, проецирующий делает другим то, в чем их обвиняет; человек, находящийся в патологическом слиянии, не знает, кому что делает; ретрофлектор делает себе то, что хотел бы сделать другим… Интроектор обнаруживает себя, когда говорит «я» вместо «они»; проекция обнаруживает себя употреблением местоимения «они», когда реальное значение – «я»; при слиянии используется местоимение «мы»; ретрофлектор обнаруживает себя употреблением рефлективных «ся», себя».
Данные механизмы редко действуют отдельно друг от друга. Главное, что при этом происходит, – нарушение чувствования границы.
Перлс считал, что в нашем обществе слишком переоценивается, а точнее, не там, где надо, используется интеллект. Он больше верил в мудрость организма, но ее он понимал скорее как интуицию. Перлс полагал, и отчасти можно с ним согласиться, что в нашей культуре переоценивается словоговорение. Он назвал три его уровня: цыплячий помет (болтовня в обществе), бычье дерьмо (извинения, рационализация), слоновья струя (теоретизирование).
Задача лечения в гештальттерапии – возвращение потенциала, задержанного мышечными напряжениями. Врач в гештальттерапии фрустрирует больного, удовлетворяет его потребность во внимании и принятии, но в то же время отказывает ему в поддержке. В процессе лечения больной начинает осознавать и видеть, как он играет роли. Обычно гештальттерапия проводится в группе.
Лекция 5
Другие школы психоанализа (продолжение): К. Хорни, Э. Фромм
Карен Хорни (1885–1952) является одной из талантливейших учениц З. Фрейда. С ее именем связано возникновение нового направления в психоанализе – неофрейдизма. Работы Хорни оказали большое влияние на современную психологию личности. Кроме того, одно только чтение ее произведений, которые написаны взволнованным литературным языком, оказывают оздоравливающее действие на вдумчивого читателя. Сейчас ее представления являются классическими, но в то время они произвели эффект взрыва бомбы.
Родилась Хорни 16 сентября недалеко от Гамбурга. Заниматься психоанализом начала в 1911 г. В 20‑х гг. она активно участвует в конгрессах Международного психоаналитического общества. В 1932 г. из‑за гонений на психоаналитиков переехала в США. Там ей пришлось лечить невротиков, принадлежащих к другой культуре. Было трудно, но именно тут она осознала значение социальных условий для развития личностных невротических проблем. В 1937 г. вышла в свет ее первая книга «Невротическая личность нашего времени», где она четко сформулировала свой основной тезис: «Невротик – пасынок нашей культуры». В США К. Хорни прожила более 20 лет. Там были написаны все основные ее произведения. За отступничество от положений ортодоксального психоанализа в 1941 г. она была исключена из Американской психологической ассоциации. Но Хорни не унывала и создала в том же году Ассоциацию развития психоанализа. Умерла она 4 декабря 1952 г.
Подробно анализ ее творчества в отечественной литературе не проводился, хотя ее работ на русском языке выпущено достаточно. Можете приобретать любую ее книгу, не пожалеете. В списке литературы я указал те, которые еще и очень легко читаются. Дать краткий обзор работ Хорни чрезвычайно трудно, ибо просто хочется переписать их. Но тем не менее попробую.
К. Хорни выступает против чрезмерного подчеркивания биологического происхождения невротических конфликтов и связывает развитие невротической личностной установки с особенностями той или иной культуры. Что касается неврозов в европейской культуре, то здесь имеют место три противоречия. Первое – противоречие между соперничеством и успехом, с одной стороны, и братской любовью и человечностью – с другой; второе – между стимуляцией потребностей и фактическими препятствиями на пути их удовлетворения; третье – между утверждаемой свободой человека и всеми ее фактическими ограничениями.
В результате человек стоит перед выбором – уступить или пробиться, его мучает разрыв между желаниями и их осуществлением; он колеблется между ощущением безграничной власти в определении собственной судьбы и ощущением полной беспомощности. Эти противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в точности те конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить: склонность к агрессивности и тенденцию уступать; чрезмерные притязания и страх никогда ничего не получить; стремление к самовозвеличиванию и ощущение личной беспомощности. Нормальный человек преодолевает эти противоречия без ущерба для своей личности, у невротика они вырастают до такой степени, что делают невозможным какое‑либо удовлетворительное решение. И болезнь становится оптимальным разрешением этих противоречий.
Истоки невроза, как и все психоаналитики, Хорни видит в раннем детстве. У ребенка в это время борются три тенденции: К, ОТ и ПРОТИВ. Ребенка влечет во всех трех направлениях. При нормальном воспитании и развитии все эти тенденции уравновешивают друг друга. Когда‑то человек стремится К людям, иногда приходится выступать ПРОТИВ ближнего, отстаивая свои интересы, порой появляется потребность побыть одному и уйти ОТ из общества.
При неблагоприятных условиях воспитания развивается не чувство «МЫ», а ощущение глубокой незащищенности и неопределенного беспокойства, которое К. Хорни называет «базальной тревогой». Источник ее – вытесненная в бессознательное неосознаваемая враждебность. Возникает она под влиянием воспитания. С одной стороны, ребенок любит своих родителей и нуждается в их любви и заботе, с другой стороны, он их ненавидит за ограничение в удовлетворении своих желаний и потребностей. Но эту враждебность он не только не может выразить, но ее невозможно и осознавать, ибо она вытесняется в бессознательное. В качестве защитного механизма на уровне сознания эта враждебность проявляется неосознаваемой тревогой. Клиническая практика и повседневная жизнь подтверждают, что если человек тревожится о ком‑то, на практике это проявляется враждебностью к тому человеку, о ком он тревожится. Мать, которая тревожится о своем ребенке, боясь, что он простудится, кутает его и делает неустойчивым к простудным заболеваниям. Боясь травматизации, она не разрешает ему заниматься теми видами спорта, которые связаны с единоборством, и делает его беззащитным перед хулиганами. Я знаю случай, когда один мужчина попал под машину и получил тяжелую травму только потому, что не хотел волновать свою тревожную жену (он задержался на работе) и не очень внимательно переходил дорогу, стараясь успеть на уходящий автобус.
Иногда вытесняется из сознания чувство тревоги. Тогда она проявляется вегетативными знаками (потливостью, холодными руками, сердцебиением), подавленным настроением и чувством усталости.
В итоге побеждает какая‑то одна тенденция. Если побеждают тенденции К, НАВСТРЕЧУ, то формируется мазохистическая установка, при торжестве ПРОТИВ человек становится садистом. Если верх берет ОТ, развивается человеконенавистничество. Эти чувства не допускаются в сознание и вытесняются в бессознательное по защитным механизмам рационализации, проекции, интеллектуализации и пр.
Вовне мазохистическая установка К проявляется чрезмерной любовью к ближнему, подчиняемостью, готовностью пожертвовать собственными интересами. Садистическая позиция ПРОТИВ выражается стремлением к неограниченной власти, подавлением ближнего с позиции: «Да, я строг, но я ему желаю благ, ему это пойдет на пользу!» Руководители такого плана утверждают, что они живут только для блага своих подчиненных. Нередко они из‑за этой установки не имеют своей семьи. Я знал одного руководителя, который 12 лет не был в отпуске. Когда такие люди уезжают в санаторий, то «по одной путевке отдыхает весь коллектив». Но на уровне сознания они чувствуют себя благодетелями человечества и незаменимыми работниками. Мизантропия установки ОТ проявляется в отшельничестве, выборе профессий и занятий, связанных с уединением (писательский труд, наука).
Когда побеждает одна установка, формируется «идеальное Я». Требования и долженствования его не знают границ и входят в противоречие с потребностями «реального Я», которые постоянно ущемляются. Человек перестает быть самим собой. В результате невротик теряет чувство конкретного, способность жить настоящим моментом. Под влиянием внутреннего напряжения он, опираясь на внутренние предписания, большую часть сил тратит на то, чтобы превратить себя в совершенство. Окружающая среда становится лишь фоном, на котором разыгрывается внутренняя психологическая драма. Этот конфликт между «идеальным Я» и «реальным Я» К. Хорни называет «базальным конфликтом». У невротика разрешение этого конфликта обычно идет в пользу «идеального Я», а «реальному Я» достаются крохи с барского стола, да еще и «реальное Я» прославляет свое «идеальное Я». Но ведь ресурсы для выполнения своих необоснованных и неограниченных претензий «идеальное Я» черпает из результатов деятельности «реального Я», ресурсы и возможности которого имеют известные пределы.
Организм невротика, по меткому выражению К. Хорни, начинает напоминать тоталитарное государство, где правители живут за счет своих подданных, утонченно издеваясь над последними. Рано или поздно начинается «революция» – развивается невроз. Кстати, Хорни выделяет ситуационный невроз и невроз характера. Она отмечает, что ситуационный невроз, как бы ни была тяжела симптоматика, довольно быстро проходит под влиянием незначительного и кратковременного лечения. Невроз характера требует длительной психоаналитической процедуры по уничтожению вышеназванного «идеального Я», и одного инстайта бывает недостаточно. Кроме того, он может протекать и бессимптомно.
Вот некоторые невротические требования и долженствования, которые описывает К. Хорни. Они даны в формулировке A. Beck (1979).
1. Чтобы быть счастливым, необходимо, чтобы мне сопутствовал успех в любом деле, за которое я возьмусь.
2. Чтобы стать счастливым, необходимо, чтобы меня принимали, любили и восхищались мною все люди и во все времена.
3. Если я не на вершине, то я в яме.
4. Прекрасно быть популярным, известным, ужасно быть непопулярным.
5. Если я сделал ошибку, значит, я ничтожество.
6. Моя ценность как личности зависит от того, что люди думают обо мне.
7. Я не могу жить без любви. Если мои близкие (возлюбленная, родители, ребенок) меня не любят, это ужасно.
8. Если он не согласен со мной, значит, он не любит меня.
9. Если я не воспользуюсь каждым удобным случаем, чтобы продвинуться, я буду раскаиваться в этом.
Рассмотрим последствия, к которым приводит следование первым трем правилам.
Правило 1. Поскольку успех в любом деле невозможен, то невротик не берется за те дела, которые требуют значительных усилий, закрывая себе путь к творческому росту и самоактуализации. Отказ от таких попыток рационализируется ссылками на обстоятельства, болезни, объективные препятствия. Однако нереализованные способности не дают спокойно жить. К. Хорни отмечает любимую фразу невротика: «Стоит мне только захотеть». Она описывает переживания одного учителя, который прочел в журнале статью своего бывшего, менее способного, чем он, одноклассника, раскритиковал ее и сказал: «Стоит мне только захотеть, и это будет такая статья!» Во время анализа удалось ввести в сознание вытесненные в бессознательное безуспешные попытки заняться научной деятельностью. Он понял, что написание статьи требует совсем других навыков, чем успешное ведение уроков. А таких навыков у него не было! Я дал прочитать этот отрывок одному своему больному, у которого были большие трудности с оформлением диссертации и который много разглагольствовал по поводу того, как много ненужных и тупых диссертаций защищается, а ему, такому талантливому, семейные неурядицы, конфликты с начальством и неполадки со здоровьем мешают довести до защиты довольно оригинальную работу. В суете я не обратил особого внимания на то, что больной исчез из моего поля зрения. Позднее я встретил его веселым, здоровым и преуспевающим. Он мне рассказал, что фраза «Стоит мне только захотеть» перевернула у него все внутри. «Я решил, что лучше умру, чем не доведу дело до конца. Я стал методически и с большими усилиями над собой работать (ибо привык, что мне все давалось легко), делать то, что необходимо для завершения работы. Как видите, не умер! Здоровье быстро пошло на поправку. Добиваясь защиты (работу отклонили два ученых совета), я на практике применил те знания, которыми овладел, работая в группе психологического тренинга. После замечаний работа стала действительно хорошей не только по содержанию, но и по форме. Сегодня я известен в научном мире, получил повышение по службе».
Правило 2. Здоровый человек хочет любви и добивается ее, совершенствуя себя. Получив отказ, он достойно страдает. Невротик добивается любви во что бы то ни стало, используя такие невротические механизмы, как подкуп, взывание к жалости, призыв к справедливости и, наконец, оскорбления и угрозы.
Когда невротик хочет получить любовь посредством подкупа, его мысль может быть выражена так: «Я люблю тебя больше всего на свете, поэтому ты должен отказаться от всего ради моей любви». Таким приемом у нас чаще всего пользуются женщины. Невротики используют этот прием, чтобы добиться любви, ибо это для них единственный способ обеспечить себе беззаботную обеспеченную жизнь. Такая женщина усиливает внешние проявления преданности. Даже если она будет отвергнута, то среагирует на это возрастанием любви и будет убеждена в том, что она находится во власти великой страсти. Иногда подкуп совершается под видом «понимания» человека и помощи ему в его профессиональном и социальном росте, решении проблем и т. д. Это нередко приводит к развитию и углублению любовной связи. Так истеричка стала вначале секретаршей, а потом любовницей у одного преуспевающего адвоката.
Если этот прием не срабатывает, невротик прибегает к жалости. Мысль его такова: «Вы должны любить меня, потому что я страдаю и беспомощен». Такое страдание служит оправданием для предъявления чрезмерных требований. Этот этап наступает тогда, когда с невротиком пытаются развязаться, ибо за свои услуги невротик требует слишком много – чтобы ради него жили. «Вначале я был на вершине блаженства. Но вскоре почувствовал себя, как в наручниках, которые сжимаются все сильнее при малейшей попытке освободиться, – рассказывал мне вышеупомянутый адвокат. – Чтобы не было скандалов, мне пришлось контролировать не только каждый свой поступок, но и каждое слово. Совместная жизнь, как и совместная работа, стала невозможной. Я решил разорвать эту связь, но услышал массу упреков в том, что она остается без средств к существованию, что она больна, что у нее нет никакой поддержки, что я у нее один и пр.»
Если апелляция к жалости не срабатывает, наступает очередь призыва к справедливости. «Вот что я сделал для вас, а что вы сделаете для меня?» В моей практике семейного консультирования невротички считали, что всеми успехами их супруг обязан им. «Я его обтесала, до меня он был грубым мужланом. Я сижу здесь как цветочек и привлекаю к нему клиентов», – утверждала любовница нашего адвоката, которая до начала их связи неплохо выполняла свои секретарские обязанности (этап подкупа). «Если бы я не освободил тебя от забот по хозяйству, ты бы ничего не добилась, – говорил муж‑неудачник своей преуспевающей супруге, когда та решила его бросить. – Я из‑за тебя прекратил заниматься научной работой, а ведь были неплохие предпосылки».
И если все это не возымеет действия, начинаются оскорбления, угрозы. «Таких оскорблений, которые я услышал от нее в свой адрес, я не слышал никогда, – рассказывал мне один пациент с психастенической акцентуацией. – Я узнал, что я изменник, предатель, насильник, подлец, а все остальное бумага не выдерживает. А ведь когда я оставлял свою жену, с которой неплохо прожил более 20 лет, она мне просто пожелала счастья. Воистину, лучшее враг хорошему! Потом любовница грозилась мне отомстить, кричала, что нам вместе на одной земле не жить, и, наконец, грозилась покончить жизнь самоубийством».
Невротик не будет осуществлять угроз, пока надеется достичь своей цели. Если он потеряет надежду, то может сделать это под влиянием отчаяния и мстительности.
Жить с невротиком невозможно. Он как максимальный термометр. Даже снижение уровня любви он рассматривает как ее конец и своими придирками уничтожает ее. Это очень хорошо описано в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Героиня романа своей необоснованной ревностью и упреками добилась охлаждения Вронского.
Я все о женщинах и о женщинах. Конечно, пол здесь ни при чем. Справедливости ради стоит сказать, что сейчас идет феминизация мужчин, которые, изначально планируя брак, хотят жить за счет женщин. Чего стоят их объяснения в любви типа «Ты мне нужна, я не могу без тебя обойтись». Я знаю немало примеров, когда зарабатывает женщина, а ее муж распределяет то, что она зарабатывает, и даже отказывается выполнять домашние работы.
Но вернемся к любви невротической личности.
Мало того. Здоровый человек понимает, что если он не любит, то и его могут не любить. Другое дело невротик. Он может и не любить человека, но тот все равно должен его любить. Выпускница одного института решила расстаться со своим однокурсником, с которым она встречалась в течение всего обучения и за которого собиралась выйти замуж, так как ей сделал предложение материально обеспеченный мужчина старше ее на 10 лет. Одной из причин разрыва было то, что однокурсник нескоро станет на ноги и не сможет ее хорошо обеспечивать. Когда после многочисленных разборов отношения определились, она эпизодически с ним встречалась и даже поддерживала с ним сексуальные отношения и была весьма огорчена, когда бывший претендент на ее руку и сердце отказался от таких свиданий. А когда она узнала, что он стал встречаться с другой девушкой, у нее был невротический срыв.
Правило 3. Следование этому правилу делает невротика несчастным, даже если у него есть реальные успехи, поскольку он не может пережить успеха другого человека. А если идет какое‑то отступление назад, то горю его нет границ.
Правило 4. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик старается понравиться другим. На это уходит вся его энергия. Личностного роста нет. Следует знать, что значительность личности нередко обратно пропорциональна ее популярности. Нередко популярны поверхностные люди, популярность гения часто возникает уже после его смерти.
Правило 5. Противоречит законам жизни. Ошибка в 7 раз полезней успеха. Ошибки нас учат. Невротик, боясь совершить ошибку, становится бездеятельным и начинает бояться всего нового, т. е. отстает от жизни.
Правило 6. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик, чтобы понравиться, начинает фактически работать на глупцов. Все равно же всем понравиться невозможно. Можно только добиться того, чтобы о тебе хорошо говорили. Но нельзя добиться того, чтобы о тебе все хорошо думали.
Правило 7 тоже не соответствует действительности. Конечно, меня могут не любить, но кто мне может помешать любить? Как писал Ф. Ницше, «я тебя люблю, и какое тебе дело до этого».
Правило 8. Следование этому правилу приводит к тяжелейшим последствиям. Невротик часто добивается того, что ему не возражают. Но тогда невозможно добиться истины. Дела рано или поздно пойдут плохо.
Правило 9. Следование этому правилу приводит к тому, что невротик распыляется на много дел и теряет личностный стержень и стиль.
Кстати, на русский язык уже переведены и вышли в свет некоторые крупные работы К. Хорни. В частности, монографии «Невротическая личность нашего времени», «Самоанализ». Имеется технический перевод книги «Неврозы и личностный рост. Путь к самоактуализации». Работы Хорни весьма актуальны для нашего времени и нашей страны. Они предупреждают, что имущественный успех не приводит человека к счастью, если не решены его внутриличностные проблемы.
У Хорни нет своей техники, а в лечебных мероприятиях она пользовалась психоаналитическими процедурами, но ее идеи оказались плодотворными для развития других психотерапевтических направлений. Ее влияние можно проследить в работах Э. Берна по сценарному анализу, где он пытается дать конкретные параметры характера с различными тенденциями. Ее выводами о сущности чрезмерных невротических долженствований воспользовались представители когнитивной терапии. В другой формулировке без ссылки на К. Хорни используются ее идеи в психоаналитической трилогии. Там источник стресса определяется как непомерные неосознаваемые претензии невротика, которые называются «теоманией». Исследования К. Хорни сыграли свою роль в развитии гуманистического направления и экзистенциальной психотерапии, о которых речь пойдет ниже.
Эрих Фромм (1900–1980) родился во Франкфурте‑на‑Майне в еврейской семье. В 1922 г. окончил Гейдельбергский университет и получил степень доктора философии. Затем в течение года учился в Берлинском психоаналитическом институте, после чего занимался частной практикой, но не бросал занятий наукой. С 1929 г. он работал в институте социальных исследований во Франкфурте, где занимался изучением неосознаваемых мотивов поведения в малых и больших группах. Уже тогда он понимал, что германское общество готово подчиниться диктаторскому режиму. Когда Гитлер пришел к власти, Фромм в 1933 г. эмигрировал в США, где продолжал изучение социально‑психологических идей авторитаризма.
В 1941 г. он написал свою первую книгу в Америке – «Бегство от свободы». Книга не потеряла актуальности до настоящего времени, особенно для нашей страны. Книга выдержала 25 изданий при жизни автора. Известны также книги Фромма «Искусство любить», «Человек для себя», «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или быть», «Здоровое общество» и др.
Фромм считал, что большинство людей могли бы быть счастливы, если бы общество было здоровым. Человек, по мнению Фромма, не так плох как кажется, но в процессе воспитания он утрачивает врожденную способность любить, и вместо счастливой жизни получает мучительное существование, направленное не на плодотворность, а на иррациональное подчинение требованиям авторитарной этики. Человек делает не то, что он хочет, не то, что ему нужно, а то, что требует авторитет: вождь, обычаи, общие представления. В результате он перестает мыслить. Вместо него мыслит «ОНО». Это те самые расхожие мнения и общие представления. Он перестает чувствовать, у него возникают псевдочувства: он злится не потому, что злится, а потому, что в данной ситуации положено злиться; он ходит в кино или театр не потому, что ему это нравится, а потому, что считается, что это хорошо. Так формируются псевдопредставления. Фромм считает, что в процессе воспитания человек перестает жить для себя, что он не может быть самим собой и в то же время боится отстать от стада. Человека раздирают противоречия, и у него развивается мучительное чувство одиночества. Выходом из этого положения является рационализация. Тогда подчинение нормам выглядит не как рабство, а как проявление собственной воли. Индивид объясняет сам себе, что это он делает не потому, что от него требует общество, а потому, что это ему самому нужно. Однако его истинные потребности в развитии не удовлетворяются. Выходом из этого является невротическая симптоматика.
Фромм разработал понятия гуманистической этики, где хорошо – это то, что способствует развитию «человеческой плодотворности», а плохо – то, что тормозит его. В обществе принуждения, где царит авторитарная этика, истинные потребности личности остаются неудовлетворенными и часто неосознаваемыми, что, естественно, приводит к болезненным состояниям.
Еще один фактор, приводящий к болезням, – это чувство одиночества. Оно связано с тем, что только человек осознает себя как отдельное существо, способен помнить прошлое, предвидеть будущее и обозначать предметы и действия символами. Только человек обладает разумом для постижения и понимания мира и воображением, благодаря которому он выходит далеко за пределы своих ощущений.
Единственным средством, снимающим тягостные последствия чувства одиночества, является любовь. Только благодаря любви человек соединяется с другим человеком и через него со всем остальным миром. Однако в процессе воспитания человек теряет способность любить. И вместо равноправных отношений, возможных только тогда, когда они замешаны на чувстве любви, возникают отношения симбиоза – садомазохистические отношения, приводящие к невротическим расстройствам.
Восстановление чувства любви – вот одна из основных задач психоаналитической терапии. Современное общество сосредоточено на проблеме объекта любви. «Кого любить, кому же верить?» Фромм предлагает сосредоточить внимание на субъекте любви. «А могу ли я любить?» Любовь Фромм понимает как активную заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. И он предлагает обучать человека искусству любить. Именно так называется одна из лучших его книг.
Фромм выделял различные виды любви: к себе, материнскую, отцовскую, эротическую любовь, любовь к другу, любовь к Богу.
Базовой любовью Фромм, как и Пушкин, считал любовь к себе. Действительно, если человек себя не любит, он лишен всяческих шансов на взаимность, ибо не должен соединяться с человеком, которого он любит, дабы не подсовывать ему для общения плохого человека. Материнская любовь, которую ребенок получает без каких‑либо усилий, дает ему сладость, мед жизни. Отцовская любовь, которую надо заслужить, способствует формированию у ребенка практических навыков. Любовь к другу позволяет ему жить в мире с ближними. Если в детстве ребенок недополучает необходимую ему любовь, он оказывается неприспособленным к практической жизни, не способен радоваться ей, не может ладить с людьми и, наконец, не в состоянии наладить эротическую любовь. Отсутствие любви к Богу приводит к человеконенавистничеству.
Фромм в последние годы жизни активно занимался общественной деятельностью и отошел от клинической психоаналитической практики, где пользовался техникой традиционного психоанализа. Мой ученик, И.М. Литвак, на основе теоретических положений Фромма разработал оригинальную технику, которую он назвал «Лечение любовью». Суть методики заключается в том, что в процессе лечения пациент получает недостававшие ему в детском возрасте материнскую и отцовскую любовь и обучается любить сам. Кроме того, для более направленного использования психотерапевтических техник он материнскую и отцовскую любовь разбил на инфантильную и зрелую. Суть инфантильной материнской любви – удержание ребенка возле себя. Ребенку она необходима до 1 года. Далее он должен получить зрелую материнскую любовь, которая проявляется тем, что мать отпускает ребенка от себя. Благодаря инфантильной отцовской любви («Делай как я») ребенок приобретает необходимые практические навыки, благодаря зрелой отцовской любви («Делай как хочешь») у ребенка развивается стремление к творчеству.
Лекция 6
Поведенческая психотерапия: Б.Ф. Скиннер
Методы психотерапии основаны на теориях научения. На начальной стадии развития поведенческой психотерапии основной теоретической моделью явилось учение И.П. Павлова об условных рефлексах. Бихевиористы рассматривают поведение как серию условных рефлексов и предлагают не вмешиваться в работу «черного ящика» – головного мозга. При неправильном обучении больного его условные рефлексы приводят к малоадаптивному поведению, столкновению с действительностью и в конечном итоге к неврозам. Поэтому задачами поведенческой терапии являются способствование угасанию малоадаптивных условных рефлексов, приводящих к малоадаптивному поведению, и выработка таких условных рефлексов, которые способствовали бы правильному поведению и излечению от неврозов.
Бихевиористы считают, что подавляющая часть всей сложной человеческой деятельности является результатом научения. Человек старается избегать тех ситуаций, которые вызывают страх, и тем самым не приобретает соответствующего опыта. Но так как уровень страха уменьшается, такое избегание подкрепляется. В результате не удовлетворяются жизненно важные потребности. Например, молодой человек волнуется, когда приглашает девушку на танец. Чтобы избежать этого волнения, он вообще перестает встречаться с девушками. Страха действительно нет, но тогда не удовлетворяются необходимые потребности. Формируется порочный круг, и рано или поздно появляется психопатологическая симптоматика (истерические тики, покраснение лица в трудных ситуациях, навязчивые страхи, сердцебиения, потливость, психогенное выпадение чувствительности и т. п.), которую бихевиористы рассматривают как вариант поведения.
Исторически одним из первых методов бихевиорального лечения был метод систематической десензитации (десенсибилизации), предложенный J. Wolpe (1973). Суть метода заключается в том, что больного обучают технике мышечного расслабления. Кроме того, выстраивается иерархия ситуаций, вызывающих страх. После того как больной научится расслаблению, ему, находящемуся в состоянии релаксации, предлагается вообразить ситуацию, вызывающую слабый страх. Когда эта ситуация перестает быть патогенной, переходят к более сложной. Этот метод используется тогда, когда затруднительно или невозможно создать реальную ситуацию, например полет в самолете, вызывающий страх. Проводить тренировку, естественно, лучше в местах, вызывающих страх. Например, при агорафобиях на первом этапе больному предлагается воображать, как он будет переходить улицу, на втором этапе вначале он переходит улицы с менее интенсивным движением, затем делает более сложные переходы. Сопровождать больного, как это рекомендуется во многих руководствах, мне представляется нецелесообразным, но быть где‑либо поблизости можно. Я, например, идя на обеденный перерыв в столовую, брал с собой больного. Пока я обедал, он сам переходил улицу.
Поведенческая терапия в нашей стране не получила должного призвания, тогда как она одна из немногих имеет четкие критерии выздоровления. На Западе лечение бихевиоральными методами оплачивается страховыми компаниями.
Бихевиористам мы обязаны тем, что они детально разработали психометрические методики, без которых сейчас трудно представить себе современную психологию, а приемы, созданные на основе новых теоретических представлений об оперантном обусловливании (Э. Торндайк и Б. Скиннер), явились крупным вкладом в педагогическую науку.
Суть оперантного обусловливания заключается в том, что в процессе общения стимул, исходящий от одного партнера, приводит к поведенческой реакции другого. Но реакция второго партнера является стимулом для ответа первого. Если общение непродуктивно, то по механизмам порочного круга возникают неверные формы поведения, приводящие в конечном итоге к болезни. Таким образом, общение идет по следующей схеме:
Ребенок попросил у матери купить игрушку, мать ему отказала. Тогда он падает на землю, сучит ножками и рыдает (стимул). Мать не выдерживает этого и покупает ребенку игрушку (реакция). Реакция (подкрепление) служит для ребенка стимулом. Теперь, благодаря положительному подкреплению истерического поведения, последнее закрепляется и впоследствии будет возникать по более мелкому поводу, станет более выраженным, что рано или поздно приведет к болезни. Эти теоретические положения связаны с именем Б. Скиннера, одного их наиболее известных психологов в современной Америке. Техника поведенческой терапии в настоящее время используется не только в клинической практике, но и в школах, детских садах, лечебных учреждениях соматического профиля, спортивных коллективах и на производстве. Там вместо глобального изменения состояния меняют поведение, что в конечном итоге меняет и состояние.
Б.Ф. Скиннер (1904–1990) после окончания Гамильтоновского колледжа попытался стать писателем, что кончилось полной неудачей, но зато он понял, что ему «нечего было сказать существенного». Тогда он поступил на отделение психологии Гарвардской высшей школы, где полностью посвятил себя учебе, имея вне расписания не более 15 минут в день. Он не ходил ни в театры, ни в кино, не посещал вечеринок. Получив докторскую степень, он работал психологом в Гарвардской медицинской школе, затем перешел на преподавательскую работу.
Первая большая работа вышла в 1938 г. Это была монография «Поведение организмов». После ее опубликования он сразу стал одним из ведущих теоретиков. С его именем связано направление необихевиоризма. В последние годы жизни он в основном занимался писательской работой. Наиболее интересными его трудами являются «Наука и человеческое поведение», «Технология обучения», «О бихевиоризме».
Своими предшественниками Б. Скиннер считал Дарвина, Уотсона, Павлова.
Он полагал, что человек по существу не отличается от других животных и что мы более похожи на них, чем хотели бы это замечать. Один из представителей дарвинизма Л. Морган отрицал наличие у животных высших мыслительных процессов и предложил «правило экономии»: из двух объяснений ученый должен выбирать более простое. На этом основании Э. Торндайк полагал, что в случаях, когда животные по видимости выглядят разумными, их поведение более «экономно» может быть объяснено не мыслительными процессами, а чем‑нибудь другим. Например, мы наблюдаем, как курица высиживает цыплят. Периодически она встает с яиц и лапкой переворачивает их. Можно объяснить такое поведение разумной заботой о будущем потомстве, беспокойством о том, чтобы все яйца прогрелись. Но правильным объяснением является следующее. На определенных этапах, когда заканчивается кладка яиц, освободившаяся энергия приводит к тому, что несушка перегревается. Вначале она теряет пуховое оперение. Однако это не помогает. Тогда она садится на белые и, следовательно, более прохладные, чем все остальное, яйца. Когда они прогреваются до температуры ее тела и перестают выполнять охлаждающую функцию, курица поднимается и переворачивает яйцо для того, чтобы охладить себя.
По‑видимому, и наши предки, хотя они были устроены, как и мы, вряд ли связывали свои сексуальные действия с желанием иметь детей. Да и сейчас влюбленные в момент свидания меньше всего думают о детях. А если думают, тогда дети не получаются. В общем, по мнению бихевиористов, мы более похожи на животных, чем они на нас.
Д. Уотсон первым открыто объявил себя бихевиористом. «Психология, с точки зрения бихевиориста, – это чисто объективный раздел естественных наук. Ее теоретическая цель – предсказание поведения и управление поведением. Интроспекция не принадлежит по существу к ее методам… Бихевиорист в своих попытках прийти к единой схеме реагирования не делает различий между человеком и животным».
Изучение работ Павлова привело Скиннера к выводу, что предсказание того, что будет делать средний индивидуум, часто малозначимо или совсем незначимо, когда имеешь дело с конкретным человеком. (Это соответствует правилу логики: то, что верно для собирательного понятия, может оказаться неверным для предмета, входящего в это понятие.) Кроме того, у него возникло убеждение, что психология из вероятностной науки превратится в точную.
Изучение философии привело Скиннера к мысли, что бихевиоризм – не наука о человеческом поведении, а философия такой науки. Бихевиоризм может сформулировать ясно вопросы, на которые могут быть найдены ответы. Скиннер утверждал, что надо исходить только из данных. «Наука – это стремление иметь дело с фактами, а не с тем, что кто‑то о них говорит… Это поиск упорядоченности, единообразия, законосообразных отношений между событиями в природе… Она [наука] начинает… с наблюдения отдельных эпизодов, но быстро переходит к общим правилам и от них к научным законам».
Личность рассматривается Скиннером как сумма паттернов поведения. Различные ситуации вызывают разные реакции. Каждая индивидуальная реакция основана на предыдущем опыте и генетических особенностях. Не существует личности иной, нежели суммы поведения. Скиннер занимается не причинами и мотивами поведения, а только самим поведением.
Основные понятия поведенческой терапии
Реактивное обусловливание – это условный рефлекс. В результате научения у собаки выделяется слюна на условный раздражитель, который ранее был индифферентным. Мы, как и собаки, можем начать выделять слюну, когда зайдем в столовую. Реактивное обусловливание легко прививается и легко исключается. Но тут Скиннер не совсем прав. У животных действительно реактивное обусловливание легко исключается, как только исчезает подкрепление. С человеком дело несколько сложнее.
Социальные психологи проводили следующий эксперимент. В центре лабиринта находилась приманка (кусочек сала). Крыса после нескольких попыток научилась находить приманку. Тот же опыт проводился с добровольцами. Только в центре лабиринта клали не кусочек сала, а 10‑долларовую банкноту. Люди также довольно быстро научились ориентироваться в лабиринте. Когда крысам перестали класть приманку, через четыре‑пять попыток они прекратили ходить в лабиринт. Люди же продолжали посещать его, когда там уже не было 10 долларов. Когда же выставили охрану лабиринта, они все равно пытались проникнуть туда. Может быть, этим свойством человека обусловлены все его достижения. Ведь многие изобретатели и ученые продолжают свою деятельность долгие годы, хотя и не получают никакого внешнего подкрепления! И даже наоборот: их преследуют, а они все равно занимаются своим делом.
Оперантное обусловливание – это процесс формирования и поддерживания определенного поведения посредством его следствий. Например, если ребенок совершит желаемое действие, его поощряют конфетой или игрушкой.
Подкрепление – это любой стимул, увеличивающий вероятность определенной реакции. Подкрепление может быть как негативным, так и позитивным. Позитивный стимул усиливает желательную реакцию, негативный гасит нежелательную реакцию.
Приведу пример позитивного и негативного подкрепления.
У больной с истерическим неврозом довольно часто ситуационно возникали обморочные состояния. Меня вызвали к ней на срочную консультацию. Я быстро вывел ее из обморочного состояния, и после беседы она даже стала веселой, и потом я к ней больше не приходил. Когда через некоторое время у нее опять развился обморок, меня опять пригласили к ней, и опять удалось быстро вывести ее из этого состояния. Обмороки стали учащаться. Итак, мои длительные интересные для нее беседы стали подкреплением для развития обмороков. Тогда я после очередного обморока сказал ей, что наши беседы сразу после обморока бесперспективны, ибо вследствие нарушения кровообращения в головном мозгу затруднено понимание. Беседовать будем не ранее чем через две недели после обморока. Отказ от бесед был негативным подкреплением для ликвидации нежелательного поведения. Обмороки сразу же прекратились. Через две недели мы с ней спокойно решали ее житейские проблемы. Беседы были два раза в неделю. Через два месяца опять случился обморок. Но это уже был последний.
Подкрепление великолепно действует в воспитательном и педагогическом процессе. Вот как использовал эту технику один из моих подопечных.
«Я никак не мог добиться хорошей грамотности у своих сыновей, когда они учились в школе. Написав упражнение, они не хотели его проверять. Когда они попросили дополнительные блага, я сказал им, что свободных денег в семье нет, и предложил им эти деньги заработать. Так как найти работу они не смогли, предложил им поработать на меня. Я попросил их перепечатать тексты психологического содержания. Требования были предъявлены такие: работа оплачивается, если на странице я найду не более трех ошибок. При полном отсутствии ошибок плата существенно повышается. Через три месяца проблема грамотности исчезла. Кроме того, попутно мальчики усвоили психологию. Контакт с ними улучшился. Старший сын уже в девятом классе стал заниматься научной работой и затем поступил в мединститут. Владение машинописью помогло ему во время прохождения действительной службы в армии. Он довольно быстро устроился писарем при штабе. Младший использует правила общения в своей жизни».
Бихевиористы не пытались объяснить причину поведения. Необихевиористы же определяли его как объяснительные фикции. Примерами объяснительных фикций могут служит понятия «автономный человек», «свобода», «достоинство», «творчество».
Автономный человек – это объяснительная фикция, суть которой заключается в том, что у человека есть «внутреннее существо», которым движут внутренние силы. Скиннер же утверждал, что если правильно организовать обучение, кривые скорости научения будут одинаковы для голубей, крыс, обезьян, кошек, собак и детей. «Я могу сказать, что единственным различием, которое можно ожидать между поведением крысы и человека (если не говорить о колоссальной разнице в сложности), является вербальное поведение».
Свобода – еще одна фикция, которую мы приписываем поведению, когда не знаем его причин. Это хорошо видно на примере реализации постгипнотического внушения, когда испытуемый не помнит само внушение, но дает объяснение причины своего поведения – это моя свободная воля.
Достоинство (репутация) тоже объяснительная фикция. Мы отказываем в хорошей репутации, когда причины поведения очевидно порочны. Мы отказываем в хорошей репутации кашлю, чиханию и рвоте, хотя их последствия часто ценны. Но мы хвалим благотворительность, даже если знаем, что она вызвана желанием снизить подоходный налог. Как отмечает Скиннер, нам следует принять тот факт, что мы не все знаем, и воздержаться как от хулы, так и от похвалы.
Что касается творчества, то он приходит к такому выводу: творческая деятельность не отличается от других форм поведения. «Поэт пишет стихотворение, как курица несет яйцо, и оба чувствуют себя лучше после того, как сделали это».
Скиннер считает, что можно управлять поведением. «Вопрос в том, будем ли мы управлять случайностями, отдадим ли управление тиранам или будем управлять посредством эффективного культурного дизайна».
Опасность ложного употребления силы сейчас особенно велика. «Мы не можем принимать мудрые решения, если продолжаем притворяться, что человеческим поведением нельзя управлять, или если мы отказываемся заниматься управлением, когда могут быть достигнуты ценные результаты. Такие меры ослабляют нас, оставляя силу науки в руках других. Первый шаг к защите против тирании – это максимально возможное обнаружение техники управления.
Человек стоит перед трудным испытанием. Он должен сберечь голову – или ему придется начинать с начала, с давнего‑давнего начала».
Наиболее эффективным способом контроля за поведением является награда. Наказание информирует о том, чего не надо делать, но не сообщает о том, что нужно делать. Наказание является основным препятствием научению. Наказуемые формы поведения не исчезают; они почти всегда возвращаются замаскированными или сопровождаемыми другими формами поведения. Эти новые формы помогают избежать дальнейшего наказания или являются ответом на наказание. Тюрьма – прекрасная модель, демонстрирующая неэффективность наказания. Если заключенный ничему не научился, то нет никакой гарантии, что в той же среде с теми же соблазнами он будет вести себя по‑другому.
Кроме того, наказание поощряет наказывающего. Учитель, пугая ученика плохой отметкой, добивается того, что он становится внимательным. А для учителя это положительное подкрепление, и он все чаще прибегает к наказанию, пока не возникнет бунт.
В конечном итоге наказание не удовлетворяет наказывающего и не приносит пользы наказываемому.
При описании поведения не стоит пользоваться следующими словами: «ожидает», «надеется», «наблюдает», «ассоциирует». Еще раз прочтите пример с наседкой. Скиннер утверждает, что причиной поведения является получение желаемого результата. Для того чтобы понять, как ведут себя люди и почему они себя так ведут, нет необходимости заниматься нейроанатомией и физиологией. Бихевиориста интересуют только входы и выходы. Лишь это можно наблюдать. Они ищут условия, регулирующие поведение, а не строят гипотез по поводу потребностей.
Бихевиористы пришли к выводам, что обусловливание происходит и без осознавания. Оно наблюдается даже во сне. Обусловливание поддерживается независимо от сознания. Это привело Скиннера к выводу, что возможности сознания в управлении поведением сильно преувеличиваются. Но все‑таки обусловливание наиболее эффективно, когда человек сознает его и активно участвует в его выработке.
Интересны разработки Скиннера по программированному обучению. Здесь каждый учащийся двигается в своем собственном темпе. Он переходит к более сложному заданию после того, как усвоил менее сложное. Благодаря постепенности продвижения учащийся почти всегда прав (положительное подкрепление), так как он постоянно активен и получает немедленное подтверждение своего успеха. Кроме того, вопрос всегда сформулирован так, что учащийся может понять то, что существенно, и дать правильный ответ. За содержание программы и ее доступность отвечает составитель программы. Учителю остается только помочь отдельным ученикам и организовать классную работу вне программированного материала. Учащиеся не знают оценок друг друга.
Итак, подведем некоторые итоги.
1. Бихевиоральная терапия стремится помочь людям научиться реагировать на жизненные ситуации так, как они хотели бы реагировать.
2. Бихевиоральная терапия не пытается изменить эмоциональную суть отношений личности.
3. В бихевиоральной терапии жалобы пациента принимаются как значимый материал, а не как симптомы лежащей за ними проблемы.
4. В бихевиоральной терапии больной и врач договариваются о специфических целях терапии так, что оба они знают, когда эти цели будут достигнуты.
Скиннер считает бихевиоральную терапию управляющим фактором почти неограниченной силы. Он постоянно выступал против работы с внутренними факторами, что привело к тому, что многие врачи отказались от его идей и вообще от теории научения, обвиняя бихевиористов в манипулировании личностью. Я также не избежал подобных упреков. Не будем строго судить Скиннера и возьмем у него то, что нам подходит. В своей практической работе я использую некоторые его идеи.
Изучение эффектов поведенческой терапии показало, что стойкое улучшение состояния больного происходит все‑таки только тогда, когда наступают внутренние изменения в структуре его личности. Если приемы бихевиоральной терапии помогают нам это делать, то почему бы не воспользоваться ими? И действительно, жизнь продолжается. Теперь уже появились синтетические методы, использующие бихевиоральную терапию как часть новой системы. Имеются достаточно серьезные исследования, показывающие совместимость поведенческой и когнитивной терапии.
Много идей поведенческой терапии можно найти в техниках нейролингвистического перепрограммирования (НЛП).
И что плохого в том, что бихевиористы целенаправленно в лучшую для больного сторону модифицируют его поведение? Ведь хотим мы или нет, но мы модифицируем поведение наших партнеров по общению так же, как и они наше. Так не лучше ли делать это грамотно, а не бравировать своей спонтанностью и непосредственностью?
Я защищаюсь этими положениями, когда меня хотят обвинить в том, что я манипулятор. Да, я обучаю технике управления. Пусть это называется манипулирование. А что в этом плохого, если те, кем я манипулирую, от этого выигрывают? Когда я читаю лекцию, то манипулирую вниманием слушателей, и если они увлечены предметом, то они ко мне не имеют никаких претензий. А вот когда я плохо манипулирую, тогда они начинают шуметь. Да и сейчас я тоже пытаюсь манипулировать вашим вниманием. И если вы дошли до этой страницы, значит, не так уж плохо я манипулировал. Неужели лучше кричать и угрожать? Правда, тогда это будет называться искренним выражением своих чувств.
Если учителя так «манипулируют» учениками, то это гораздо лучше, чем вести опрос в присутствии всего класса и читать при этом нотации: такими приемами мы стравливаем учеников друг с другом. Особенно при этом достается отличникам.
Что же получили бихевиористы?
Эффективность их программ не ставилась под сомнение, но стали подниматься этические и юридические вопросы. Начали обсуждаться проблемы прав заключенных, юношества и пациентов психбольниц.
Я до сих пор чувствую тот пресс, под который попал, когда стал пользоваться приемами поведенческой терапии в клинической практике и педагогической работе. В клинической практике мне не прощался ни один промах. Я вынужден был работать со стопроцентной эффективностью. Если бы я применял обычные методы обследования и лечения и больному не становилось бы лучше, мне никто не сказал бы ни одного худого слова. Но если после применения методов бихевиоральной терапии больные не поправлялись, мне ставили в вину тот факт, что я не воспользовался лекарственной терапией. Иногда после разговора со мной больному становилось хуже с точки зрения традиционной медицины, хотя в действительности происходило осознание некоторых проблем и подавленное настроение носило скорее очищающий характер. Но дежурный врач, придерживающийся традиционных подходов, с удовольствием делал инъекцию психотропного средства и был доволен, что предотвратил суицидальную попытку. Тем более что больной в беседе сказал ему, что после того, как он понял, сколько глупостей натворил, так жить не хочет.
Я получал позитивное подкрепление от результатов лечения и негативное – от замечаний при неудачах. А так как бросать такую работу мне не хотелось, я вынужден был вести явно некурабельных больных, а лечение проводить так, чтобы был хороший результат. Но сложилась парадоксальная ситуация: чем реже я допускал ошибки и чем они были незначительнее, тем больше мне доставалось. Однако приемы поведенческой терапии, которые разработаны мною (психологическое айкидо), научили меня временами отступать, но не отступаться.
Та же история и с педагогической деятельностью. Объективно лекции мои стали интереснее. Это подтверждала стопятидесятипроцентная посещаемость (приходят гости) не только бюджетных (бесплатных) занятий, но и тех, за которые обучающимся приходится платить собственные деньги. Тем не менее я получаю упреки за то, что недостаточно полно и академически осветил тот или иной вопрос. И здесь я каюсь, но продолжаю делать по‑своему. «Не исключено, что после опубликования этой книги меня уволят с работы», – писал я в первом издании. Так вот, все‑таки я уволился. Не бросайтесь меня защищать. Никто меня не увольнял. Более того, даже удерживали. Сам уволился.
Вот как использовал эти приемы один из моих подопечных.
«Используя методы поведенческой терапии, мне удалось благотворно повлиять на своих детей. Они стали отлично учиться в школе и хорошо вести себя не только на уроках, но и на переменах. В период временного падения успеваемости учителя обещали направить в мой институт письмо с жалобой на то, что я не уделяю внимания воспитанию своих детей. А когда я рассказал о своих приемах воспитания (как уже упоминалось, я нанимал детей к себе на работу и платил им деньги за это), о них было доложено в партийные органы, и я имел беседу с секретарем обкома по идеологии. Дело кончилось тем, что я стал проводить занятия в обкоме партии. Везде есть умные люди! Но больше я о своих новациях учителям не говорил до тех пор, пока не началась перестройка».
Работы необихевиористов и в частности Б. Скиннера оказали большое влияние на психологию, клиническую практику и педагогику. Возникли новые школы психотерапии, новая социальная практика, новые технологии обучения. К сожалению, мы от всего этого остались в стороне.
Но и на Западе идеи Скиннера подвергали жестокой критике: журналисты – за то, что он отрицал идеи свободы, творчества, личности; психологи – за то, что не уделял внимания другим проблемам; философы и теологи – за игнорирование проблемы внутреннего бытия. Тем не менее Скиннер предложил свой прямой и ничем не завуалированный взгляд на природу человека. Он позволяет нам понять себя без обращения к интуиции и божественному вмешательству.
Критика гениев – занятие неблагодарное. Лучше сказать им спасибо, взять у них то, что полезно, и идти дальше. И слава Богу, что они не все сделали! Кое‑что осталось и нам.
Лекция 7
Гуманистическое направление: А. Маслоу, К. Роджерс
Здесь я хотел бы остановиться на двух представителях гуманистического направления – А. Маслоу и К. Роджерсе. Это уже наши современники. К. Роджерс, когда в нашей стране начались социальные изменения, в возрасте 84 лет посетил Советский Союз.
А. Маслоу (1908–1970) родился в Нью‑Йорке в семье еврейских иммигрантов. Он окончил Висконсинский университет и после получения докторской степени вернулся в Нью‑Йорк, где занимался с психотерапевтами различных школ – А. Адлером, К. Хорни, Э. Фроммом и др.
Маслоу долго болел, и в это время он занимался делами семейного бизнеса, а впоследствии стал теоретиком применения психологии в менеджменте. Сам Маслоу не любил ограничений. И когда говорили, что он создатель гуманистической психологии, он предлагал убрать определение «гуманистическая». Нужно говорить о психологии. «Не думайте, что я антибихевиорист. Я антидоктринер… Я против всего, что закрывает двери и отрезает возможности».
В отличие от других психотерапевтов, Маслоу изучал не больных людей, а душевно здорового и творчески развитого человека, того, кто достиг высшей степени самоактуализации. А под самоактуализацией он понимал «полное использование способностей, талантов, возможностей и т. п.» Маслоу писал: «Ясно, что существо с Марса, попав в колонию врожденных калек, карликов, горбунов и пр., не сможет понять, какими они должны быть. Так что давайте изучать не калек, а наибольшее, какое сможем найти, приближение к целостному здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия, другую систему мотивации, эмоции, ценности, мышление и восприятие. В некотором смысле, только святые и есть человечество». Изучая лучших людей, можно исследовать границы человеческих возможностей.
У Маслоу набралась группа из 18 человек: девяти современников и девяти исторических личностей (А. Линкольн, Т. Джефферсон, А. Эйнштейн, Э. Рузвельт, Д. Адамс, У. Джеймс, А. Швейцер, О. Хаксли, Б. Спиноза). В общем, неплохая компания. Он дал признаки самоактуализирующихся личностей. Их стоит здесь перечислить.