Платон едет в Китай
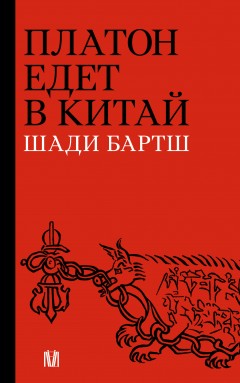
© 2023 by Princeton University Press
© М. А. Леонович, перевод, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025
Посвящается моей матери Лиле Сепехри Бартш
Исфахан, Иран, 1939 – Рестон, Вирджиния, 2021
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω
Многих людей города посетила она и обычаи видела
Предисловие
Эта книга представляет собой переработанный и дополненный текст четырех лекций имени Чарльза Мартина, которые были прочитаны мной в Оберлинском колледже в 2018 году. Однако задолго до этого у меня возникла идея попробовать взглянуть на тексты из своей области – греческие и латинские произведения античной эпохи – со стороны, а не в рамках ведущих культур Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Толчком к данному исследованию послужило желание узнать, в чем именно заключается своеобразие отношения китайцев и их культуры к этим фундаментальным текстам, лежащим в основе западных концепций личности, гражданина, политики, рациональности и даже морали. Поскольку соответствующие нормы частично сформированы идеалами классической античности (особенно благодаря ее влиянию на Ренессанс и Просвещение), они всегда «имели смысл» для меня как философские категории, даже в тех случаях, когда я не вполне соглашалась с их содержанием. Мне хотелось вырваться из этой «зеркальной галереи» и увидеть, насколько не универсальны категории и допущения данной традиции. Как совершенно иная цивилизация со своими традициями, а именно Китай, интерпретирует древнегреческих классиков?
С первой проблемой я столкнулась почти сразу же: то, что китайцы писали о западной античности, они писали в основном (по крайней мере, в те времена, около десяти лет назад) на китайском. Таким образом, пролегоменом к этому проекту стало изучение северного диалекта китайского языка, который показался мне невероятно трудным, несмотря на знакомство с рядом индоевропейских языков. Была и другая проблема: когда я начинала этот проект, китайские слова для обозначения таких личностей, как, например, Сократ, еще не вполне оформились в четкий набор символов (ханьцзы), что еще больше затрудняло исследование. Более того, за изучаемый мной период (примерно с 1890 по 2020 год) об античной традиции успело написать огромное множество видных китайских мыслителей, чьи мнения менялись не только от эпохи к эпохе, но иногда даже и в течение их собственной жизни. Я взвалила на свои плечи титаническую задачу, с которой мне ни за что не удалось бы справиться полностью1.
Но зато меня ожидало несколько удивительных открытий. Первое из них заключалось в том, насколько важны оказались греческие классики в Китае, где их нередко читают как авторов, имеющих непосредственное отношение к китайской политике, правительству, культуре и этике современности. Второе состояло в том, что многие китайские мыслители опирались на эти древние тексты для обоснования своих широких обобщений о воображаемом «западе». Последним откровением стало то, что начиная с 1989 года (после «инцидента» на площади Тяньаньмэнь) в среде китайских интеллектуалов, идеологов и даже правительственных чиновников произошла концептуальная революция в плане их подхода к этим классическим текстам. Иначе говоря, я замечала не просто ряд незначительных изменений, а явные «до» и «после». Этот резкий поворот в отношении (он не коснулся диссидентов в изгнании и ученых на материке, не интересовавшихся политическими заявлениями) был удивительно важным в том смысле, что его основная цель – применение этих текстов для поддержки китайских социалистических и конфуцианских идеалов – поддерживалась примерно в одном и том же духе на протяжении последних тридцати лет. Позвольте мне внести ясность: я не критикую то, что некоторые западные люди могли бы назвать «апроприацией» греческой политической и философской мысли, а скорее размышляю, иногда с удивлением, о различных китайских трактовках античности, с которыми я столкнулась, проводя свое исследование. Критика – неправильная реакция: мы должны понимать, что новые (и даже, если угодно, глобальные) интерпретации старых текстов укоренились в культурах и областях, воспринимающих идеи и тексты иначе, чем их изначальная аудитория (которая, в свою очередь, тоже никогда не была монолитной). Это означает, что мое исследование трансформации некоторых аспектов классической античности «не ставит на первое место вопрос о том, является ли та или иная ссылка на референтную культуру правильной или неправильной» (как это осторожно формулируется в новой области «теории преобразований»)2. Вопрос в том, что представляет собой то или иное прочтение?3 И что мы можем узнать из него о читателях, да и о самих себе тоже?
Здесь могут оказаться полезными несколько замечаний о моих методах в условиях обилия информации. Во-первых, хотя это исследование китайской реакции на классическую древнегреческую философию порой углубляется в детали, оно имеет широкий охват. Я не цитирую мнения «институциональных специалистов по греко-римской античности» из китайских университетов, поскольку они преимущественно сотрудничают с другими учеными-классицистами за пределами Китая и занимаются дошедшей до нас критической литературой по классической античности4. Я исследовала работы тех китайских ученых, которые поощряют общественный и идеологический отклик на античные тексты, влиятельны в широких кругах и заметны на публичной арене. Во-вторых, я постаралась добиться того, чтобы мои утверждения были репрезентативны для широкой читательской аудитории, и с этой целью обращала внимание на индексы цитирования в китайских базах данных, читала множество разного рода публикаций, а также заходила на сайты блогов и социальных сетей. Наконец, осознавая проблематичность сравнения двух совершенно разных культур, я, однако, не пыталась добавить что-либо к дискуссии о неадекватности бинарных категорий «запад» и «восток» для обозначения того хитросплетения стран и культур, которым является современный мир5. Тем не менее, поскольку я собираюсь использовать эти существительные применительно к конкретной теме Китая и западной античности, я надеюсь, что читатель простит мне обращение к этим терминам как к самым очевидным при упоминании моей темы6. В качестве своеобразного признания этой проблемы я не использую заглавные буквы в словах «запад» и «восток».
В стремлении написать книгу, которая вывела меня далеко за рамки моей обычной тематики (еще посмотрим, не уподобилась ли я при этом Икару), я опиралась на мнения многих ученых. Упомянуть здесь их имена – небольшая награда за их помощь. Во-первых, огромное спасибо моему любезному коллеге Хауну Сосси, который отвечал на мои бесконечные вопросы с неизменной улыбкой. Я признательна великому сэру Дж. Э. Р. Ллойду за его академическую мысль и поддержку. Он написал для меня множество рекомендаций! Чжай Вэньтао из Гарвардского университета просмотрел всю рукопись, когда она была готова, и исправил в ней многие досадные ошибки. Он также предложил мне свежий взгляд, будучи хорошо осведомленным как в китайской, так и в американской культуре. Мне помогли и многие другие собеседники, в том числе Николас Косс, Чжоу Ицюнь, Чжан Лунси, Ян Хуан, Лю Цзиньюй, Лэн Вэйхуа, Хоу Цзюэ, Ли Ханьсун, Фан Кайчэн, Невилл Морли, Дэниел А. Белл, Леопольд Либ, У Цзясюнь и Джон Кирби. Я бы не смогла обойтись без моей аспирантки-исследовательницы Чжу Цзяъи и ценной помощи пары отважных и трудолюбивых магистрантов – Конни Чен и Генри Чжао. Мне даже посчастливилось познакомиться с тремя старшеклассниками, которые вызвались работать стажерами-исследователями, – это Эрик Ванг, Тони Чжоу и Мидо Санг. Удачи им!
Я очень рада, что мне помогли рецензенты издательства Princeton University Press, один из которых, Джеймс Хэнкинс из Гарвардского университета, предложил свой проницательный анализ. Я взяла интервью у Гань Яна (одного из персонажей книги) много лет назад, еще в начале работы над проектом, и хочу поблагодарить его за любезность. Лекции имени Чарльза Мартина в Оберлинском колледже дали мне возможность продумать окончательную форму книги, и я благодарю их отдел классической литературы за гостеприимство, а также своих слушателей (многие из которых китайцы) за их интересные и сложные вопросы. Мне также очень помогли Семинар по истории и теории в Осло, комментаторы на сайте Academia.edu и сотрудники Чикагского университета, Гарвардского университета и Центра Чикагского университета в Пекине. Наконец, большое спасибо моему опытному и трудолюбивому редактору Мишель Хокинс. Работать с этой рукописью было нелегко.
Позвольте мне также высказать несколько самокритичных слов. Я надеюсь, что эта небольшая книга лишь приоткрывает двери для различных исследований интерпретации западной античности в Китае. Ее рамки вынужденно узки: я не рассматриваю античные литературные произведения, такие как древнегреческая драма и другие формы поэзии. Кроме того, я не стану утверждать, что существует единая точка зрения или один стандартный метод интерпретации, с которыми китайские читатели подходят к западной классике, хотя я считаю, что существуют определенные тенденции. В конце концов, есть разные интерпретаторы таких текстов, но наиболее важные для этого проекта ученые публикуются в газетах, выступают по телевидению, публично дискутируют друг с другом, порождая аудиторию и последователей. Как я уже отмечала, некоторые из них отошли от своих взглядов 1980-х годов, приняв новую проправительственную точку зрения, и теперь транслируют свое мнение через изменившуюся интерпретацию классики. По всем этим причинам как сами ученые, так и их труды являются увлекательным объектом исследования7. Как говорит Фредрик Фэльман, темы, «обсуждаемые в китайских академических кругах, отражают состояние страны и наблюдаемые в ней тенденции не хуже, чем доклады о ее экономике и политике 8.
В заключение хочется добавить, что, хотя большую часть детства я провела в Азии, я также посещала европейские школы и американские университеты, и поэтому во многом являюсь представителем интеллектуальных и культурных традиций западного мира. Несмотря на десять лет изучения китайского языка (в том числе в двух университетах в Пекине и на Тайване), многочисленные поездки в разные части Китая и погружение в китайский историю ХХ века, я никогда не стану китаянкой в культурном отношении и не пойму всех бесчисленных нюансов того, как их сложное прошлое влияет на их не менее сложное настоящее9. Эта книга – попытка британо-американского классициста, выросшего за пределами США, взглянуть на мир глазами другой культуры. Позвольте мне заранее извиниться: я буду делать ошибки, переоценивать некоторые вещи и недооценивать другие, выдвигать неверные предположения, делать обобщения там, где они неуместны, и наверняка процитирую какую-нибудь интернет-страницу, которая уже перестала существовать. До подводных камней еще надо добраться, а я уже разозлила некоторых ученых, о которых пишу10.
Предыдущие варианты третьей и четвертой глав публиковались в статьях, выходивших ранее. Я благодарю издательства University of Chicago Press и Wiley-Blackwell за разрешение использовать исправленные версии этих материалов. Очень часто оказывалось, что китайские статьи проще найти в интернете, где они часто воспроизведены без номеров страниц. Наконец, если не указано иное, то перевод с китайского является моим собственным.
Шади БартшЧикаго, ноябрь 2021
Введение. Древние греки в современном китае
Бэйшань. Шицзин1 («Канон стихов») [Ода о несправедливости, пер. с китайского А. Штукина]
- Широко кругом простирается небо вдали,
- Но нету под небом ни пяди нецарской земли.
- На всем берегу, что кругом омывает моря,
- Повсюду на этой земле только слуги царя!
I. Почему древние греки?
Конечно, никаких древних греков ни в современном Китае, ни где-либо еще в наши дни нет. Но древние греки живы в Китае благодаря своим произведениям. За минувшее столетие философские и политические тексты западной античности, особенно древних Афин, вызвали активный интерес китайских интеллектуалов, журналистов, реформаторов и националистов. Поскольку Китай был закрыт для запада на протяжении большей части правления династий Мин и Цин, этот интерес возник немногим ранее полутора веков назад[1]. Только во второй половине XIX столетия китайские реформаторы и интеллектуалы, задавшись целью переосмыслить будущие возможности китайской нации, начали обращаться к работам западных авторов по политической теории и философии. Как показано в этой книге, они сочли уместным заимствовать идеи не только из современных текстов, но и из произведений западной античности – трудов таких деятелей, как Платон, Аристотель, Фукидид и, в меньшей степени, римлян Цицерона и Вергилия. Эти древние мыслители заняли место рядом с Кантом, Ролзом, Монтескьё, Руссо и другими2.
Поворот китайцев к западным авторам в поисках вдохновения и направления социального и политического развития впервые произошел в годы кризиса и революции перед и после падения династии Цин в 1911 году. Совсем недавно началась вторая волна, совпавшая с ростом национализма и уверенности китайцев в себе3. Но эти два «поворота» не могли быть более не схожи меж собой. В последние десятилетия правления династии Цин и на заре недолго просуществовавшей новой республики классические произведения западной античности считались важными для научного и политического развития Китая, выбиравшегося из системы, весьма похожей на крепостное право. Статьи выдающихся интеллектуалов, таких как Лян Цичао, помогли распространить политические идеи античной Греции, которые легли в основу брошенного династии вызова (Конфуций, тоже древний мудрец, обычно критиковался как сторонник иерархической династической системы). Сторонники общественных реформ даже полагали, что содержание этих текстов и развившиеся из них традиции способствовали завидному научному прогрессу запада, и эта идея широко обсуждалась в журнальных эссе и газетных статьях4.
В современном Китае произошел фундаментальный сдвиг. Западная классика снова стала темой разговоров и дебатов, но отношение к ней уже иное. С одной стороны, существует научная область западной классики, институционально представленная во многих крупных университетах, хотя отдельные кафедры западной классики – все еще редкость. Эта перемена – заслуга ученых, упорно добивавшихся включения этой сферу в программы бакалавриата5. С другой стороны, в некоторых контекстах классическими текстами вдохновляются идеи, поддерживающие нынешнее правительство Китая, – этот факт стал возможен отчасти благодаря их включению в националистическую тему «исследований китайской цивилизации» (госюэ, 国学). При этом такие тексты используются двумя способами, которые приводят к одному результату – критике запада и одобрению Китая. Либо их осуждают за дурные ценности, которые они представляют, и в этом случае запад рассматривается как наследник этих ценностей; либо их хвалят за хорошие ценности, которые они представляют, и в этом случае показывается, что они находятся в гармонии с современной (а также древней) китайской политической и этической теорией. К Сократу могут относиться как к копии Конфуция; к Аристотелю – как к работорговцу; Фукидид был мудр, как и Платон. Западная классика, первоначально считавшаяся важной для решения проблем модернизации Китая, теперь упоминается в дискуссиях крайне критичных к США и Европе.
Эти классические западные тексты и тексты классической традиции самого Китая приобрели новую актуальность, поскольку Китай и США состязаются за моральное превосходство – в этой борьбе они могут претендовать на олицетворение «гармонии» или «демократии», осуждать друг друга за нарушения прав человека и расизм или указывать друг другу на прошлые злодеяния. В какой-то мере эта ситуация вполне естественна: националисты часто обращаются к своим интеллектуальным (и этическим) традициям для обоснования моральных притязаний, особенно в Китае, где почти непрерывная традиция конфуцианской философии жива и по сей день. Но, как показывает интерес к западной классике, Китай сейчас находится в необычном положении, поскольку также обращается к другим интеллектуальным традициям для обоснования собственной политической идеологии, объединяя разнообразные традиции в единую прокитайскую аргументацию, которую воспроизводят интеллектуалы, общественные деятели, блогеры и журналисты. Это поразительно. Представьте, что тексты китайских классиков стали бы предметом общественного обсуждения в США, поскольку правительство сочло бы их важными, а «Ли цзи» («Книга ритуалов»[2]) влияла бы на американскую политическую сцену6. Представьте, что Шицзин[3] (по заявлениям демократов) использовалась бы для одобрения действий демократов!
Это бы никого не впечатлило. Итак, ситуация в Китае тем более любопытна, поскольку в западной культуре, у истоков которой (отчасти) находятся эти классические произведения, растет ощущение, что произведения классической античности мало что могут нам дать и, возможно, даже не заслуживают места в системе образования. Пока американские университеты закрывают кафедры классической филологии – считая их либо бесполезными, либо уделом элиты, или, хуже того, распространителями империализма, – китайцы читают о Платоне на передовицах партийных газет 7.
Почему китайцы отдают предпочтение древним зарубежным текстам, чтобы пролить свет на собственное настоящее? Причины этого кроются в китайской культуре, а также в меняющихся обстоятельствах политической ситуации в стране. Во-первых, китайцы глубоко уважают свою классику. Тексты конфуцианской традиции (и в меньшей степени даосской и буддийской традиций) издавна формируют китайскую культуру и мышление8. Хотя Конфуций и его учение осуждались и запрещались Мао Цзэдуном после его прихода к власти в 1949 году, та эпоха закончилась[4]. При поддержке правительства различные проявления конфуцианских традиций возродились как важные силы в современном китайском обществе. Некоторые современные мыслители («неоконфуцианцы», «новые конфуцианцы» и «политические конфуцианцы») даже полагают, что лишь возвращение к конфуцианским ценностям оздоровит современное китайское государство, которое балансирует где-то между социализмом с китайскими особенностями и ролью важного участника рыночной экономики и политического игрока на мировой арене, чьим главным соперником считаются США.
Сегодня в Китае не редкость, когда в националистической риторике задействуется древнекитайская философия, причем на самом высоком уровне9. Наследие Конфуция считается столь важным, что президент Си Цзиньпин регулярно упоминает его в своих речах. В 2015 году 135 цитат Си Цзиньпина из классической китайской философии даже были опубликованы в виде книги под названием «Использование аллюзий из классических произведений в трудах Си Цзиньпина» (Си Цзиньпин юндянь, 习近 平用典), изданной главной газетой Коммунистической партии – «Жэньминь Жибао» (人民日报)10. Большинство цитат Си взяты из таких классических конфуцианских произведений, как «Беседы и суждения» Конфуция («Лунь Юй»), «Книга ритуалов» («Ли цзи»), трудов Мэн-цзы и Сюнь-цзы и «Канона истории» («Шу цзин»[5]), и часто содержат нравственные наставления или примеры великодушного монарха, управляющего страной11. Например, одна цитата Си из «Бесед и суждений» гласит: «Если личное поведение тех, [кто стоит наверху], правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное поведение тех, кто [стоит наверху], неправильно, то, хотя приказывают, [народ] не повинуется»12. Предположительно это должно убедить китайцев в том, что, какой бы большой властью ни обладал Си, она в основе своей нравственна, а не авторитарна13.
Я думаю, можно сказать, что на западе политики не считают античную классику символом национальной гордости и не навязывают обществу изложенных в ней этических учений. В родном Чикаго я уж точно никогда не слышала, чтобы мэр призывал поразмышлять, скажем, о достоинствах книги Сенеки «О гневе». Если где-то в глубине политических и этических основ западных народов и таится греко-римская философия, то политики об этом вряд ли рассуждают. Античность пережила краткий миг славы при рождении Соединенных Штатов Америки из борьбы колонистов за независимость. В то время отцы-основатели обращались к Древней Греции и Риму за наставлениями и предостережениями; Джеймс Мэдисон, как известно, избегал модели афинской прямой демократии и опасался «толпы», поскольку считал, что она слишком легко поддается влиянию страстей, что противоречит рациональному руководству14.
Напротив, интерес китайцев к западной античности сравнительно широко распространен. Глядя на сохраняющуюся жизнеспособность античной мысли в их собственной культуре, китайские ученые предположили и продолжают предполагать, что изучение западной античности является ценным источником информации о современном западе. Некоторые идут еще дальше и рассматривают современных представителей запада как прямой продукт греко-римской античности. Исходя из этого, изучение древних классиков можно считать стремлением понять, что является самой сутью запада, через генеалогическую связь запада с некой, так сказать, изначальной сущностью. Этот взгляд кажется более или менее повсеместным: даже на уровне средней школы китайские учебники провозглашают, что западная цивилизация вышла непосредственно из славных дней древних Афин15. В стандартном учебнике истории, с которым я сверялась, с подходящим названием «Стандартизированный экспериментальный учебник для средней школы» (Путун гаочжун кэчэн бяочжунь шиянь, 普通高中课程 标准试验), древние Афины указаны источником современной западной демократии. Это не новшество, а мнение, которому не меньше лет, чем трудам реформаторов позднего периода Цин16. Лян Цичао (1873–1929) подчеркивал этот момент в статье 1902 года «О древнегреческой науке» (Лунь сила гудай сюэшу, 论希腊古代 学术), где он называет Древнюю Грецию (особенно Афины) источником современной западной цивилизации. Словом, это убеждение в том, что классические труды древности сыграли столь же фундаментальную роль в формировании запада, как и китайской нации, определяет курс взаимодействия Китая с западом с конца XIX века по сей день.
Греко-римская античность имеет не только интеллектуальную и культурную, но и политическую ценность. Для некоторых китайских мыслителей изучение античности стало проектом с конечной целью обыграть запад по его же правилам, «ключом» к усвоению и преодолению сильных сторон запада17. Это четко изложено в редакционной статье Журнала классических исследований (Гудянь Яньцзю, 古典研究), который основал в 2010 году Лю Сяофэн – авторитетный общественный мыслитель, профессор Китайского народного университета и консерватор, писавший о христианстве, Лео Штраусе, Платоне и многом другом. Журнал сперва отмечает, что его миссия – «интерпретировать вечную классику китайской, западной, еврейской и арабской цивилизаций на основе конкретных текстов с межкультурной и междисциплинарной точек зрения»18. Затем он провозглашает свой raison d’être – использовать эту классику с пользой для будущего Китая.
Китайская цивилизация имеет крепкие и умеренные традиции образования. Однако под воздействием современной культуры западной цивилизации эти традиции были расшатаны. На протяжении более ста лет ученые нашей страны бьются над все еще не выполненной исторической миссией – добиться глубокого понимания западной цивилизации, а затем возродить дух традиционной цивилизации Китая… Если мы не поймем классическую цивилизацию запада, мы едва ли сможем получить всестороннее и глубокое представление о современной западной цивилизации, а без должного понимания всей модели западной цивилизации мы также не сможем целиком и полностью осознать и постичь духовное состояние китайской цивилизации и ее будущую судьбу.
Судя по этому пассажу, главная цель изучения древних западных текстов (и, в некоторой степени, древнееврейских) – принести пользу самому Китаю – дать Китаю преимущество и видение будущего через понимание чуждого мира, каким является запад19.
II. Что с этого западу?
Хотя я уже объяснила, зачем китайцам обращаться к греческой античности, я пока не выдвинула предположения о том, почему западу стоит уделить внимание особенностям взаимодействия китайцев с западным «классическим каноном». Есть ли какие-то уроки, которые запад мог бы извлечь для себя, исследовав отношение Китая к классической античности и текстам, имеющим, по мнению самих жителей запада, мало общего с повседневной жизнью в условиях современности?20 Есть ли смысл наблюдать за китайскими мыслителями, читающими Платона или Аристотеля, помимо научного интереса в контексте сравнительных исследований их восприятия? Мой ответ – решительное «да». Во-первых, запад теперь видит, что китайцы следят за западом. Я не имею в виду шпионаж. Напротив, изучение того, как китайские ученые читают западную классику, дает западу возможность рассмотреть себя в зеркале другой культуры. Мы можем заметить, как наши аксиоматические допущения, отразившись в нем, вдруг видятся нам под новым и странным углом: например, допущение о том, что философия основывается на рационально-дедуктивных принципах; или что демократия – наилучшая форма правления; или что категория гражданина является или должна быть универсальной; или что независимое картезианское Эго есть основа самости; и так далее. Многие подобные допущения китайцы считают не самоочевидными, а скорее вытекающими непосредственно из классической западной культуры. С нашей точки зрения эти категории могут казаться естественными, поскольку мы редко задумываемся, не напоминает ли это некий порочный замкнутый круг, когда мы интерпретируем тексты классической античности с помощью нормативных предположений, частично обусловленных этой же классической античностью. Встреча с Китаем показывает нам, что такие ценности являются не универсальными, а просто нашими (да и то не всегда). По этой причине изучение восприятия этих текстов китайцами способно помочь нам понять наши собственные допущения.
Однако это еще не все: изучение меняющейся истории восприятия китайцами Платона, Аристотеля, Фукидида и других авторов одновременно позволяет понять, что происходит внутри самого Китая. Подавление демократических принципов, которые запад ценит превыше всего (но поддержать которые в основном не удалось в Ираке и во время «Арабской весны»), укрепило мнение китайцев, что противодействие западным ценностям на площади Тяньаньмэнь было в конечном счете верной политикой. За последние три десятилетия китайское правительство стало активнее утверждать превосходство своей цивилизации над западной, особенно превосходство конфуцианской традиции над западной («рационалистической») традицией. В результате история отношения китайцев к западным текстам дает нам уникально поучительную возможность наблюдать за трансформацией культурной и политической уверенности Китая по мере достижения им статуса конкурента США на мировой арене.
Обращение к западным текстам для поддержки притязаний Китая на цивилизационное превосходство требует от китайских интеллектуалов незаурядной эквилибристики. Главный парадокс, который нужно разрешить, заключается в следующем: если западная классика якобы поддерживает в большей степени китайскую политическую систему, чем западную, то почему мы, запад, как наследники этой традиции, сами не стоим ближе к китайцам? Китайское объяснение строится на том, что со времен Просвещения на западе случился перелом. После этого периода познания (говорят они) запад отошел от классических ценностей добродетели и гражданской ответственности. Конечно, эта траектория начертана широкими мазками и с некоторым пренебрежением сложностями истории и философии. Например, считается, что христианство сыграло минимальную роль в формировании современного запада, да и восточные системы верований, такие как даосизм и буддизм, тоже обделены вниманием, чтобы акцентировать превосходство нового конфуцианского общества социалистического Китая, устремленного в двадцать второй век21.
Китайские ученые из этой группы демонстративно игнорируют ренессансную теорию и практику этики добродетели в политике, возможно потому, что она слишком напоминает конфуцианскую философию, или же из-за того, что она оказалась не слишком успешна22.
III. От «Мастера Ли» к Председателю Ци
Чтобы осознать масштаб перемен, пережитых китайским народом с падением династии Цин (1644–1911), мы должны вспомнить, что до конца XIX века китайская элита считала себя представительницей не только географически центральной «Срединной империи»23, но и культуры, превосходящей культуры всех других наций, которые их соответственно мало интересовали. Так называемый «мандат Неба» гарантировал, что император занимал свой пост по Божественному промыслу; войны и смены династий просто означали, что этот мандат переходил к новому императору «всех земель под Небом» (Поднебесной – тянься)[6]. Эта вера в культурное превосходство Китая пошатнулась во второй половине XIX века, когда китайцы потерпели военное поражение от англичан и французов в «опиумных войнах» 1839–1842 и 1856–1860 годов, а также в результате колонизации крупных прибрежных городов, таких как Шанхай и Гонконг. Последующие попытки внутренних реформ под влиянием контактов с западом способствовали свержению династии Цин в 1911 году – и новому вакууму власти в стране.
Для нас важно то, что первые десятилетия после падения династии Цин гремели споры о том, каким должен быть постдинастический Китай. Свержение Российской империи в 1917 году и последующее унижение Китая европейскими державами, составившими Версальский мирный договор, заставили многих китайских реформаторов и мыслителей искать новые идеи, определяющие содержание гражданства, правительства и национального развития за пределами Китая. Ощущение того, что страна может поучиться у западных держав, повлияло на создание в 1919 году движения «Четвертое мая», участвовавшие в котором студенты и реформаторы призывали к демократическим ценностям, приверженности науке и отказу от старой патриархальной культуры24. Реформаторы династии Цин на рубеже XX века искали ответы в западной политической теории – вплоть до «Политики» Аристотеля, которая цитировалась как аргумент о том, что люди могут полностью реализоваться, только если они являются гражданами государства и политическими акторами25. Как упоминалось ранее, некоторые мыслители даже связывали торжество демократии и науки на западе – две главные цели реформаторов – с причинами не менее древними, чем культура классических Афин.
Однако с приходом к власти Коммунистической партии Китая (КПК) этот интеллектуальный климат сильно изменился. В 1949 году, после десятилетий борьбы между соперничающими военачальниками, Мао и КПК взяли верх и интерес к классическим политическим текстам угас. Только после знаменитых экономических реформ, начатых Дэн Сяопином в конце 1978 года (Гайгэ Кайфан, 改革放放, букв. «реформы и открытость», а также провозглашенный им принцип «не важно, белая кошка или черная – лишь бы ловила мышей»), либерально-демократические тенденции вновь стали достоянием общественности, и потенциальные реформаторы активизировались, предвидя политические реформы и большую свободу прессы[7]. Последовавшие за этим правительственные репрессии вновь повлияли на прочтение античной политической и философской классики. И все же классика вернулась – с некоторыми отличиями. Эти два важнейших момента – движение «Четвертое мая» и нынешний интерес к западной античности – являются темой настоящей книги наряду с более ранней встречей двух миров во время миссии иезуитов в Китае.
Главы книги охватывают период от середины XVI века, когда иезуиты познакомили Китай с классическими текстами, до событий бурного XX века и наших дней. Глава 1, «Иезуиты и провидцы», рассказывает о миссии иезуитов в Китае (особенно в лице Маттео Риччи, или Ли Мадоу в китайской традиции), движении «Четвертое мая» начала XX века и тех годах, которые привели к 4 июня 1989 года. Мы начинаем с иезуитов, поскольку на их примере отлично видно, как можно использовать классические тексты для продвижения своей повестки – в контексте, когда именно западные люди выступают в роли апроприаторов античности. В остальной части книги рассматриваются подходы к классике, которые отражают наблюдающиеся в современном Китае тенденции. Многие ученые, о которых я упоминаю, разделяют веру в состоятельность «древних ценностей» – как конфуцианских, так и платонических, но презирают США. Другие подвергают критике тексты Платона, которые традиционно подкрепляли такие базовые идеи, как гражданство, верховенство закона, демократическое голосование и правление граждан.
В главе 2 рассматриваются примеры прочтения, враждебные «Политике» Аристотеля и афинской демократии. Некоторые авторы превращают «свободного» афинского гражданина в раба своего полиса, а другие называют демократию «суеверием» (китайское слово мисинь, 迷信, примерно означающее «слепую веру»). Есть и такие, для которых настоящая демократия – это Китай. Примеры прокитайской интерпретации вы найдете в главе 3, где рассматривается восприятие знаменитого фрагмента «Государства» Платона: картина «прекрасного города», нарисованная Сократом (иронически? искренне? аллегорически?) для его собеседников. Этот предполагаемый город-государство – Каллиполис – очень беспокоит современных исследователей Платона евгеническим представлением об идеальном обществе, в котором люди делятся на три касты26. Чтобы утвердить эту иерархию, необходима «благородная ложь», объясняющая ее как естественное явление, восходящее к самой матери-земле. В эту ложь будут верить целые поколения, родившиеся уже после создавшего ее выдающегося философа, поддерживая идеологию, которая в значительной степени блокирует переход между классами, и одновременно относя такое общество к категории «справедливых». Реакция китайских идеологов на Каллиполис очень интересна не в последнюю очередь потому, что порой невозможно сказать, не занимаются ли авторы, заявляющие о необходимости «благородной лжи» в политике, разоблачением своего правительства!
Глава 4 посвящена другой дискуссии, связанной с Платоном и Аристотелем: какова роль рациональности в процветании человечества? Изучение рациональности как сравнительного культурного феномена является в некоторых контекстах предметом серьезных научных споров (при это трудность еще и в определении термина «рациональность»)27. Однако некоторые китайские интеллектуалы просто манипулируют этим термином как способом показать, что запад по своей сути страдает от нравственного вакуума. Западная рациональность, по их словам, способствует продвижению технологии в ущерб этике. Она функционирует вне, а не внутри моральных рамок и, таким образом, может целиком служить достижению целей, когда самый эффективный способ добиться чего-либо является наилучшим. Эта западная «инструментальная» рациональность часто связывается с Кантом, но также и с Платоном – в конце концов, именно Платон с его видением рационального города, управляемого самыми рациональными людьми, легко может послужить примером. Интересно, что китайцы осуждают запад, используя западную критику, во многом опираясь в терминологии и взглядах на немецкого социалиста Макса Вебера. Вслед за другими европейскими мыслителями некоторые китайские ученые практически готовы заявить, что Платон является причиной холокоста.
В главе 5 речь идет о бешеной популярности (которая начала спадать лишь недавно) консервативного политического мыслителя Лео Штрауса среди китайских мыслителей, и задается вопрос о том, как и почему возник этот феномен. Отчасти ответ связан со взглядами самого Штрауса на ценность классических текстов, ведь он придавал им политическое и философское значение, по сути, in aeternum (это очень характерный для Китая подход к традиции), одновременно очерняя текущий момент развития западной цивилизации. Не менее важно и то, что Штраус возвышал роль философа до уровня выразителя загадочных истин, необходимых для поддержания статуса-кво (что делало его политически значимым). Кроме того, он предложил модель интерпретации философских текстов в поддержку политических и этических убеждений. И, наконец, Штрауса также интересовали пределы разума: как выразилась Леора Батницки, Штрауса волновали «философские, теологические и политические последствия того, что он считал завышенными претензиями современной философии на самодостаточность разума»28. Постановку этой проблемы, считал Штраус, можно найти у таких философов, как Платон, Маймонид и Спиноза (если искать эзотерические послания, скрытые от взгляда широкой публики).
Глава 6 посвящена расцвету конфуцианского в своей основе национализма Китая за последние двадцать лет, далеко отстоящего от презрения к конфуцианским текстам на заре существования КПК, когда Мао осуждал старого мудреца и его учение. Конфуцианство теперь подпирает новый национализм, наделяя его интеллектуальной и этической историей; некоторые общественные деятели даже увязывают конфуцианство с проблемами экологии и устойчивого развития. Тот факт, что Ху Цзиньтао подчеркивал конфуцианскую ценность гармонии (хэсе), а Си Цзиньпин сегодня говорит о важности «гармоничного общества будущего», позволяет правительству провозглашать новую внутреннюю и внешнюю политику, резко контрастирующую с западной «агрессией». Стремясь представить эти конфуцианские ценности как универсалии, интеллектуалы обращаются к интерпретациям Конфуция, обнаруживающим глубокие параллели с темами «Государства» Платона, особенно учитывая то, что «гармония» и «справедливость» сведены в одно понятие. Кроме того, некой поверхностной параллелью выглядит тема музыкальной гармонии и ее взаимосвязи с эмоциями. Таким образом, Платон и Конфуций поведут нас вперед в новом мировом порядке (с доминирующим Китаем). Однако из них двоих именно Конфуций по-прежнему считается лучшим мыслителем. На трех недавних конференциях, посвященных Сократу и Конфуцию, китайцы утверждали, что конфуцианская гармония превосходит сократовский антагонизм, а отказ последнего от традиций стал предметом критики, как и «отречение» современного запада от иерархического и якобы меритократического Каллиполиса, идея о котором лежит в основе западной традиции политической мысли29.
Учитывая потенциальную ценность классических текстов для китайской идеологии и их подчинение делу китайского национализма, в китайских академических кругах существует конфликт по поводу того, как следует поступать с этими текстами. В этой битве несколько громогласных публичных интеллектуалов объединились против в основном аполитичных профессоров30. В интервью 2015 года десять китайских классицистов с иностранным образованием, в том числе такие уважаемые деятели, как Хуан Ян (греческая история, Университет Фудань), Не Миньли (греческая философия, Китайский народный университет) и Лю Цзиньюй (римская история, Университет ДеПау), открыто заявили о желательности официальной институционализации исследования этих классических текстов на университетских кафедрах, в сочетании со строгой языковой подготовкой и изучением западной историографии31. Китайские классицисты выразили готовность сотрудничать и поддерживать диалог с современными западными классицистами. Они также говорили о дистанции между ними и другими, более видными фигурами, открыто заявляющими о своей прокитайской позиции, такими как Гань Ян и Лю Сяофэн32. Эта последняя группа стремится к тому, чтобы исследование классиков (1) учитывало китайскую традицию наряду с западной и (2) имело непосредственное отношение к современной китайской политике. Гань и Лю также играют важную роль как руководители Китайской ассоциации сравнительных классических исследований (Чжунго бицзяо гудяньсюэ сюэхуэй – основана в 2009 году совместно шестью университетами), которая открыто разделяет мнение авторов редакционных страниц журнала «Гудянь Яньцзю» – в конечном счете изучение западной классики должно служить общему благу Китая33.
Как я отмечала выше, целью данного исследования не является критика прочтения или апроприации (как бы мы ее ни определяли) классических западных текстов упоминаемыми в нем людьми34. Меня интересует, как идеологии формируют восприятие (этот вопрос имеет отношение и к развернувшимся в настоящее время в США дебатам о ценности классиков и о том, могут ли они что-то сказать кому-либо, кроме провалившейся элиты). Тексты, во многом сформировавшие западную философию и политическую мысль, могут служить зеркалом меняющихся настроений Китая и США на мировой арене в прошлом, настоящем и, возможно, будущем. Надеюсь, что понимание этого поможет нам сделать шаг вперед от поверхностных политических нарративов и рассуждений о добродетелях, озвучиваемых мыслителями и теоретиками в обеих странах.
1. Иезуиты и провидцы
Мы считаем, что только господин Наука и господин Демократия могут даровать Китаю спасение от всякой тьмы, будь то политической, нравственной, интеллектуальной или духовной.
Чэнь Дусю 陈独秀
Пытаясь разобраться в чрезвычайной сложности современного Китая, мы должны остановиться на самом исходе XX века и вернуться на четыреста лет назад – к моменту прибытия в Китай миссии иезуитов. Задолго до «неравноправных договоров», заключенных после опиумных войн XIX века, когда Китаю, наконец, пришлось открыться для торговли с западом, группа решительных, смелых и, возможно, безрассудных иезуитов из Португалии, Испании и Италии отправилась в плавание к этой незнакомой стране. Они привезли с собой догматы католицизма, избранные нехристианские тексты и некоторые чудеса западной науки. Пережившие это путешествие в итоге обосновались в Макао, и уже оттуда постарались привлечь внимание императора Ваньли1. В 1601 году Маттео Риччи, итальянский иезуит из Рима, наконец получил приглашение войти в Запретный город в Пекине; император хотел получить от него знания об астрономии и календарной науке2. К тому времени Риччи и остальные научились читать на классическом китайском и говорить на северокитайском, официальном наречии. Они также поняли, что в их интересах одеваться как ученые-конфуцианцы, а не как скромные буддисты, и соответственно изменили свои облик и манеру поведения. При дворе иезуиты теперь имели доступ в элитные круги придворных ученых. Священники вступали в дискуссии с конфуцианскими философами, излагая свои взгляды как католики. Они также отправляли на запад новости о Китае, благодаря чему можно говорить о некотором росте интереса европейцев к этому странному отражению их монархий3.
В конечном итоге дела у бедных иезуитов сложились плохо. После бурной смены династии Мин на династию Цин они попали в немилость к императору; многие были сосланы или убиты, а их воззвания к папе римскому осталась без ответа4. Некоторым удалось быстро адаптироваться к новой политической системе. Согласно одному историческому анекдоту, немецкий иезуит Иоганн Адам Шалль фон Белль (1591–1666) и другие повесили на своем доме табличку с надписью «Это резиденция аполитичных ученых, сведущих также в изготовлении пушек», которая якобы спасла Шалль фон Беллю жизнь5. Позже ему повезло еще раз: добившись аудиенции у недавно назначенного императора Шуньчжи, Шалль фон Белль стал доверенным советником и бюрократом и способствовал продолжению миссии иезуитов вплоть до своего (уже не столь удачного) смертного приговора в 1664 году. К тому времени иезуиты (между которыми возникли серьезные разногласия) пришли к концу своего влияния при китайском дворе – как по численности, так и по духу6.
I. Миссионеры с греческими чертами
Вскоре после начала миссии иезуитов прибывшие издалека чужестранцы обнаружили, что император и его двор с наибольшим энтузиазмом принимают научные тексты и приборы, которые они привезли с собой: трактаты, такие как «Начала» Евклида; собрание древних и современных им научных текстов по гидравлике, картографии, летоисчислению, ботанике и астрономии, а также западные часы и музыкальные инструменты. Маттео Риччи (Ли Мадоу), обладавший обширными познаниями и лингвистическими способностями, быстро адаптировался к культуре двора Ваньли, где делился своими знаниями, завоевывая расположение ко всей миссии иезуитов7. Научные материалы оказались хорошим подспорьем для иезуитов в деле обращения людей в свою веру: эти тексты свидетельствовали о том, что Европа с ее христианским мировоззрением находится на верном пути. Чем еще можно было объяснить мастерство европейцев в астрономии, изготовлении часов, картографии и многом другом? Как выразился иезуит Алвару Семеду (1586–1658), «[наш новообращенный Лео Ли Чжичжао] одновременно изучал расположение царств мира сего и законы Царства Иисуса Христа»8. В 1605 году иезуиты даже приобрели землю, на которой вскоре построили церковь – первое в Китае религиозное сооружение в европейском стиле.
Но камнем преткновения для иезуитов стало то, что китайская элита не проявляла большого интереса к догматам католицизма. Китайские ученые считали себя мудрее этой кучки варваров и опирались на многовековые традиции9. Постепенно миссионеры поняли, что им нужно делать. Они уже стали практически настоящими вельможами, облачились в одежды ученых-конфуцианцев (а не простых буддистов) и читали труды Конфуция, чтобы вовлечь придворных китайских ученых в то, что последние могли бы счесть глубокомысленной беседой. Затем иезуиты научились заимствовать конфуцианскую терминологию и концепции, чтобы «переводить» свои слова в знакомые двору предметы и категории. И, конечно, иезуитам приходилось подвергать себя самоцензуре. По крайней мере, Риччи понимал, что некоторые основные доктринальные элементы католицизма, скорее всего, помешали бы обращению китайцев в христианство, поскольку показались бы им слишком фантастичными, – например непорочное зачатие Иисуса и Его «низкая» смерть на Кресте. Поэтому многие иезуиты приуменьшали или опускали эту часть катехизиса10. В конце концов иезуиты поняли, что им придется нарушать собственные правила и позволять новообращенным продолжать их ритуальные практики, например поклонение предкам, которые монахи объяснили Ватикану как социальную и политическую деятельность, а не соблюдение религиозного культа11.
Иезуиты сделали еще один шаг, поразительный по своей смелости. Риччи, Альфонсо Ваньони и Алессандро Валиньяно придумали способ сделать христианство более приемлемым для конфуцианцев: они пропустили его через сито дохристианского запада, в частности через Аристотеля и стоические учения бывшего греческого раба Эпиктета (ок. 50–135 года н. э.). Иезуиты, отлично знавшие, как использовать классическую философию в христианском богословии, понимали, что общая для греческих философов немонотеистическая этика ближе к конфуцианской традиции, чем к христианству, и, следовательно, полезнее для достижения долгосрочных целей иезуитов. Таким образом, они «транслировали» греческую философию китайцам, негласно подав ее как христианство12. При этом они тщательно избегали явно неконфуцианских аспектов философии стоиков, а также тех ее частей, которые противоречили христианству. Так, они не подчеркивали чуждый конфуцианцам акцент стоиков на роли рациональности в воле, а чуждый христианам стоический принцип отсутствия загробной жизни вовсе исчез из их учения13. Но, как понимал Риччи, между стоицизмом и конфуцианством имелись и реальные точки соприкосновения – точки, которые при внимательном рассмотрении могли свидетельствовать о том, что двум традициям свойственны некоторые общие убеждения. Даже если история о бедном и смиренном Сыне Божьем и творимых Им чудесах не имела аналогов в конфуцианстве, учения о самообладании, благом провидении, обманчивых благах и надлежащих действиях по отношению к другим были знакомы китайскому двору14. Как отмечает Кристофер Спалатин, «следуя модели иезуитского гуманистического образования эпохи Возрождения, в которой языческая нравственная философия стоицизма сыграла роль введения в христианство, Риччи пытался использовать языческую нравственную философию конфуцианства как подготовку к христианству во всей его полноте»15.
Риччи проявил себя как выдающийся мастер в деле представления стоицизма как разновидности христианства. Он понимал, что стоицизм достаточно гибок, чтобы заполнить конфуцианский шаблон, и в то же время имеет общие с христианством нравственные (если не метафизические) предписания. Поэтому Риччи буквально внедрял в Китае учение Эпиктета – в частности, его «Краткое руководство к нравственной жизни», или «Энхиридион». Если бы четыре книги философских рассуждений стоиков уже были адаптированы и использовались иезуитами в их образовательном процессе, то Риччи не составило бы большого труда задействовать основные учения Эпиктета: важность понимания разницы между тем, чем мы можем управлять (мысль, порыв, вера), и тем, чем не можем (богатство, власть, здоровье); признание того, что эмоции основаны на ложных суждениях; и представление о том, что человек, природа и (благосклонная) Вселенная рациональны и дополняют друг друга [коэкстенсивны]16. Эпиктет призывал к доброжелательности по отношению к окружающим, а также самоанализу и самокритике. Он подчеркивал, что люди должны видеть не только внешние проявления «блага», но также понимать, к чему на самом деле сводится их истинная ценность (автоматическая симпатия к красивой девушке, по Эпиктету, не является благой реакцией, в то время как сложный опыт дает шанс повысить эмоциональную устойчивость).
В 1605 году Риччи опубликовал книгу под названием «Двадцать пять речений» (Эршиу Янь, 二十五言), представлявшую собой измененную и сокращенную версию «Руководства» Эпиктета. Вероятно, это была его самая популярная работа о «христианской доктрине», хотя Риччи и признавал во вступлении, что он «говорил о добродетели немного стоически»17. Не вполне очевидным было место этих «языческих» элементов в его прозелитизме18. Возможно, Риччи не счел необходимым это прояснить: в XVI веке римский стоик Сенека все еще считался обращенным христианином, а его письма к Св. Павлу – подлинными, поэтому стоики вполне могли считаться протохристианами19. И, как уже говорилось ранее, иезуитское образование включало классические тексты; иезуиты следовали учениям святого Фомы в теологии и Аристотеля в логике, натурфилософии, этике и метафизике20. Принимая решение о такой «аккомодации» к конфуцианству, Риччи опирался на свое убеждение, что стоицизм и конфуцианство – одинаково ценные этические системы, также связанные отсутствием в них фигуры Иисуса Христа21. Как отмечают Гудман и Графтон, «В частности, иезуиты были, вероятно, лучшими в Европе специалистами по адаптации текстов для передачи таких идей и служения таким целям, которых их авторы никогда не предполагали»22. «Правки» Риччи не имели целью ввести китайцев в заблуждение; как человек, обладавший знанием о Христе, Риччи просто занимался необходимой «интерпретацией», призванной сделать античность сообразной как Китаю, так и христианскому миру.
В целях аккомодации Риччи, конечно, не включил в свои «Двадцать пять речений» ничего такого из греко-римских материалов, что слишком бы противоречило христианской и конфуцианской системам верований, зато вставлял материал, который мог понравиться его читателям. Он заменил множественных богов Эпиктета на единого Бога, переделал примеры из греческой мифологии, включив в них фигуры, знакомые китайцам по их легендам, и убрал то, что могло оскорбить китайцев, например аналогии с гладиаторскими боями и откровенные комментарии о сексуальных отношениях23. Как это делали средневековые христианские авторы и, скорее всего, его собственные учителя Римской коллегии иезуитов, Риччи изменил все античные имена божества или божеств, использовавшиеся Эпиктетом (Зевс, Аполлон, Судьба и т. д.), на единый христианский термин, обозначающий Бога, который в его китайском переводе именуется Тяньчжу (天主, Небесный Господь). В разделе 13 «Двадцати пяти речений» Риччи даже умудрился вставить в свой текст пять основных конфуцианских ценностей: жэнь (человеколюбие), и (справедливость), ли (благопристойность), чжи (мудрость) и синь (верность). Как пишет об этом его ухищрении Лю Юй, «Риччи сохранил основной смысл трудов Эпиктета, но искусно перевел все на философский и культурный язык Китая. [Например,] в то время как ложное благочестие у него все еще состоит в том, чтобы обвинять божественное в отсутствии желания получить или избежать того, чего человек не в силах получить или избежать, истинное благочестие становится у него проявлением пяти основных добродетелей конфуцианства»u200b24. Иезуиты также углубились в труды римского стоика Сенеки, и в нескольких иезуитских текстах даже излагается специфическая версия десяти заповедей, основанная на взглядах Сенеки, а не на оригинале!25
О проницательности Риччи, апеллировавшего к конфуцианским верованиям, также свидетельствует его «Подлинный смысл Небесного Владыки» (Тяньчжу шии, 天主实义) – диалог, в котором конфуцианец и христианин рассуждают об этике и метафизике, причем оба критикуют буддизм и даосизм26. Христианский оратор Риччи объединяет некоторые аспекты католицизма с практиковавшимся в то время неоконфуцианством, указывая, например, что христианство включает в себя конфуцианские понятия справедливости (и) и человеколюбия (жэнь). Все неприятное опускается; хотя Риччи и писал о непорочном зачатии Иисуса, он тщательно избегал упоминания о распятии. Что особенно важно, его христианин утверждает, что у китайцев уже есть своего рода христианский бог. Этот ученый христианин использует китайский термин «Небесный Господь», избегая более распространенного конфуцианского Шан-ди («Верховный Владыка», 上帝) – своего рода антропоморфизированного неба27. Как пишет Ся Поцзя:
Риччи стремился продемонстрировать, руководствуясь естественным разумом и ссылаясь на авторитет конфуцианских текстов, существование Всемогущего Бога, Творца неба и земли, которого в дискурсах иезуитов называли Небесным Господом (Тяньчжу), но которого древние [китайские] классики именовали Верховным Владыкой (Шан-ди), или просто Небом (Тянь)28.
Строго говоря, отвечая на конфуцианский вопрос о том, кто создал самого Бога, Риччи использовал аристотелевский принцип противопоставления сущности и случайности, чтобы доказать существование перводвигателя. Это гармонировало с неоконфуцианской верой в самозарождающуюся Вселенную – особенно рационалистической и светской формой конфуцианства, представленной трудами Чжу Си (1130–1200). Интересно, что Риччи выбрал слово «Тяньчжу» (буквально – «Небесный Владыка»), потому что оно было сродни (благодаря японским заимствованиям) греческому Зевсу – европейскому богу неба, хотя в переводе с китайского первоначально означало «господин». Несмотря на отождествление этих двух богов, набожный Риччи едва ли считал, что у конфуцианцев имелось божество, соответствовавшее христианскому. В конце концов, Риччи должен был обращать людей в свою веру29. Он даже утверждал, что китайцы намеревались стать христианами и что это произошло бы, если бы не отсутствие у них компаса. Согласно преданию, Мин-ди – император империи Восточная Хань – увидел во сне летающее золотое божество и отправил послов в Индию, которые вернулись с «Сутрой сорока двух глав» и познакомили Китай с буддизмом. Однако, по словам Риччи, император отправлял эмиссаров в Святую землю, но они заблудились и вместо этого привезли учение Будды из Индии!30
За эти «правки» – фактически за всю методику аккомодации к своей аудитории путем слияния теологии с аристотелевской и стоической философией, а также с конфуцианством – Риччи и хвалили, и порицали в исследованиях этой миссии31. Дэвид Э. Мунджелло называет политику Риччи «блестящим озарением, которое не только соответствовало современным реалиям, но и хорошо сочеталось с тем немногим, что было известно о глубокой древности Китая, а также апеллировало к китайскому почитанию древности»32. Другой выдающийся ученый, Жак Жерне, осуждает это как акт сознательного обольщения33. Единого мнения нет. Но если, что вполне вероятно, лишь немногие китайцы прониклись гибридными идеями Риччи (чаще желая выразить уважение к его знаниям), то усилия Риччи, пожалуй, не были ни блестящими, ни соблазнительными, а просто послужили дружбе и уважению. Когда же его аргументы действительно звучали убедительно, большинство новообращенных воспринимали их как незначительные вариации на тему того, что конфуцианцам и так уже было известно34.
Эпиктет не был единоличным властителем дум в христианской педагогике; Аристотель тоже сыграл свою роль, как потому, что иезуиты читали «Сумму теологии» Фомы Аквинского, написанную под влиянием Аристотеля, так и потому, что философия самого Аристотеля стала предметом книги иезуита Джулио Алени (1582–1649), озаглавленной «Введение в западную культуру и образование» (Сисюэ Фань, 西学凡). В этой работе Аристотель – наряду с Конфуцием – представлен одним из древних мудрецов и великих учителей философии: он учил самого Александра Македонского!35 В классическом северном наречии китайского языка иезуиты транслитерировали имя Аристотеля иероглифами 亞理斯多 (Yalisiduo, Ялисыдо) которые, возможно, были выбраны потому, что они означали нечто вроде «великий принцип для Азии», или, вероятнее всего (поскольку китайцы еще не приняли иезуитское название Азии), – «пространные рассуждения»36. В своей географической работе Алени, называвший Грецию источником западной культуры, описывал Аристотеля как знаменитого ученого древности, который исследовал материю и принципы, но имя его транслитерировал иначе, как 亞利斯多 (что примерно можно перевести как «великое благо»)37. В любом случае, перевод имени Аристотеля подбирался очень тщательно, чтобы показать его ценность для китайцев.
Однако политическая мысль Аристотеля была малополезна для миссионеров, поскольку концепции гражданского общества и демократии плохо сочетались с китайскими династическими традициями и идеей о том, что император правит «по Небесному мандату». Все, что мы можем сказать о его влиянии в этой сфере, – это то, что преподобный Альфонсо Ваньони (1566–1640) сочинил два тома по западной политической теории, в которых кратко упоминается и Аристотель (Сисюэ Чжипин, 西学 治平). Однако, как и Алени, Ваньони был склонен подчеркивать те аспекты мысли Аристотеля, которые показались бы знакомыми китайским конфуцианцам38. Например, он акцентировал важность добродетельных царей, утверждая, что монархия призвана защищать «лучших людей от толпы» и что «добродетельные цари должны соблюдать законы своих стран и не злоупотреблять властью»39. Подобно Риччи, Ваньони рассматривал классическую философию как своего рода расширение традиционной китайской мысли, поскольку она имела этическую систему, не опирающуюся на Откровение. Опять же, была проведена тщательная аккомодация, чтобы китайцы высоко оценили мысль «варваров». С этой же целью на составленной Алени в 1623 году карте известного мира в Чжифан вайцзи («Картографические записи о заморских землях», 职方外纪), Китай был помещен в центр карты и всего мира40.
В течение 1637–1639 годов Ваньони также опубликовал отдельные разделы своего «Западного учения о пестовании тела» (Сюшэнь Сисюэ, 修身西学), которое он написал в соавторстве с несколькими китайскими учеными. Опять же, греческая философия в нем играет ту роль, которую мы могли бы ожидать от христианства. Апеллируя к конфуцианской концепции добродетельного человека как аналога доброго христианина, Ваньони тщательно избегал утверждений о том, что рай – это награда за праведное поведение, поскольку, как замечает Тьерри Мейнар, «со времен Конфуция китайцы считали идею выгоды (ли) морально неприемлемой и противоречащей понятию справедливости (и)»41. Ваньони сосредоточился на эвдемонической и конфуцианской концепции удовлетворенности как награды в этой жизни. Хотя Риччи ранее уже описывал загробную жизнь в «Подлинном смысле Небесного Владыки», Ваньони затронул проблемы вознаграждения добродетели, поместив в диалог потрясенного китайского ученого, который вопрошает: «Если благородный муж (Цзюньцзы) не совершает добрых дел для того, чтобы получить выгоду или избежать вреда в этом мире, то как он может принимать в расчет выгоду или вред в жизни будущей?»42
Платона иезуиты тоже не обошли стороной. Риччи восторгался знаниями конфуцианцев, необходимыми для сдачи государственных экзаменов, что он связывал с платоновской идеей о философах, которые становятся если не царями, то, по крайней мере, советниками царей43. Риччи даже предположил, что Китай приблизился к воплощению идеалов платоновского государства. По словам самого Риччи: