Движение порядка в природе. Пожелтевшие страницы
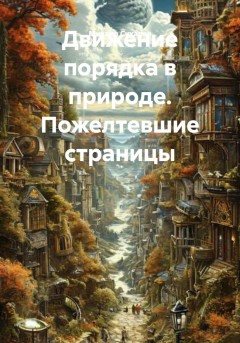
Предисловие
Это довольно старый текст; он написан в 1986 году. Казалось бы, он не имеет непосредственного отношения к проблемам модернизации России. Это практически чистая философия. Но новое в обществе чаще всего возникает, как знание, как изобретение, как идея. А именно философия уже тысячи лет пытается понять, что такое «идея», как она относится к материи и материальным (реальным) вещам, как знание возникает, откуда людям в голову приходят идеи, как идея воплощается в предметы реального мира.
И что такое "знание" и "мышление" вообще.
Человек не в силах создать новую материю или уничтожить «напрочь» ту, что есть; она существует вечно и лишь изменяет свои формы в результате деятельности природы и людей. То, что доступно человеку – это создание новых идей и воплощение их в той материи, что имеется под руками. Вместе с тем, человек способен уничтожить без следа (в отличие от материи) созданные ранее идеи – как сожгли александрийскую библиотеку.
Но и новое знание, и новые идеи создаются, как оказывается при ближайшем рассмотрении, не отдельными гениями-изобретателями, а большими интеллектуальными сообществами людей. Изобретатель комбинирует идеи, выработанные другими людьми в умственной истории человечества, добавляет что-то новое – и получает изобретение, идею не существовавшей ранее вещи, процесса или организации. Нельзя придумать самолет, если раньше кто-то не придумал колесо, крыло, пропеллер, двигатель… болт и рычаг, в конце концов.
Если мы лучше будем понимать, как люди изобретают новое, то, вероятно, сможем лучше организовать процессы, в которых человеческая деятельность организовывается для создания нового в нашей стране.
Поэтому я публикую снова этот текст (с незначительными исправлениями и дополнениями).
И еще два слова. Текст был написан во времена, когда опубликовать что либо, не согласующееся с «диалектическим материализмом» было невозможно. Поэтому там так много слов о «материализме». В действительности, после Гегеля странно говорить о философиях материализма и идеализма, как о разных и к тому же враждебных друг другу философиях. Диалектическая философия «снимает» противоречие примитивных «противоположностей» – материализма и идеализма, утверждая, что мир есть материальное движение идей. Или движение материальных идей, если Вам так больше нравится. В самом деле, идеи не материальны, не «сделаны из материи», а являются формами, волнами, упорядоченностями, организованностями, скользящими по материи. Но, поскольку центр тяжести текста лежит в исследовании движения именно идей, то может быть, правильнее было бы назвать лежащую в основе философию «динамическим идеализмом».
Наконец, последнее замечание. Я теперь понимаю, что язык советских философов, постоянно боровшихся с внешними и внутренними врагами, был чересчур язвительным. Но на момент написания этого текста я был «заражен» этим стилем. Сейчас бы я обошелся без этих колкостей… но переделывать не стану.
Часть I. Идея
1.1 То-что-делает-вещь-тем-что-она-есть
Что мы имеем в виду, произнося “процесс превращения обезьяны в человека”, “эволюция самолетов” или, например, “возникновение и развитие ветряной мельницы” (существует книга под таким названием)? Конечно же, мы не имеем в виду; что какая-то обезьяна в один прекрасный день взяла и превратилась в человека. Не думаем мы и что самолет братьев Райт, плавно трансформируясь на манер того, как это могло бы произойти в мультфильме, превратился в современный реактивный лайнер. Но, если ни одна обезьяна не превращалась в человека, то что же (и во что), превращалось? Что эволюционирует, если самолеты даже не рождаются друг от друга? Что сохраняется и изменяется в каждом из процессов эволюции, заполняющих Вселенную?
Мы не смогли бы увидеть, открыть законы развития, нам даже не пришла бы в голову мысль об их существовании, если бы мы следили только за перемещением материи. Червь съел царя, рыба съела червя, нищий съел рыбу – вот глубокомысленные последовательности, которые можно обнаружить, наблюдая за движением вещества.
Истлевшим Цезарем от стужи
Заделывают дом снаружи.
Пред кем весь мир лежал в пыли
Торчит затычкою в щели
[В. Шекспир, “Гамлет”]
Эта картина вселяет здоровое безумие в наше сознание, но безумие необходимо ему как момент, а знание законов истории – это система.
В двух самолетах из музея авиации не найти ни одного общего атома, но мы моментально видим преемственность их конструкции. Даже конкретная вещь зачастую остается собой, невзирая на полную замену материи в ней. Т. Гоббсу принадлежит следующий парадокс: [см. Е.В. Уемов, 63, с.11].
Царь Тезей отправился в долгое плавание. Во время пути корабль несколько раз ремонтировался и случилось так, что в конце концов в нем не осталось ни одной старой доски; однако путешественники считают, что это тот же самый корабль. Но вот является некто, подобравший за ними одна за другой все старые доски и восстановивший из них корабль. Который из кораблей следует признать настоящим? Человеческая интуиция оказывается в затруднении.
Каждый из нас, людей, похож на корабль Тезея. Наши "детали" – атомы и молекулы – приходят в организм и покидают его в – течении всей жизни.
Представьте себе, что кто-то набрал достаточное количество материала, собрал из него вашу копию и утверждает, что это – истинный вы. “Мы лишь водовороты в вечно текущей реке, мы представляем собой не вещество, которое сохраняется, а форму строения, которая увековечивает себя” – писал Норберт Винер, отнюдь не поверхностно знавший философию [Винер, 58, С. 104].
Истоки представления о том, что придавая форму безразличной материи можно создать любую вещь, теряются во глубине веков. Боги разных народов лепили из грязи и глины миры и людей. В философии Платона материи " … свойственно вмещать всякое рождение… Она "… допускает и воспринимает все виды, причем сама остается лишенной формы, качества и вида, хотя и создает в себе их слепки и отпечатки, будучи как бы "принимающей любые оттиски" принимающей от них очертания, а своих очертаний и качеств не имеющая" [Альбин, в кн. Платон, 86, С.447].
Согласно этому воззрению, в приведенных примерах с обезьяной или самолетами, совершенствуется идея – эйдос, воплощающаяся в подручной материи. Правда, сам Платон считал идеи неизменными, но уже Аристотель сомневался в этом: “…эйдосы должны были бы двигаться, если же нет, то откуда движение появилось?“ [Аристотель, 75, 992, в 5].
Во всей своей исходной ясности соотношение формы и материи дается Платоном: “Положим, некто, отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные: если указать на одну из фигур и спросить, что же это такое, то куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит " золото" и не станет говорить о треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем – то сущем…” [Платон, 71, 50 а]. Как бы продолжает рассуждение Плотин: “…В самом деле, превращающееся не уничтожается полностью. Наоборот, необходимо признать, что происходит превращение одной идеи в другую. При этом сохраняется неизменным то, что приняло идею ставшего и потеряло другую идею… А если так, то каждая вещь состоит из материи и идеи" [Плотин, 69, С. 543].
У Аристотеля есть замечательный синоним для идеи – эйдоса: “То-что-делает-вещь-тем-что-она-есть“ [ФЭС, статья "Форма и материя"]. Действительно, только существованием чего-то дополнительного материи можно объяснить возможность создания из одного и того же вещества различных вещей, объяснить, почему "я" сегодня и "я" десять лет назад, соединенные ничтожной частью общей материи, являются одним человеком, объяснить “…каким образом связывается материя, якобы не ощущающая вовсе, с материей, из тех же атомов, или электронов) составленной и в то же время обладающей ясно выраженной способностью ощущения” [Ленин, Т.18, С.40]. Итак, кольцо, отлитое из золота, чем-то отличается от треугольника, отлитого из того же золота.
Мозг чем-то отличается от камня, составленного из тех же протонов, нейтронов и электронов. Мы можем назвать эту разницу строением, структурой, тотальностью внешней и внутренней формы, но не отделаемся таким путем от самой мысли Платона. Сейчас принято считать смешным заблуждением представление о том, что "каждая вещь состоит из материи и идеи", но в действительности смешно считать наивными Сократа, Платона и Аристотеля. Нелегок ответ на вопросы, заданные 2000 лет назад. Вот, например, один из них. Когда мы делаем шар из меди, “…подобно тому, как не создается субстрат (медь), так не создается шар как таковой, разве только привходящим образом, потому что медный шар есть шар, а создается этот медный шар…” [Аристотель, 75, 1033 а 20]. Не надо быть специалистом по философии, чтобы понять, что форма «шара вообще» действительно не создается при этом, а лишь воплощается в материал (материализуется, как стоимость в деньгах – см. Маркс, Энгельс, Т.13, С.98)
Вместо того чтобы, как положено материалистам, искать, где, в какой материи скрывается форма шара до того, как она воплощена в этом шаре, сейчас широко распространен другой способ борьбы с идеализмом Платона – а именно, отрицание того, что форма, шара существовала до каждого конкретного шара.
"Аристотель совершенно прав, сущность вещи не может быть вне самой вещи" [Лосев, 79, С. 11]. В чем сущность медного шара – в том, что он – медный, или в том, что он – шар? И, если медь шара действительно в нем, то в нем ли вся шарообразность?
К. Маркс имел другое мнение по этому вопросу: “Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному человеку. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений” [Маркс, Энгельс, Т.42, С. 265].
Если мне нужны шары, чтобы катить что-либо, то мне не так важно, из чего они сделаны – из меди или железа, важна именно шаровидная сущность этих вещей.
Другая, также распространенная точка зрения состоит в том, что идея шара, его сущность, как шара, существует объективно в общественном сознании людей, благодаря знаниям которых может быть создан этот шар [см. напр. Ильенков, 84, С. 180- 187].
Но как быть с шарами – планетами, звездами и т. п., которые существовали до, вне и независимо от всякого человеческого сознания?
Живший 2400 лет назад Платон смотрел на вещи несколько глубже: “Человек должен и тому, из чего он создает изделие придать не какой угодно образ, но такой, какой назначен природой. И. в каждом случае, как видно, нужно уметь воплощать в железе то сверло, которое определено природой” [Платон, 71, с. 369].
Установив в будущем контакт с внеземными цивилизациями мы, вероятно, обнаружим у них такие же сверла, как и у нас. Выходит, что формы сверла и шара существуют объективно (не зависят ни от индивидуального, ни от общественного сознания); напротив, сознание зависит от них. Есть разница между двумя этими существованиями – до изготовления первого сверла шарообразные объекты существуют в действительности, а сверла – в потенциальной необходимости. То есть, объективные свойства веществ во Вселенной (металлов, например) таковы, что сверло должно иметь именно такую форму, чтобы сверлить.
Здесь нужно отметить, что говорить о форме шара имеет смысл, лишь поскольку она составляет общее шарообразных вещей. Например, что общего между двумя стеклянными шарами? Стекло в них разное, одинакова форма. А если один шар из пластмассы, а другой – из слоновой кости? Но площадь поверхности обоих шаров будет выражаться одной формулой S = 4pr2, хотя они и сделаны из разных материалов.
Оставляя в стороне чудесную возможность случайного возникновения миллионов обладающих общим вещей, необходимо признать, что это общее имеет причину в некоей материальной связи с его источником. Иначе говоря, наследуемость, передача общего есть имманентное свойство объективного мира. Позже мы увидим, что это одна из причин его развития.
Очевидно, форма сверла кроется в упорядоченной взаимосвязи свойств твердого тела – для изготовления отверстий в пластилине понадобился бы другой инструмент.
Форма шара обусловлена метрикой пространства, которая сама обусловлена взаимодействием всей материи нашей Вселенной. Материализму ни в коей степени не противоречит объективное существование формы, эйдоса, идеи конкретных вещей вне и независимо от человеческого сознания, вне и до отдельной вещи – в других вещах или в виде системы материальных взаимодействий. То обстоятельство, что законы природы не имеют чувственно – очевидного материального воплощения, приводит к вновь и вновь возникающим недоразумениям. Вот один из многочисленных, к сожалению, примеров.
“Легко и просторно умещается материалистическое понимание и в следующем положении Гегеля о всеобщем: “Это всеобщее – пишет он – не существует внешним образом, как всеобщее; рода, как такового, нельзя воспринимать, законы движения небесных тел не начертаны на небе. Всеобщего, следовательно, мы не слышим и не видим – оно существует лишь для духа” [Кобахидзе, 77, С.26]. Интересно, что имел в виду Ш.А. Кобахидзе: что до возникновения человечества не существовали законы природы, или что дух существовал раньше людей? Поскольку он занимает позицию противоположную Гегелю, как идеалисту, то надо думать – он не согласен с вечным существованием духа. Следовательно, с этой точки зрения до возникновения человечества законы природы не существовали; правда, дальнейшее изложение говорит о их вечности и неизменности.
Близкая, хотя и более глубокая точка зрения привела Э.В. Ильенкова к фактическому отрицанию диалектики вне социальной формы движения материи. У В.И. Ленина в работе "Материализм и эмпириокритицизм" есть фраза, позволяющая проникнуть глубже в основной вопрос философии: "Мир есть закономерное движение материи, и наше сознание, будучи высшим продуктом природы, в состоянии только отражать эту закономерность" [Ленин, Т.18, С.174].
Несколько десятилетий работы в области кибернетики и теории систем, ведущейся во всем мире, позволяют лучше понять, с одной стороны, смысл этой фразы, а с другой – чуткость Ленина к вопросам, слабой тенью являвшихся на горизонтах науки того времени.
Итак, всеобщие свойства объективной реальности – материальность, движение и закономерность. Многие и многие тома написаны о материи и движении, значение же закономерности – упорядоченности, структурности, организованности возникает перед нами во всей своей огромности только в последнее время. Есть фундаментальный фактор, придающий неотвратимость этому явлению. Дальнейшее совершенствование средств производства оказывается связано с проблемой создания искусственного интеллекта, а та, в свою очередь и неизбежно – с основным вопросом философии в форме отношения материи и сознания. Впервые развитие материального базиса общества оказывается в такой непосредственной связи с философией, и это знаменательный факт.
Вернемся к закономерному движению материи: ключевое значение такого сочетания категорий подтверждается следующей мыслью Ленина. В "Философских тетрадях", обращаясь к словам Гегеля о том, что в диалектической логике предметом рассмотрения являются не вещи, а суть, понятия вещей, он записывает: "не вещи, а законы их движения, материалистически" [Ленин,Т.29, С.86], связывая это выражение двойной стрелкой с выражением Гегеля "Логос, разум того, что есть"; запомним это – Логос [Гегель] = законам движения [Ленин].
Но как закон движения вещи может быть ее сутью, ее понятием, "тем-что-делает-вещь-тем-что-она-есть"? Ведь в философии Гегеля именно понятие выполняет роль идеи-эйдоса Платона. Понятие – это "… природа, особая сущность, истинно, сохраняющееся и субстанциальное" вещи [Гегель, НЛ, T.I, С.87]. Обратимся еще к одному отрывку, выписанному Лениным: "Объективная мысль… разум в мире, также и в природе или, как мы говорим о родах в природе, они суть всеобщее. Собака есть животное, это – ее род, ее субстанциальное, – она сама есть это. Этот закон, этот рассудок, этот разум сам имманентен природе, есть сущность природы; она не формируется извне, подобно тому, как люди делают стулья". Ленин отмечает: "NB II родовое понятие есть "сущность природы", есть закон [Ленин, Т.29, С.240]; на стр. 216 еще раз "род = закон" и на стр.241 NВ: "общее" как "сущность". Сущность природы, отмечу специально, то есть, объективная, а не мысленная сущность.
Очевидно, Ленин имел в виду не столько внешнее, механическое, движение вещей, а главным образом их внутреннее, закономерное и упорядоченное движение, закон которого (например, биология и биохимия организма, генотип и вытекающий из него фенотип) действительно является родовой сущностью вещи. Задав закон, порядок взаимодействия, взаимного движения атомов и элементарных частиц, мы (и природа) задаем вещь; движение рода в природе, активность общего в ней, которую Гегель принял за активность абсолютной идеи, возникает по крайне простой причине: в материи, от одного материального образования к другому, передается не просто движение, а организованное, закономерное движение. В "Философских тетрадях" есть отрывок близкий по смыслу к пониманию Логики, как закономерного движения элементарных частиц:
"Река и капли в этой реке. Положение каждой капли, ее отношение к другим; ее связь с другими; направление ее движения; скорость; линия ее движения – прямая, кривая, круглая etc – вверх, вниз. Сумма движения. Понятия как учеты отдельных сторон движения, отдельных капель (= "вещей") отдельных "струй" etc. Вот a peu pas [приблизительно] картина мира по Логике Гегеля – конечно, минус боженька и абсолют" [Ленин, Т.29, С.131].
Разумеется, река – это Вселенная; – метафора, восходящая еще к Гераклиту и очень может быть, что капли – это элементарные частицы.
Ленин, много внимания уделявший физике того времени, писал несколькими годами раньше: "Когда весь мир сведут к движению электронов… соотношение групп или агрегатов электронов сведется к взаимному ускорению их, – если бы формы движения были так же просты, как в механике" [Ленин, Т.18, С.303]. Нечего и говорить, что нарисованная здесь картина страшно далека от метаморфоз Абсолютной идеи, нарисованных Гегелем, но зато она очень близка к естественным наукам. Вспомните ассоциацию Р. Винера: "Мы лишь водовороты в вечно текущей реке…", учтите, что водоворот – это закономерное движение материи, и станет намного яснее мысль Ленина. Новая грань, подчеркивающая глубину метафоры, прояснилась в последние годы. Математические исследования доказали, что в течениях самых различных типов неизбежно возникают самоподдерживающая динамическая упорядоченность движения, при определенных условиях, имеющая тенденцию к усложнению [Томпсон, 85; Николис, Пригожин, 79].
Кажущаяся независимость законов движения и организации материи от самих вещей привела к представлению о нематериальной сущности – идее, понятию, эйдосу. Указание на то, что гегелевская идея в материализме соответствует закономерности, можно найти в "Философских тетрадях" [Ленин, Т.29, С.292]. До сих пор не снято диалектическое противоречие между представлением о том, что материя движется согласно бесплотным законам, и о том, что законы в действительности не существуют, а лишь обнаруживаются нами в объективном движении материи. Видимо, здесь надо воспользоваться мыслью Ленина: "Сказать ли: мир есть движущаяся материя или: мир есть материальное движение безразлично" [Ленин, Т.18, С.286] Перенося это на закономерность, получаем: сказать ли: мир есть материальный закон, или мир есть закономерная материя, безразлично; упорядоченная материя = материальный порядок. Отсюда понятно, если учесть традицию понимания закона, как логоса, разума, утверждение И. Дицгена о том, что природа "вовсе не является или материальной, или духовной, а и тем и другим вместе" – утверждение, подчеркнутое Лениным [цит. по Ленину, Т.29, С.431] и имеющее корни в философии Спинозы. Называть ли закономерность, общее в природе идеальным или нет – дело терминологии; это еще не идеализм, заслуга которого в обнаружении не сколько закономерного движения, но, главным образом, движения закономерности. Идеализм начинается там, где идея, закономерность отрываются от материи и начинают свыше диктовать ей свои условия.
Представление о движении, как о движении вообще, страдает метафизичностью. Движение – это всегда изменение порядка отношений в неоднородной материи и, тем самым, упорядоченное движение. Порядок может передаваться в материи, от одной вещи к другой, в результате движения. Аристотель писал: "Ощущение есть восприятие ощущаемых форм без материи… Подобно воску, который принимает только знак золотого кольца с печатью, а не само золото – лишь одну чистую его форму". Ленин отмечает эту цитату "NВ" и резюмирует: NВ душа = воск [Ленин, Т.29, С.260].
Воск воспринял форму – упорядоченность поверхности – в результате движения кольца, порядок передался без материи. Это яснейший пример фундаментального явления объективного мира, пример, чистотой своих форм характерный для Аристотеля. Нет ничего ценнее, чем конкретные примеры, приводимые философом. Они являются опорными точками, маяками среди текучести понятий, позволяющие устанавливать связь с объективным миром. Наши возможности узнавать новое в гораздо большей степени относится к предметам, чем к словам; знание о золоте и воске продвинулось вперед больше, чем знание о форме. Разумеется, это пример одного из источников, питавших идеализм, примитивный случай знаменитой психофизической проблемы, до сих пор терзающей философов. Очень странно, но передача движения от одного материального объекта к другому, например, при столкновении двух стальных шаров, не приводит к таким идейным битвам.
Итак, движение не материально в том смысле, что движение – это не материя; оно может передаваться от одного материального образования к другому без передачи материи. Но движение материально в том смысле, что это всегда и только движение материи, а не чего-либо иного. Это простейший пример диалектики понятий, происходящей от того, что порядок, связь понятий, закрепленная в сочетании слов, мыслей, движений социальной материи, лишь ограниченно отражает порядок объективной реальности. Закон, порядок – идея – так же нематериальны, и материальны вместе, как и движение; это диалектическое противоречие рождает две ошибки: первую – раз порядок передается без материи, то он может существовать без нее (идеализм) и вторую – раз порядок всегда есть порядок материи, то его нельзя выделять, отличать от материи (метафизический материализм).
Второе мнение все еще весьма распространено, поэтому нужно объяснить: порядок, организацию методологически так же необходимо выделять в нашем понимании реальности, как и движение; человечество не изобрело способа отражать реальность, не выделяя и не разделяя; нужно только помнить, что движение и порядок – категории, соответствующие сторонам объективной реальности, что их выделение подтверждено всей практикой человечества, то есть содержит в себе объективную истину и что, выделяя, нельзя отделять их от самой материи. Напомним заявление Плотина о том, что материя принимает идею ставшего и теряет другую идею – его можно рассматривать, как онтологическое доказательство первичности материи; идеи – преходящее, материя – пребывающее. При передаче порядка в материи происходит переворот этого рассуждения: порядок пребывает, материя преходит, протекает – как, например, в биологической популяции. Подобный переворот отношений идеального и материального отмечен Марксом: "Если в простом обращении стоимость товаров в противовес их потребительной стоимости получала в лучшем случае самостоятельную форму денег, то здесь ( – в обращении в качестве капитала – М.С.) она внезапно выступает как саморазвивающаяся, как самодвижущаяся субстанция, для которой товары и деньги суть только формы" [Маркс, Энгельс, Т.23,. С.165].
В связи с этим переворотом возникает вопрос: какие основания у нас говорить о первичности материи? Не иллюзия ли это? Вся совокупность данных, накопленных наукой, позволяет утверждать, что количество материи в известной нам Вселенной в высокой степени неизменно, а количество порядка (хотя мера порядка еще не установлена окончательно), растет от случайности, хаоса Большего Взрыва (подтверждаемой изотропностью реликтового излучения) к оформленности, упорядоченности, организованности на различных структурных уровнях, от атомов до метагалактик, в настоящее время.
Нам известны тысячи случаев, при которых материальные тела теряют или приобретают движение или порядок (например, при испарении кристалла) но сохраняют количество материи, хотя определять количество материи массой или барионным зарядом есть некоторая вольность с точки зрения философии. (Мы не будем углубляться здесь в проблему превращения движения в материю, происходящего, например, в электрической лампочке, где из электрической мощности рождаются фотоны – все это вещи в высшей степени спорные, усиливающие момент диалектичности мира, но не ослабляющие его материальность как объективность)
Следовательно, преходящая в отдельном материя первична в философском смысле – как пребывающая во всеобщем.
Что мы получим за признание порядка атрибутом материи?
Во-первых, это соответствует нашим знаниям о материи. Нам неизвестна материя, в которой не существует хотя бы самый примитивный порядок.
Уже организация всей известной нам материи в роды одинаковых элементарных частиц говорит о наличии порядка, общего, даже в первые минуты после сингулярности, имевшей место в начале нашей Вселенной. Во-вторых, понимание того, что структура, род, идея, форма, закон, необходимость, информация, образ есть проявления единой категории даст те же преимущества (если это правда), что и понимание тепла, механического движения и биологического роста, как движения вообще. В-третьих, порядок есть необходимое звено в цепи категорий материя – неоднородность – взаимодействие – движение. Однородная материя (не имеющая внутреннего строения) – абстракция, соответствующая чистому бытию Гегеля, равному самому себе, не имеющему различения ни внутри себя, ни по отношению к внешнему [Гегель, Н Л, T.I, С. 140]. Это пустая абстракция, ибо такой материи, так же, как и материи без движения, никогда не было. Неоднородность и движение связаны – в однородной, бесструктурной материи, заполняющей Вселенную (если бы это было возможно), двигаться просто нечему. Если в материи существуют выделенные, определенные области – неоднородности, то нужна по крайней мере еще одна вещь, чтобы обнаружить движение. Это взаимодействие между движущимися (причем не обязательно движущимися в пространстве) сущностями. В результате получается элементарный порядок – две неоднородности, связанные взаимодействием. Невзирая на всю схематичность приведенного рассмотрения оно неизбежно как ноль и единица, упорядоченные в машинном слове или "соотносящееся с собой отрицание" [Гегель, НЛ, Т.З, С. 11]. И, последнее, представление о движении порядка в материи создает путь к новому пониманию диалектики.
Материализму не подходит мысль о том, что общее в единичном создается святым духом. Не может быть оно и случайным. Поэтому совершенно очевидно, что причина общего, общая причина, лежит вне единичного.
"Отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему" [Ленин, Т.29, С.318]. В какой связи? Разумеется, в материальной, и притом в связи, несущей идею, порядок. Это почти понимал Аристотель 1: "Ибо семя порождает [живое] также, как умение – изделия; оно содержит в себе форму и возможность…" [Аристотель, 75, 1034 а 30]. Материально-идеальное воспроизводство общества описано в "Капитале" К. Маркса: "… производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, порождающая жизнь"– писал он в "Экономическо-философских рукописях" [Маркс, Энгельс, Т.42, С. 93].
Нам неизвестно пока, какие материальные взаимодействия поддерживают организацию атомов и элементарных частиц (то есть, благодаря каким взаимодействиям передаются по Вселенной законы квантовой механики – но они должны как-то передаваться) но то, что атомы гелия излучают одинаковый спектр (тоже порядок!) в Солнце и в Сириусе – не игра случая и не прихоть святого духа. Возможно, некий вариант теории Единого поля, например, теория супергравитации, вскоре откроет нам, каким путем распространяется порядок в данном случае.
Мы не будем давать здесь определение категории "порядок" – ибо определить ее, подведя под более общую, невозможно, она сама предельно общая.
Важно понять одно – никакая сложно организованная вещь не возникает случайно, тем более множество вещей одного рода. Порядок не возникает скачком. Вероятность возникновения живой клетки в результате случайного соединения атомов исчезающе низка [см. Вигнер, 71, С.160]. Можно даже не подсчитывать, какова вероятность того, что все атомы водорода во Вселенной одинаковы случайно2. Уничтожить порядок легко, создать трудно. Поэтому каждая природная вещь имеет историю возникновения своего порядка, историю его движения в материи – будь это молекула, звезда или человек.
Порядок уходит вглубь вещества; мы получим медный шар, разместив в определенном порядке атомы меди, но мы получим и сами атомы меди, медь как таковую, связав в закономерном движении элементарные частицы. Уже Платон догадывался, что, соединяя в различном порядке некие первоначала, можно получить разное вещество [см. Рожанский, 79].
Вернемся к началу главы. Порядок делает вещь тем, что она есть. Порядок изменяется в любом процессе эволюции. Порядок связывает человека сегодня и десять лет назад.
И еще одно: "… если ничего не существует помимо единичных вещей – а таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем все вещи постольку, поскольку у них имеются что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее" [Аристотель, 75, 999, а 25]. Только потому, что един внутренний порядок у атомов, молекул, вирусов, животных одного рода, исследуя некоторых из них, мы узнаем истину обо всех. Это – важнейшая гносеологическая, причина, требующая выделения порядка из реальности (но не отделения его), но есть и вторая. Узнать что-то означает изменить порядок движения социальной материи (в любой из его форм) в соответствии и под действием порядка объекта. Много раз философы писали о том, что луч света создает ощущение. Но дело в том, что не один луч света создает образ, а множество лучей (волновой фронт), порядок движения которых несет порядок того, от чего они отразились. Без этого порядка мы увидели бы просто свет. Даже цвет есть некий порядок – длина волны. В свою очередь ощущение инициируется не вообще нервными импульсами, а порядком, их следования в пространстве (от каких рецепторов и по каким волокнам они идут) и во времени.
Чем сложнее форма объекта, тем сложнее порядок этих импульсов. Э.В. Ильенков пытался разграничить идеальный образ и соответствующую ему структуру (порядок) импульсов. "От структур мозга и языка идеальный образ предмета отличается тем, что он – форма внешнего предмета" [Ильенков, 84, С.173]. Для того, чтобы убедиться, что эти структуры и представляют собой (представленная форма – термин Гегеля и Маркса, означающей идеальное) форму внешнего предмета, достаточно прервать эти импульсы или изменить их порядок; исчезнет или изменится сам идеальный образ.
Личностно-идеальное не может быть ничем иным, как порядком (видимо чрезвычайно сложным) распределения возбуждений (состояний) тканей мозга, вероятно вплоть до изменений на молекулярном уровне. Секрет идеальности, ее тайна, в том, что элементы этого порядка соответствуют порядкам вне мозга – вещей природы и порядков общества и в том, что будучи материальным порядком, он может управлять телом человека, действовать в материальном мире. Таким образом, закономерное движение материи отражается в закономерности движения мозга; порядок передается от одной части мира к другой. Подобным образом движение при столкновении передается от одного стального шара к другому.
Иногда говорят "диалектический материализм есть учение о всеобщей связи мира". Это положение требуется уточнить – не просто о связи мира, но о порядке связи мира; ибо общее есть в мире лишь потому, что связь его не беспорядочна.
Представление о порядке поможет конкретизировать ленинскую идею о всеобщности отражения; ясно, что никакого отражения вне порядка быть не может, но это не все – поняв отражение, как порядок, как информацию, мы сможем измерять его.
И тогда "…весь философский скарб… станет излишним, исчезнет в положительной науке". [Энгельс, Т.20, С. 525]
До сих пор философы объясняли мир, теперь настало время объяснить философию
Часть
II
. НЕСКОЛЬКО РАССУЖДЕНИЙ О ПОРЯДКЕ
2.1 Рассуждение первое – о словах
Представление о порядке, сложившееся в голове автора, само является определенной связью мыслей, образов и понятий.
Эти мысли, эти образы содержать в упорядоченном, закономерном движении материи нервной системы.
"Ощущение зависит от мозга, нервов, сетчатки и т.д., т.е., от определенным образом организованной материи…" [Ленин, Т.18, С.50].
Многие считают, что мысль, идеальное не являются ни строением, ни состоянием мозга, но порождаются им. Мысль Ленина "…познание человека = мозг человека (как высший продукт той же природы…)" [Ленин, Т.29, C. 164] воспринимается ими, как художественное преувеличение. В позиции этих мыслителей есть один недостаток – от них невозможно добиться вразумительного ответа на вопрос: каким же образом порождается это идеальное, что именно означает термин "порождение"? Из рассуждений сторонников этой школы видно, что они представляют себе мозг, как фабрику по производству нематериального духа. Более того, многие из них – принципиальные противники понимания мышления, как закономерного движения материи и работ, проводимых в этом направлении. Этих теоретиков вполне устраивает паралич сознания, охватывающий робких исследователей при грозных словах "редукционизм" и "механицизм". К счастью, инженеры не читают книг этих философов, а работают с вещами самой природы, в простоте душевной незаметно для себя повторяя ее путь к разуму. Ведь только теоретические знатоки диалектики не понимают, что развитие машин неизбежно превзойдет их меру и изменит их качество.
Представление о движении порядка в материи может навести порядок и здесь. Так вот, мышление, идеальное, душа человека есть порядок движения мозга или движение порядка в мозгу – как Вам больше нравится, но смысл идеального в том, что порядок в мозгу не есть его порядок. Такое гегельянское утверждение следует пояснить; попробуем сделать это так:
То же отношение, что существует между мозгом и остальным миром установлено сейчас между нами. Если Вы думаете, что читаете то, что я написал, то Вы заблуждаетесь – я пишу авторучкой, а Вы видите печатный текст. Тем не менее, как не крути, а Лев Толстой написал книгу, которая стоит у меня на полке. Порядок может передаваться от одной вещи к другой, становясь ее порядком и только кусочек, маленькая часть порядка моего мозга передалась в Ваш мозг. Так же не все порядки тетради, в которой писал Толстой, передались в книгу на моей полке. Там нет следов обложки, фактуры бумаги и так далее. Нет почерка (геометрии письма) писателя. Остался лишь порядок букв и слов, и то – приведенный к современной орфографии. Но, тем не менее, мы воспринимаем именно смысл, отправленный от него к нам. И есть еще идейный, мысленный почерк писателя, который легко узнается по нескольким предложениям.
Чтобы озадачить читателя, я воспользовался окольным путем – с помощью слов столкнул лбом две идеи, привел во взаимодействие два порядка, уже существовавших в Вашей голове: систему представлений о мозге и реальности, создававшуюся и проверявшуюся на прочность многие годы, и систему представлений о написании, печатании и чтении книг. То есть, смысл текста лишь отчасти заключен в связи его слов; они нужны писателю для того, чтобы изменять и передвигать чужие мозговые порядки, иногда невыразимые в словах. Невыразимые как в словах читающего, так и в словах пишущего.
Разумеется, я не хочу сказать, что электроны (или еще что-то у Вас в мозгу) начали двигаться в том же порядке, что и у меня; разные издания книги могут иметь разный шрифт и могут даже быть переведены на другой язык; важен не шрифт, а порядок связи общих людям понятий, на который указывает текст, общность которых в каждом человеке установлена общим миром и мировой культурой, хотя и закреплена в разных индивидуальных комбинациях возбуждений мозга.
Например, фраза «поставим стул на стол» – и все ясно, даже если это написано триста лет назад и переведено на другой язык. Слова указывают на связи между понятиями, соответствующими реальным вещам, отлично знакомым и читающему, и пишущему; связь вещей и понятий проверяется глазами и руками, которые много раз брали стулья и переносили туда-сюда. Но вот что бы сказал человек из 1950-х, если бы узнал, что его внук будет заботиться о коврике для своей мышки…
Общность порядка состоит здесь в том, что, хотя связи установлены между разными состояниями, но состояния эти относятся к одинаковым объектам, а определенная связь между определенными объектами и есть порядок. Связь же индивидуальных состояний в мозгу человека с общими предметами и явлениями мира устанавливается необходимостью материального существования организации тела человека в этом мире и обществе – то есть, жизнью. Если я связываю запах апельсина и его внешний вид, и Вы также – хотя эта связь выражена разными комплексами нервных импульсов – это не случайно, а определено тем, что апельсиновый запах и цвет связаны в реальных апельсинах. А сходство разных апельсинов тоже не случайно и определяется движением генокода (молекул ДНК) от их древних предков.
Гегель, стремясь к абстрактности, соединял друг с другом слова вместо того, чтобы соединять друг с другом представления читателей – и потому через его тексты приходится продираться, как через колючий кустарник – ведь для начала он оторвал слова от их обычного употребления. Если бы Гегель приводил больше конкретных примеров, понять его было бы много проще. Возможно, его поняли бы русские марксисты3, и история России пошла бы по другому руслу…
Отдав должное критике слов, нужно признать, что слова все же важнейшее средство общения между людьми, и поэтому надо установить связь между словом "порядок" и другими словами, использовавшимися в философии.
Ленин писал, конспектируя главу "Механизм" "Науки Логики" Гегеля: "Понятие закона сближается здесь с понятиями: "порядок"…, однородность; … необходимость; душа [объективной тотальности]; "принцип самодвижения". Это сближение очень важно" [Ленин, Т.29, С.167]. Ленин и сам сближает понятия "закон" и "необходимость".
Сравните между собой два симметричных определения:
"Мир есть закономерное движение материи, и наше сознание, будучи высшим законом природы, в состоянии только отражать эту закономерность" и "Познавать необходимость природы и из нее выводить необходимость мышления есть материализм" [Ленин, Т.18, С.172, 173].
Дополнительно надо учесть, что "необходимость неотделима от всеобщего", "законы или необходимости природы", [Ленин, Т.29, с.55, с. 72] и что “Форма всеобщности в природе – это закон”, [Энгельс, Т. 20, с. 549] а закон вещи – это ее родовое понятие [Гегель].
К этому надо добавить, что общее это – сущность [Ленин, Т. 29, C.241], а сущность это – истина бытия [Гегель, НЛ, Т.2, С.7]. Некоторые философы считают, что истина бытия – пустая, ложная категория. Они просто забывают о том, что мозг имеет бытие, и потому неспособны материалистически понять тезис Гегеля, утверждавшего что познание "есть движение самого бытия" [там же]. Правда, Гегель имел в виду, что бытие – это движение идеи, а в действительности идеи тоже – движение бытия; отмечая эту зеркальную противоположность, Энгельс и Ленин говорили о "материализме, стоящем на голове". К сожалению, довольно многие советские философы, пытаясь перевернуть это несчастное создание, для начала отрывают ему голову, а именно – представление о движении понятия в природе.
Ленин, между тем, писал: "Отрицать объективность понятий, объективность общего в отдельном и особом, невозможно. … Здесь надо искать истинного смысла, значения и роли гегелевской логики" [Ленин, Т.29, C. 160].
Но необходимо вернуться к словам. Несомненно, можно сделать интереснейшее исследование о категориях, употреблявшихся разными философами для обозначения порядка связи мира, категорий, делающих вещь "тем-что-она-есть"; но здесь, в этой небольшой работе, просто не хватит места. К тому же, так ли это важно для самого порядка вещей? Слова текут быстрее, чем мир – и только поэтому мы приближаемся к его пониманию в наших теориях.
Слова, слова, слова … – сказал Шекспир, самый великий мастер слова. Почему же он так пренебрежительно отозвался о своем материале? Слова прикреплены к устоявшимся понятиям, представлениям людей о мире, и тому, кто желает изменить эти понятия, приходится бороться со скорлупой слов. "Задача состоит в том, чтобы сделать окостеневший материал текучим, и возжечь живое понятие в таком мертвом материале" – писал Гегель, сам мастер по части "обламывания", "вывертывания" слов и понятий. [Гегель, НЛ, Т. 3, С.7]; мастером «вывертывания» слов назвал его Ленин [Т.29, C.135].
Не помню, кто из лингвистов назвал текст "машиной для изменения смысла слов" и кто из наших философов возмущался этим великолепным диалектическим определением. Критикам теории несоизмеримости надо бы указать на то, как текст "Капитала" изменил смысл понятия "стоимость", сделав его буквально несоизмеримым с его предшествующим смыслом.
Ведь нельзя считать, что слово "стоимость" не имело до того никакого смысла; Ленин писал, что учение Маркса "возникло как прямое продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма …" [Ленин, Т.23, С. 40].
Так каким же образом удается с помощью одних слов изменять смысл других?
Во-первых, комплексы слов, соединенные логическими связями через их устоявшиеся значения и непротиворечивые внутри себя, часто содержат слова, имеющие иной смысл в другой хорошо организованной системе слов (другая теория или даже другая часть той же теории). История науки свидетельствует, что люди десятилетиями могут не обращать внимания на такое несоответствие; но когда кто-либо сталкивает эти системы, начинается крушение – разрыв старых связей слов с явлениями мира, которые они обозначали. Это период, названный Т. Куном «научной революцией». Потому-то "гений – парадоксов друг" ("Пушкин).
Во-вторых, перед глазами людей, к счастью, находятся не одни слова. Изменение строения тела общества в виде появления новых его инструментов приводит к изменению образов вещей в человеческом сознании, создавая дрейф смысла слов (сравните объем значения слова «лампа» до и после появления электричества, слова «электрон» у древних греков и сейчас); как ясно из диалектики, в какой-то момент этот дрейф приводит к качественному скачку – в чем и увидели такие философы, как П. Фейерабенд несоизмеримость понятий. Но качественный переход не уничтожает, а снимает предшествующее – как общество снимает жизнь, включая ее в себя. Правда, не всегда это столь очевидно – ведь и самолет снимает в себе паровоз.
Слово "порядок", выбранное мной4, может быть, не лучшее слово для того, что оно должно обозначать; если общественное сознание примет представление о развитии Вселенной, как движении и усложнении порядков внутренних и внешних материи, возможно, оно найдет и лучшее слово для этого понятия.
"Порядок" выбран, как самое гибкое из слов, обозначающих упорядоченность расчлененности.
"Идея" – противится сознанию ее внутренней сложности и носит слишком субъективный оттенок.
"Структура" – кажется оторванной от материи и, к тому же, чересчур атомистична – если в волне можно признать порядок, то структуру – лишь с некоторым напряжением.
Не хотелось употреблять и иностранные слова.5
Всеобщие понятия невозможно подвести под другие; "материя" в чистом виде ничего не дает для порядка, как неразличенное внутри себя; "движение" невозможно вне отношения различенностей, которое и есть простейший порядок. В.Б. Кучевский считает полезным употребление категории "субстанция" в смысле "сущностного единства материи и движения" [Кучевский, 83, С.233]; это справедливо, ибо подчеркивает неразделимость материи и движения, но кажется необходимым дополнить понятие субстанции еще одной стороной – порядком, отдав должное прозрению Спинозы. Введение категории "порядок" придаст третье измерение учению о всемирной связи – ведь общее есть в мире потому, что связь его не беспорядочна.
Выйти за пределы всеобщего понятия нельзя, как и выйти за пределы мира; но можно наполнить его содержанием изнутри.
Попытаемся же наполнить категорию "порядок" словами, теряющими смысл вне его; каждое из них богаче, как конкретное, но также не способно существовать без внутреннего порядка, как вещь – без материи.
Вот слова, выписанные из словаря Ожегова и логически связанные с порядком: агрегат, аккорд, алгоритм, гармония, граница (отношение между различенностями); граф и группа (математические), единство (собранное вместе и отделенное от прочего), зависимость, закон, идея, информация, история, каркас, канон, класс, количество (отделенное от прочего), коллектив, комбинация, комплекс, композиция, конструкция, конфигурация, концепция, линия, матрица, место (определенное), одно (если смешать его со многим, качество его исчезнет), около (= рядом), организация, отношение, очередность, план, порядок, правило, принцип, прогресс, ритм, род (отдельное от другого и объединенное общим порядком внутри его единиц), связь (отношение различенностей), сигнал, симметрия, совершенство (адекватный порядок), сознание (движение порядка в памяти), сооружение, строение, структура, сущность (внутренний порядок, имеющий смысл, т.е., общее), фигура, форма, число (количество, различенное в себе).
Ряд слов образует гнезда, видимо, обусловленные древним общим корнем. Вот, например, такая группа, расположенная в порядке большей сложности, организованности. (Пусть простят меня этимологи, если какие-то слова попали туда незаконно).
Ком – слепленное вместе
Комплект – определенные вещи, но порядок связи их внутри комплекта не имеет значения
Комель – к нему сходятся ветви
Комбинация – составленное вместе в неком порядке
Композиция – то же
Комплекс – порядок связей внутри него имеет не меньшее значение, чем связанные в нем элементы
В заключение рассуждения о словах хочется привести несколько пар противоположных по значению слов, образующих, так сказать, "оси координат" пространства значений:
порядок
беспорядок
необходимость
случайность
истина
ложь
гармония
безобразие
связь
бессвязность
понятие
бестолковость
идея
бессмыслица
И наконец, ком – противоположный, противопоставленный той грязи, из которой слеплен. Замечательно, что большая часть слов в правой колонке образована путем отрицания – человечество не захотело тратить специальные слова на такие ничтожные понятия!
2.2. Рассуждение второе. Порядок и ЭВМ
Практическая кибернетика – это пролог к пониманию мышления, как движения порядка в материи. Достаточно взглянуть на детей, занятых какой-то увлекательной игрой с персональным компьютером, услышать слова: "она хочет меня обмануть'', "она думает, что я пойду туда" – и становится ясно, что через несколько десятилетий спор о том, может или не может машина мыслить, тихо умрет и будет вопросом не в большей степени, чем вопрос: мыслит ли собака, или к примеру, клиент наркологического диспансера.