Инкассаторы
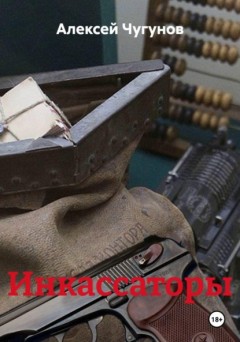
Глава 1
Набитый под завязку и промерзший насквозь старенький троллейбус тащился по городским улицам, скрепя всем корпусом и реагируя крупной дрожью даже на незначительные неровности на дороге. Был вечер 31 декабря 1977 года. Переполненный салон гудел от разговоров, шуток и смеха. Приближался праздник. Люди спешили к новогоднему столу. Кто-то уже начал отмечать. У окна, затянутого толстым слоем инея, сидел тщедушный мужичок с остекленевшими глазами и с интервалом в минуту делал попытки затянуть срывающимся голосом «ой, мороз, мороз, не морозь меня…». Но ему не давали: всякое творческое поползновение пресекалась сердитыми женскими окриками и требованиями прекратить орать в общественном месте. Мужичок послушно умолкал, но через минуту все повторялось сначала.
Мы, то есть я ‒ Алексей, двадцати четырех лет от роду ‒ и моя подруга Аня стояли на задней площадке в самом центре толпы, плотно прижатые друг к другу. Ни до одного из поручней дотянуться было невозможно. В задней части салона верхний поручень просто-напросто отсутствовал, а то, что от него осталось ‒ пара торчащих из потолка салона кронштейнов, ‒ было плотно облеплено руками нескольких счастливчиков. Дела у тех, кто остался без опоры, в том числе у нас с Аней, обстояли неважнецки: любое изменение скорости движения троллейбуса, не говоря уже о поворотах, заставляло толпу, семеня ногами и наступая на соседские башмаки, какое-то время двигаться по инерции. Направления были разными и менялись с периодичностью в несколько секунд. Ограничителем принудительных «танцев» служили упомянутые «счастливчики», имевшие возможность за что-либо держаться. Окружая со всех сторон неустойчивый центр, они мужественно гасили его кинетическую энергию откляченными задами и выпяченными животами. Такое положение не могло не вызывать у потрепанных пассажиров ассоциацию с прорубью и болтавшейся в ней небезызвестной субстанцией. Некоторые невыдержанные граждане даже решились озвучить эту народную мудрость вслух.
Ехали мы в гости к Аниным знакомым из одного конца города в другой. Троллейбус шел до центра и лишь уполовинивал расстояние. Дальнейшее путешествие могло оказаться еще сложнее, но тут уж как повезет. Дело в том, что новый микрорайон «Высотки», куда мы направлялись, рос как на дрожжах, при этом транспортная составляющая хромала сразу на обе ноги. Сдача обещанного трамвайного маршрута затягивалась, и перевозкой по-прежнему занимались небольшие автобусы, ходившие из рук вон плохо и безо всякого расписания. Жителей выручали «леваки», то есть принадлежавшие различным конторам автобусы, водители которых использовали свободное время для дополнительного заработка. Общественный транспорт в предновогодние вечера во всем городе ходил плохо, а уж в сторону «Высоток» его можно было и вовсе не дождаться. Оставалось рассчитывать на везение.
Наконец троллейбус затормозил на нужной остановке. В салоне к тому времени стало посвободней, и мы без приключений выбрались наружу. На улице холодно, температура опустилась ниже 25 градусов. Наискосок через дорогу высилась серая громада областного банка, построенного еще при царе на сваях из обожженного дуба. Там я служил инкассатором. Полное название учреждения звучало так: Областная контора Госбанка СССР.
Оказавшись на тротуаре, мы осмотрели друг друга при свете фонарей и рассмеялись: обувь пестрела следами протекторов чужих подошв, шапки съехали набок, а шарфы повылезали из пальто, словно кто-то третий пытался их стянуть с нас, но по неизвестным причинам не довел задуманного до конца. Зато все пуговицы на одежде были целы. Это утешало ‒ в такую холодрыгу пуговицы не помешают. Нам еще предстояло пройти два квартала до другой остановки, а затем терпеливо ждать нужного транспорта, возможно, «до посинения».
Пока приводил одежду в порядок, подумал: а не зайти ли к ребятам в банк. Может, кто-то из водителей согласится подбросить нас до «Высоток». Хотя вряд ли. Время неудачное ‒ около восьми вечера. Все, кто в графике, находились на вечерних маршрутах, а те, кто отработал днем ‒ уже давно дома. Но чем черт не шутит, рассуждал я.
‒ Забегу в банк ненадолго, узнаю насчет машины, ‒ сказал я Ане. ‒ Вдруг повезет. Сопли заморозить на остановке всегда успеем.
‒ Только не задерживайся. Я пока в магазин зайду.
‒ Ладно, я быстро.
Взять с собой Аню я не мог ‒ для посетителей банк был открыт только до обеда. Сам же мог заходить в любое время, так как рабочий день у инкассатора был ненормированным. Взбежав по гранитным ступеням и оказавшись в просторном тамбуре между входными и внутренними дверями, я поздоровался за руку с охранником Василием, которого хорошо знал, поздравил его «с наступающим» и двинулся было к внутренней двери, но не тут-то было. Парень не отпускал мою руку.
Я взглянул на Васю повнимательнее и обнаружил, что тот немало озадачен: форменная фуражка едва держалась на затылке, вытаращенные глаза свидетельствовали о наличии переполнявшей его голову важной информации, а непрерывное потирание подбородка пальцами левой руки говорило о растерянности или неполном осмыслении той самой информации, которой он был напичкан. Притянув меня за рукав, охранник привстал на цыпочки, поскольку был ниже на полголовы, и прошептал в самое ухо, хотя рядом никого не было: «У вас там ЧП. Если выпивши, не ходи».
Слова «у вас» означали: в отделе инкассации, который располагался на первом этаже справа от входной двери. Я почувствовал досаду: не повезло. Раз ЧП, то о машине можно забыть. При ЧП никто из водителей не рискнет отлучаться из банка, чтобы обеспечить мне комфортную поездку в «тьмутаракань».
Василий хотел добавить что-то еще, но в этот момент фуражка соскользнула с его затылка и шлепнулась козырьком вверх на пол, мокрый от растаявшего снега, который нанесли на своих башмаках входившие с улицы люди. Чертыхаясь, он отпустил мою руку, быстро поднял фуражку и начал стряхивать с нее воду.
Не став дожидаться продолжения, я приналег на массивную дверь, ведшую в вестибюль, одновременно проклиная в душе того гада, кто позволил себе напиться раньше времени. Я был уверен, что дело именно в пьянке: ну какое еще, скажите на милость, происшествие может случиться в канун Нового года? Наверное, поэтому меня не очень удивило распростертое на кафельном полу мужское тело с расстегнутыми по всей длине рубашки пуговицами и в приспущенных брюках. Это был молодой инкассатор Артур. Он лежал на спине с раскинутыми в стороны руками, метрах в двух от двери в наш отдел. Картина, конечно, была из ряда вон… Подобного под сводами самого авторитетного здания в городе (после обкома, естественно) мне наблюдать еще не доводилось…
«Действительно ЧП, ‒ подумал я, неприязненно глядя на Артура. ‒ Угораздило же так нажраться»…
Глава 2
В советские времена слово «корпоратив» не употреблялось, но это вовсе не означило, что в канун праздников сослуживцы не поздравляли друг друга и не накрывали праздничные столы. Правда, делалось это келейно и, как правило, на собственные деньги ‒ в складчину.
В большинстве своем народ с удовольствием шел на работу 31 декабря, особенно если это предприятие или учреждение с нормированным рабочим днем. Сотрудники прибывали принарядившимися и с сумками, в которых лежало выполненное «домашнее задание»: салаты, пироги, торты, алкоголь, соки и другие продукты, предназначенные для посиделок. Делами занимались (или делали вид, что занимались), как правило, до обеда. Затем могло быть короткое общее собрание, и уж после него переходили к основной программе дня ‒ застолью. В больших учреждениях столы накрывались в каждом отделе. Долго не засиживались, особенно замужние женщины, которым еще предстояло напряженно потрудиться дома, чтобы создать для семьи праздничную атмосферу.
Совсем по-другому чувствовали себя сотрудники аварийных служб, пожарных частей и правоохранительных органов, заступавших в этот день на дежурство. Одни, обычно это молодые люди, сетовали на судьбу-злодейку и ругали начальство, не дававшего им продыху, другие относились к дежурству подчеркнуто спокойно, а третьи подмигивали коллегам и, как бы в предвкушении, потирали руки.
Последние ‒ потенциальные залетчики, принесшие с собой спиртное. Они выпивали сами и подбивали к этому сослуживцев, заверяя их, что дежурство пройдет гладко, и никто ничего не заметит. А если что и произойдет, то никто особо принюхиваться к ним не будет ‒ ведь начальство и граждане тоже празднуют, значит, наверняка будут поддатыми. Кроме того, имеется мускатный орех, который напрочь убивает запах алкоголя, уверяли подмигивающие оптимисты.
Доля истины в этом рассуждении есть, но только доля. Лично мне доподлинно известны случаи, когда на место происшествия или просто для проверки в праздничную ночь приезжали абсолютно трезвые и дотошные начальники. Таких мускатным орехом не проведешь.
Что касается нашего отдела инкассации, то никаких столов, ни по какому поводу там никогда не накрывали. Даже идея такая не обсуждалась. Табу. В сравнительно небольшом помещении постоянно находились начальник, заместитель и дежурный, позади которого стоял большой железный шкаф с оружием. Справа от входа ‒ оружейная комната с окошком напротив дежурного. Через него он передавал нам перед оправкой на маршруты пистолеты Макарова с двумя магазинами и колодку с шестнадцатью патронами. Оружейка была обита оцинкованным железом, вдоль стен тянулись широкие прочные полки. Их использовали для заряжания и чистки пистолетов. Сдать после работы грязное оружие было невозможно. Опытные дежурные, сами в прошлом инкассаторы с многолетним стажем, следили за этим строго.
Были в железном шкафу и автоматы, точнее пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) образца 1941 года. На них нужно было иметь отдельное разрешение, и выдавались они при выездах в командировки ‒ один на команду инкассаторов. Мне это оружие нравилось ‒ на 50 метров било точно, а скорострельность просто поражала. В реальных условиях использовать ППШ не довелось, и слава Богу.
«Посиделки» в отделе устраивались лишь в трех случаях: для проведения общего собрания, еженедельной политинформации и ежедневного инструктажа перед выездом на маршруты. Каждой бригаде в течение рабочего дня нужно было обслужить два маршрута. Делились они условно на дневной и вечерний. Были также один поздний и пара утренних. Утренние маршруты, как правило, доставался нашим «аксакалам» предпенсионного и пенсионного возраста. Он заключался в развозе наличности по городским сберкассам. После обеда та же бригада забирала у них излишки и привозила обратно в банк. К пяти вечера «аксакалы» были уже свободны. Правда, ложка дегтя в этой «блатной» работе всё же имелась: утром, помимо развоза наличных денег, старикам приходилось инкассировать ТТУ (трамвайно-троллейбусное управление) и автобусный парк. То есть таскать мелочь, упакованную в алюминиевые чемоданы числом от пятнадцати до двадцати. Чемоданы были хоть и небольшими, но тяжелыми ‒ даже молодые кряхтели от натуги. В ТТУ тащить их нужно было по узкой дорожке метров тридцать. Ближе машина подъехать не могла из-за разбитых перед входом двух огромных клумб. Когда деньги сдавала кассир по имени Зина, высокая, крупнотелая и веселая женщина, старички приободрялись ‒ не было случая, чтобы она не помогла им в перетаскивании «багажа». Как-то (еще до моего прихода) Зина в шутку обратилась к нашему Ивану Николаевичу, ветерану Великой Отечественной войны, самому крупному мужчине в отделе:
‒ Сдавил бы ты меня, Ванечка, своими лапищами. Соскучилась я по мужицкой силе. Изменять жене не обязательно, просто обними покрепче.
Иван, включаясь в игру, подошел к Зине.
‒ Разве что не изменяя, ‒ сконфуженно пробубнил он, неуклюже обхватывая женщину «лапищами».
Та притворно ойкнула и повела глазами, изображая блаженство. Потом, отсмеявшись, расправила мясистые плечи, ухватила за ручки два чемодана и повернулась к инкассаторам.
‒ Чего застыли, гусары? Давайте грузиться, что ли?
С тех пор «обнимашки» и совместное перетаскивание «багажа» стали традиционным мероприятием. В этом я убедился сам, попав однажды на ранний маршрут вместе с Николаевичем. Позже мне рассказали, что у Зины есть муж и что живут они душа в душу не один десяток лет. Вот только ста́тью супруг не вышел: был он невысокого роста и худощав.
Еще одно неудобство заключалось в выделяемом для этих маршрутов транспорте. Ни один из стареньких легковых автомобилей, имевшихся в то время в распоряжении отдела, общего веса чемоданов выдержать не мог, да они бы туда просто не поместились. Поэтому «аксакалам» выделялся грузовой фургон с диагональными белыми полосами по бокам и табличкой «Связь» на лобовом стекле. Чаще это был полуживой ГАЗ-51. Так что и по части комфорта ранний маршрут проигрывал. Единственным его плюсом, который, однако, с избытком перекрывал все минусы, оставалась возможность провести вечер по своему усмотрению.
Глава 3
Употребление спиртных напитков на работе считалось чрезвычайным происшествием, но не всегда заканчивалось увольнением. Учитывались степень опьянения провинившегося («экспертиза» проводилась дежурным или начальником, если тот был в отделе, на глазок), его поведение в момент фиксации «алкогольной интоксикации» (лучше сразу во всем признаться и раскаяться, повесив голову), а также «былые заслуги», заключавшиеся в отсутствии взысканий, добросовестном отношении к служебным обязанностям и участии (без этого никак) в общественной жизни коллектива. При удачном раскладе нарушителя трудовой дисциплины прощали, но рублем все равно ударяли ‒ лишали квартальной премии. Неприятно, конечно, зато послужной список оставался безупречным.
А соблазнов у инкассатора на маршруте было немало, особенно в праздники. Втихаря отмечали практически во всех магазинах ‒ и в промышленных, и в продуктовых. Старшие кассиры, сдававшие деньги, всегда радовались прибытию инкассатора, поскольку, ожидая его приезда, были вынуждены сидеть в одиночестве в своих кабинетиках-клетках, выключенные из бурной застольной деятельности коллег по торговой точке.
Многие из них, сдав сумку с деньгами, просили задержаться «на секунду», куда-то уносились и быстро возвращались, держа в руках рюмку водки и бутерброд с чем-нибудь дефицитным, например, с «Московской» копченой колбасой или красной икрой. Ну, от вкусного бутерброда отказываться глупо, да и мало кто отказывался. Тем, кому не довелось испробовать советских копченых колбас ‒ «Московской» и «Сервелата», ‒ действительно изготовленных по ГОСТу, на всякий случай поясню: одноименные изделия, наводнившие российские прилавки после развала страны, оказались по сути лишь жалкой пародией на классические произведения «гастрономического искусства», созданные в СССР. В открытой продаже этот продукт в нашем городе практически не встречался, директора магазинов с такой изобретательностью прятали его от ОБХСС и контролирующих организаций, что найти заначку, не зная местонахождения, было нереально. Однажды, перед ноябрьскими праздниками, директриса небольшого магазина, сдавая деньги, посмотрела на меня влажными глазами и сообщила, что давно ко мне присматривается, и каждый раз, когда я приезжаю, не может сдержать слез ‒ уж очень я похож на ее любимого сыночка, которого полгода назад забрали в армию. Потом, вытерев слезы и накинув рабочую телогрейку, женщина махнула мне рукой, приглашая следовать за ней. Через заднюю дверь мы вышли к пристройке, где складировалась освобожденная от продуктов тара. Открыв секцию с пустыми бидонами из-под молока и сметаны, она вынесла на улицу несколько емкостей и по проделанному коридору пробралась к нужной, вытащив из нее две палки «Московской» колбасы. Одну, побольше, она вернула на место, другую, поменьше, передала мне, предварительно завернув ее в обрывок оберточной бумаги. «Ничего себе, тайник. В жизни не догадаешься», ‒ подумал я, залезая в карман за деньгами. Директриса мою попытку рассчитаться пресекла словами: «Это подарок от меня, на праздник». Сегодня многие наверняка обиделись бы на знакомых за подобный презент, но в середине 70-х съестной дефицит фактически уподоблялся ценным вещам, превосходя по значимости какой-нибудь там одеколон вместе с хлопчатобумажными носками. Лично я был польщен и, принимая маленький сверток, уже представлял округлившиеся от удивления глаза друзей, получивших на закуску «нечто слюноотделительное». Так Сашка, мой товарищ со школьной скамьи, называл весь дефицит, продаваемый из-под полы.
А что касается предложенной рюмки… К ней лучше не прикасаться, проигнорировать. Ибо привести она может к последствиям весьма печальным. После первой ободряющей, скорее всего, последует вторая, третья, четвертая… и так далее, по числу оставшихся на маршруте магазинов. Молодой организм обычно требует продолжения «банкета». После новых возлияний инкассатор начинает чувствовать себя героем, нарочито грубо проталкиваться сквозь толпу, хамить возмущенным гражданам и демонстрировать готовность померяться силой. Бдительность теряется, появляется риск принятия негодной (неправильно опломбированной либо поврежденной) сумки, а то и вовсе ее утраты. В общем, неприглядная картина. Подобное случалось редко, но все же случалось. От таких «героев» освобождались быстро и решительно. Большинство же ребят либо отвергали угощения, либо умели вовремя остановиться. О том, что они приняли на грудь, говорили лишь двигавшиеся челюсти, перетиравшие кусочек мускатного ореха или лавровый лист. Жевательные резинки в то время не продавались.
Наш автомобильный парк состоял из нескольких легковых «газиков», прозванных в народе «бобиками», в основном с брезентовым верхом, двух «уазиков», двух «Волг» (ГАЗ-21 и ГАЗ-24 первого выпуска) и латанного-перелатанного «Москвича-408». Грузовые автомобили были представлены двумя фургонами на базе ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Понятие о бронированных кузовах отсутствовало напрочь. Связи тоже не было. Основным критерием исправности машины был: ездит ‒ и ладно. Но ездили не все. Можно сказать, ездили по очереди ‒ каждый день кто-то из водителей простаивал в гараже из-за ремонта. Транспорта для закрытия всех инкассаторских маршрутов не хватало, поэтому банковское руководство было вынуждено брать в аренду две «Волги» из таксопарка вместе с таксистами. Это означало, что две бригады выезжали на маршруты с посторонними невооруженными людьми, в головах которых роились неизвестно какие мысли. Правда, паспортные данные таксистов были известны, они хранились вместе с собственноручно заполненными ими анкетами в сейфе у начальника отдела. Подстраховка ‒ так себе, но все же лучше, чем ничего.
Не вызывала оптимизма и «недостача» в бригаде третьего ствола. Как нетрудно догадаться, оружие таксисту не выдавалось. В случае нападения ему оставалось либо бежать со всех ног, либо сдаваться. Кстати фактор недовооруженности был использован разбойниками в самом начале 1970-х. После того как инкассатор-сборщик скрылся за дверью торговой точки, один из налетчиков спокойно подошел к машине и дважды выстрелил через стекло в старшего инкассатора, сидевшего на заднем сиденье. На маршруте тот был обязан следить за обстановкой, выдавать сборщику пустые сумки и принимать полные, с выручкой, которые складывались им в стоявший между колен большой прочный мешок. Он-то и был целью бандитов. Мешок вытащил наружу напарник стрелка, проникший в машину через переднюю пассажирскую дверцу. Несколько секунд ‒ и оба растворились во тьме. А что в это время делал таксист? Ничего. После первого выстрела он обхватил голову руками, склонился к рулю и просидел так до возвращения сборщика.
Медикам удалось спасти раненного инкассатора, бандитов через несколько дней поймали. Перепуганного таксиста в банке больше не видели. Тем временем московское начальство, реагируя на разбой, потребовало повысить бдительность на маршрутах и улучшить взаимодействие с милицией, представители которой должны присутствовать в местах проведения инкассаций. О приобретении дополнительных служебных автомобилей для региональных банков никто даже не заикнулся. Таксопарки областных и республиканских центров по-прежнему продолжали исправно поставлять машины кредитным учреждениям для инкассаторских нужд.
Года через три после описанного случая произошел еще один инцидент с участием таксиста. Я тогда только устраивался в отдел. Случилось это в начале лета вечером. Везший инкассаторов водитель решил показать свою удаль на свободной от светофоров дамбе, которая вела к мосту через местную речку, делившую город пополам. Водитель мчался как угорелый, давя на клаксон и совершая рискованные обгоны. Последний маневр, уже перед самым мостом, получившим прозвище «горбатый», оказался роковым. В дежурных сводках о таких случаях обычно пишут: «не справился с управлением». В итоге «Волгу» вынесло через трамвайную линию на встречную полосу, где она ударилась передними колесами о бордюр, подпрыгнула и, не касаясь земли, долетела до реки. Сидевший впереди сборщик получил сильные ушибы грудной клетки и головы. Однако сознания не потерял и позже сумел самостоятельно выбраться через переднее окно. Худощавому парню Рустему, сидевшему сзади, повезло меньше: при ударе о бордюр его бросило головой вперед. Лбом он снес зеркало заднего вида и вышиб уже дышавшее на ладан (после соприкосновения с головой сборщика) ветровое стекло. До воды он не долетел, упав у самой ее кромки несколько левее полузатопленного автомобиля. Сборщик по имени Евгений, отслуживший три года на флоте, вышел на шоссе и, демонстрируя пистолет (сначала пробовал без него, но все проезжали мимо), остановил легковушку. Водитель, вникнув в ситуацию, пообещал вызвать милицию из первого же встретившегося на пути телефона-автомата. Обещание он свое выполнил.
А что же таксист? Тот оказался активным парнем. Умудрившись выпрыгнуть из машины до ее падения в воду и пострадав меньше других, он просто отбежал от места происшествия метров на сто и издали наблюдал за происходящим. Некрасиво поступил. Позже он заявил следователю, что пошел звонить в милицию, но не смог найти телефона. К своей машине он подошел, когда на месте уже работа следственно-оперативная группа.
Деньги выловили все. Хоть в этом повезло. Из мешка вылетели лишь несколько сумок, которые благодаря металлической окантовке не отправились в путешествие по водной глади, а спокойно опустились на дно, где и дождались своих спасителей.
Рустему пришлось несладко: больше десятка швов на голове, три из которых (самые длинные и уродливые по форме) расположились на лбу над самой переносицей, сотрясение головного мозга, пара сломанных ребер, многочисленные ссадины и порезы. Выйдя из больницы, он попросил перевести его из инкассаторов в водители, благо права у него были ‒ получил их в армии на срочной службе. Начальник обещал подумать, и на следующий день вручил Рустему ключи от того самого латанного-перелатанного «москвичонка» красного цвета, который, когда был на ходу, использовался для курьерской работы. На маршруты же выезжал лишь в крайних случаях, когда другой замены сломавшемуся автомобилю не было. Парень был доволен сменой деятельности и с энтузиазмом взялся за ремонт своей малолитражки, проклятой другими водителями и давно уже заслужившей место на свалке.
В один из солнечных воскресных дней, недели через две после того как Рустем приступил к ремонту, я вышел во двор банка после короткого дневного маршрута, чтобы узнать в гараже, не едет ли кто в сторону моего дома. Глупое, конечно, занятие ‒ в выходные дни никто в банке не задерживался: отработал свои часы и испарился. Да и что делать водителю в моем спальном районе, где даже приличных магазинов не было. Родственников, как я успел выяснить, там тоже ни у кого не было. Умом понимая бесполезность идеи, все же решил попытать счастья. Хотелось быстрее попасть домой, чтобы переодеться и отправиться к друзьям на запланированную накануне вечеринку. Мой вклад в мероприятие ‒ бутылка «коленвала» за 3 рубля 62 копейки ‒ находился в матерчатой сумке, которую я держал в руке. Народное название «коленвал» (коленчатый вал) бутылка получила из-за свой этикетки, где буквы, составляющие слово «водка», выполнены в скачущем порядке ‒ одна выше, следующая ниже, и так далее.
Повернув к гаражу, я увидел, что ворота открыты и из них своим ходом выезжает «латанный-перелатанный». За рулем сидел Рустик со счастливой улыбкой на лице. Он поддал газу, заложил вираж, сделал несколько кругов по двору, а затем резко остановился, проверяя надежность тормозов. Махнув мне рукой, открыл пассажирскую дверь. Я сел рядом и осмотрелся: цвет верхней обшивки из светло-бежевого превратился со временем в темно-серый, передняя панель покоцана, словно ее специально ковыряли ножом, вместо радиоприемника ‒ торчащие провода. Сиденья, выглядевшие пожеванными, в некоторых местах лопнули, открывая доступ к своим внутренностям. Замки́ на форточках отломаны. Сзади вместо дивана ‒ ящики с какими-то инструментами и запчастями. Проследив за моим взглядом, Рустем снова улыбнулся.
‒ Салоном еще не занимался, завтра начну, все отмою, подштопаю, чехлы на сиденья уже подготовил, ‒ сообщил он. ‒ А ты чего в гараж шел? Надеялся найти попутку до дома?
Я кивнул и с надеждой взглянул на собеседника.
‒ Нет, брат, не выйдет. В гараже только полупьяный Петюня, как всегда свечи меняет. От жены прячется. Я тоже не в счет: во-первых, не уверен, что моя «ласточка» по дороге не выкинет какой-нибудь фортель, во-вторых, у меня нет путевого листа, а в-третьих, хочу выпить с тобой за успешный ремонт. ‒ Рустик повернулся назад и достал такую же, как у меня, матерчатую хозяйственную сумку. ‒ Одному пить тошно.
На свет появились бутылка вина «Агдам», нехитрая закуска и два складных пластмассовых стаканчика.
‒ Так у тебя же Петюня есть для этого дела, ‒ напомнил я.
‒ А ты с ним когда-нибудь пил? Нет? Ну, когда попробуешь, сам поймешь, а я не хочу себе настроение портить, ‒ сказал он, срезая ножом пластмассовую пробку с зеленой бутылки.
Я посмотрел на часы. Решил, что полчасика погоды не сделает и что, в случае чего, домой заезжать не буду, а сразу отправлюсь к друзьям. Мы чокнулись, пожелали «москвичонку» крепкого здоровья, выпили и достали сигареты. Рустем рассказал, как чинил машину, и на какие хитрости шел, чтобы достать нужные запчасти. Попутно обругал Петюню, вечно совавшегося с бестолковыми советами. После второго захода я узнал, что мы с ним ровесники, что пока он живет с родителями и что скоро переедет к своей девушке, на которой решил жениться. Но в ЗАГС собирается пойти только после того, как его челка отрастет до бровей, чтобы скрыть шрамы, оставшиеся после аварии.
‒ Не хочу выглядеть на фотографиях уродом, ‒ нахмурился он. ‒ Фотки эти на всю жизнь, их не переделаешь.
Я с трудом представлял себе жениха с детсадовской челкой до бровей. По-моему, гораздо благоразумнее попросить фотографа заретушировать шрамы на снимках. Уже открыл было рот, чтобы высказать свое мнение, но в последний момент передумал: Рустик был не дурнее меня, наверняка и сам рассматривал этот вариант, но раз решил отращивать челку, значит, так ему будет комфортнее. Не мое это дело.
‒ Хочешь на водительском месте посидеть? ‒ неожиданно спросил он.
‒ Конечно хочу, ‒ ответил я, выбираясь из машины.
Усевшись за руль, я осмотрел немногочисленные приборы, взялся рукой за рычаг переключения передач, располагавшийся на рулевой колонке, и попросил научить меня пользоваться им. Он показал, как «втыкать» ту или иную передачу, а затем спросил:
‒ Когда-нибудь водил машину?
‒ Да, ‒ солгал я, имея о вождении лишь самое общее представление.
‒ Ладно, сделай пару кругов.
Я завел двигатель, включил первую и, как учил знакомый автолюбитель, стал плавно отпускать сцепление, одновременно нажимая на педаль газа. Ничего не произошло, мотор заглох.
‒ Ты сильнее дави на газ, я потом отрегулирую подачу топлива, ‒ сказал наблюдавший за мной Рустик. ‒ Уверенней все делай, а то опять заглохнет.
И я сделал, уверенно вдавив педаль чуть ли не в пол. «Москвичонок», стоявший метрах в десяти от задней стены банка, взревел, и рывком бросился вперед прямо на препятствие. С перепугу я бросил педаль газа и резко вывернул руль влево. Лобового столкновения удалось избежать, но правый край переднего бампера при повороте все же чиркнул по кирпичной кладке. Машина, доехав до края стены, заглохла. Я нажал на тормоз. Бампер с лязгом упал на асфальт. Рустик за время сверхкороткого путешествия не проронил ни слова ‒ он просто сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел куда-то вдаль через ветровое стекло. Мне стало стыдно. Я поднял свалившуюся на пол сумку, достал из нее бутылку «коленвала», купленную для вечеринки, и повертел ее в руке.
‒ Надо бы емкости ополоснуть, а то в них вино было, ‒ сказал я как можно равнодушнее, разглядывая этикетку.
‒ Сейчас всполосну, ‒ подал, наконец, голос Рустем, сплющивая в «таблетку» складные стаканчики.
Он уже подходил к воротам гаража, как в проходе появился Петюня ‒ худой человек маленького роста со всклокоченной седой головой, смахивающий на растрепанного воробья. Сходство увеличивали короткий острый нос и нервные порывистые движения ‒ вспугнешь, тут же улетит. На вид ему можно было дать лет пятьдесят.
‒ Чего это у тебя тут загремело?
‒ Бампер отвалился, ‒ ответил Рустем, пряча за спину сложенные стаканчики и демонстрируя хромированную железяку, которую нес в другой руке.
‒ А я тебе говорил: проверь бампер. Его отрывали уже, когда зимой из сугроба «Москвич» вытаскивали. Говорил же я тебе: он на соплях держится. Хорошо, что не на дороге отвалился… Было бы тогда делов. Ладно, пошел я. Запрешь потом все.
Когда Петюня нетвердой походкой направился к выходу, я пригнулся к сиденью. Но тот даже не взглянул в сторону «Москвича», продолжая бормотать о бестолковой молодежи, которая не слушается старших и которой все едино ‒ «что в лоб, что по лбу». Рустем облегченно вздохнул и скрылся за гаражными воротами.
Дома я оказался поздним вечером, шел одиннадцатый час. О походе к друзьям не было и речи: во-первых, поздно; во-вторых, не с чем; в-третьих, не хотелось. Немного беспокоила мысль о том, что я их подвел ‒ все же они рассчитывали на мою бутылку, ‒ но, поскольку извиниться перед ними в тот момент я не мог (мобильных телефонов тогда не было, а стационарными обеспечивались лишь единицы), то и чувство вины меня вскоре покинуло. Зато проведенный день вспоминал с удовольствием, находясь, почему-то, в полной уверенности, что приобрел себе хорошего товарища. Кстати я был на свадьбе у Рустика. Он действительно отрастил челку до бровей, но выглядела она не так страшно, как я предполагал. Спасибо парикмахеру, что его причесывал.
Глава 4
С Петюней я познакомился поближе в командировке. В дальней поездке, когда все в одной упряжке, характер каждого члена команды раскрывается особенно ярко. Командировки для нас были обычным делом. Примерно раз в месяц мы отправлялись колесить по районным центрам нашей области, развозя местным банкам наличные деньги. От них же, как правило, везли ветхие банкноты, подлежащие утилизации. Чаще ездили на машинах, но иногда, чтобы добраться до удаленных районов, обращались к услугам железной дороги. Полностью выкупали одно купе, по очереди дежурили в коридоре, а при погрузке и разгрузке мешков запирали межвагонные двери, предотвращая тем самым хождение пассажиров. Иногда пользовались самолетами местных авиалиний и даже катерами, которые при необходимости предоставлялись местными исполкомами. Чиновники никогда от нас нос не воротили, потому что понимали важность нашей работы: строительство коммунизма затягивалось, и деньги по-прежнему оставались важнейшим средством существования советского народа.
Первая моя поездка по области на Петюниной машине состоялась в начале октября 1974-го, спустя четыре месяца после устройства в отдел. За ним был закреплен грузовик ГАЗ-52 с обитой железом длинной деревянной будкой кустарного производства. Она соединялась с кабиной посредством короткого рукава длиной около 20 сантиметров, выполненного из прочного брезента и искусственной кожи. Делалось это так: стекло из заднего окна кабины вынималось и точно такое же вырезалось в будке. Затем оба эти отверстия соединялись с помощью брезента. Изнутри «труба» утеплялась войлоком и декорировалась дерматином. Таким образом, импровизированное окно (мы называли его амбразурой) обеспечивало голосовой, визуальный и физический контакты между членами бригады. При работе в городе через него сборщик, сидящий в кабине, передавал сумку старшему, находившемуся в будке. В командировках диспозиция менялась: пассажирское место в кабине занимал старший бригады, а двое его подчиненных лежали в кузове.
Почему лежали? Все просто. Построенный неизвестными умельцами фургон едва возвышался над кабиной «ГАЗона». Даже Петюне, имевшему рост «от горшка два вершка», приходилось склонять голову. Люди же высокого роста, такие как я, были вынуждены кланяться в пояс. И это в пустом, так сказать, помещении. Но в командировку пустыми, ясное дело, не ездят. На пол фургона ближе к кабине обычно укладывали в два слоя банковские мешки с несколькими десятками пачек в каждом. Все пачки туго перевязаны шпагатом и опломбированы. В них по тысяче купюр, разделенных на десять столистных корешков, которые в свою очередь оклеивались цветной банковской бандеролью. Цвет их зависел от номинала банкнот. Мешки, одновременно плотные и эластичные благодаря наличию в грубой ткани шелковой нити, тоже опломбированы. Во всех случаях использовалась только свинцовая пломба, никакой аналог типа пластмассы не признавался. Мелочь в таких же в мешках складывали возле двери. Общая сумма составляла несколько миллионов (по тем временам ‒ баснословные деньги) и зависела от количества филиалов, значившихся в маршрутном листе. А поверх всего этого богатства, независимо от времени года, укладывались овчинные тулупы, служившие инкассаторам постелью. После погрузки в фургоне можно было либо сидеть, что проблематично при движении, либо лежать.
Наша бригада состояла из четырех человек: старший ‒ Марат, которому перевалило за тридцать, мой ровесник Валера, водитель Петюня и я. Мы с Валеркой лежали на тулупах. Под рукой пистолеты Макарова в кобурах и автомат ППШ в чехле с отсоединенным дисковым магазином на 71 патрон.
То, что тулупы кишели блохами, я узнал гораздо позже, когда пытался спать на одном из них в нашей оружейной комнате, чтобы утром сдать привезенные поздним вечером из командировки ценности. Заснул моментально, но уже через полчаса проснулся от того, что все мое тело горит, зудит и чесшется одновременно. Я выскочил в отдел, где горело дежурное освещение и начал, подвывая от нестерпимого зуда, чесаться. Из-за своего стола поднялся пожилой дежурный Фарид Ильхамович, которого все звали Ильхамыч, подошел ко мне и ласково спросил, какой дурак мне посоветовал раздеться до трусов? Продолжая расчесывать места укусов, я ответил, что никто не советовал. Он кивнул и, сдерживая смех, попросил принести злосчастный тулуп. Я принес, попутно отметив, что два других инкассатора сладко спят и даже не шевелятся. Правда, спали они в тренировочных хлопчатобумажных костюмах. Увидев на тулупе цифру «4», дежурный заявил: «Теперь все понятно». Оказалось, что эту шубу он дней десять назад давал «баламуту Женьке» (тому самому, что попал в ДТП вместе с Рустемом), которому приспичило в свой выходной поехать на зимнюю рыбалку. Он клялся через пару дней вернуть тулуп «в лучшем виде», но принес лишь через неделю. И как раз в эту неделю начальник приказал пересыпать каким-то средством на основе дуста все имевшиеся в отделе тулупы, вынести их на мороз, выбить палками и почистить щетками. Распоряжение было добросовестно выполнено: меховые изделия были вычищены, высушены, свернуты в рулоны и уложены в незапирающийся шкаф, стоявший в оружейке. Все, кроме одного, находившегося у Женьки. Он принес его после того как мы уехали в командировку, взяв с собой пару чистых шуб. Принес и втихаря засунул к остальным. Дежурный не видел, а то не позволил бы «распространять заразу». Теперь «из-за этого раздолбая» придется снова затевать «полную дезинфекцию», сокрушенно заключил он. В общем, получилось так, что по возвращении из поездки мои коллеги улеглись на тулупы, находившиеся с нами в машине, а я вытащил для себя из шкафа тот, что лежал поверх остальных, то есть самый блохастый.
В следующей чистке тулупов я сам принял участие. Мне дали тяжелую палку и поручили проведение «самой ответственной операции» по выколачиванию на морозе из длинной шерсти дуста, пыли и всего, что там водилось. К заданию я отнесся ответственно: бил «аккуратно, но сильно», именно так, как обещал Козодоеву Лёлик в «Бриллиантовой руке». Больше других досталось, разумеется, номеру четвертому.
Интересный парень этот Женька. Такие качества как полное бескорыстие, благодушие, готовность в любой момент прийти на помощь благополучно уживались в нем с откровенным пофигизмом и безалаберностью. Чего сто́ит один только фортель, который он выкинул после свадьбы. Возвращаясь из ЗАГСа в свою однокомнатную «хрущевку», высокий плотного телосложения Евгений взял на руки молодую жену Леру, учительницу начальных классов, и, нежно прижимая к груди, поднял пешком по лестнице на пятый этаж. Под аплодисменты занес в квартиру, поцеловал в губы и усадил за праздничный стол. Гостей было немного ‒ лишь несколько родственников с обеих сторон. Посидели по-семейному, пару раз крикнули «Горько!», поговорили по душам и довольные разошлись. Теща даже прослезилась от умиления: какой у нее зять хороший ‒ сильный, скромный, малопьющий. На следующий день после работы Женька, как и обещал, отметил это наиважнейшее в жизни событие с нами. При этом так торопился домой, что покинул компанию, не дождавшись окончания пирушки. Но до дома он добирался, видимо, каким-то замысловатым путем, так как в квартиру вернулся лишь глубокой ночью в невменяемом состоянии, неся на руках пьяную вокзальную шлюху. Бросив ее на кровать, он очень удивился, что там уже кто-то есть. Поднялся шум. Выяснение отношений закончилось тем, что Женька со скандалом выставил босую жену за дверь, напоследок обозвав ее воровкой за то, что она успела забрать свое платье, висевшее на спинке стула…
Учительница у него больше не показывалась. Не смогла простить. Да он и не настаивал. На том и завершилась его супружеская жизнь. Но обручальное кольцо Женька не снял, продолжал носить, наловчившись с первой попытки открывать им пивные бутылки. Вещь оказалась полезной.
Лежа на миллионах, мы с Валеркой смотрели через свою амбразуру в ветровое стекло кабины. Моросил мелкий скучный дождик, вызывая у всех зевоту. Город оставался позади. Впереди ‒ три районных центра. Это была моя первая длительная поездка на Петюниной колымаге, не разгонявшейся более 60 километров в час даже на зеркально ровной трассе. Малосильность машины стала вечной головной болью Петюни, мечтавшего о мощном моторе и скоростных рекордах.
Петюне ‒ Петру Афанасьевичу Пологову ‒ шел пятьдесят первый год. Когда он говорил или улыбался, в глаза бросались выросшие как попало разнокалиберные зубы. Неизменной его одеждой был мятый форменный костюм синего цвета, висевший на нем как на вешалке, военная рубашка и обычная гражданская кепка в темную крапинку, которую он носил набекрень, чтобы не падала на глаза. Надо сказать, любая одежда, даже купленная с примеркой в магазине, была ему велика из-за малого роста и потому смотрелась комично. Супруга взяла на себя функцию по укорачиванию брюк, но вмешиваться в конструкцию пиджаков категорически отказалась. «Я тебе в швеи не нанималась, хочешь ушить ‒ неси в ателье», ‒ сказала она однажды, и больше к этому вопросу в семье не возвращались.
Мне нравилось наблюдать за работой Петюни в кабине. Его стиль вождения я назвал «ни секунды покоя». Постоянно ерзая и слегка подпрыгивая на сиденье, он неустанно крутил головой, периодически поправлял кепку, а затем той же рукой машинально ощупывал внутренние карманы своего пиджака. Будто крестился, только на католический манер ‒ всей пятерней и слева направо. Особенное удовольствие доставляла сцена переключения передач: выжимая педаль сцепления, Петр Афанасьевич практически полностью уходил под приборную панель, оставляя на уровне руля лишь голову и руки. Если бы в этот момент кто-то случайно взглянул со стороны, то непременно решил бы, что машина движется без водителя.
Насмотревшись на мельтешащего впереди Петюню, я начал было погружаться в сон, как вдруг почувствовал, что «ГАЗон» остановился. Посмотрел в амбразуру: стояли мы на обочине посреди полей, с обеих сторон отделенных от дороги высокими кустами, высаженными для задержания снега на пашне.
‒ Похоже, один скат подтравливает, что-то влево ведет, ‒ сказал Петюня, ни к кому не обращаясь. ‒ Пойду гляну, ‒ добавил он.
Марат молчал до тех пор, пока не захлопнулась водительская дверца. Потом, вздохнув, покачал головой.
‒ Опять Винторез за старое принялся, нашел, кого дурить. Ладно, я тоже пойду. Трофей добывать.
После этих слов он осторожно без скрипа открыл пассажирскую дверцу, спустился на землю и, хищно улыбаясь, на цыпочках стал огибать машину. Через несколько секунд слева послышалось:
‒ Попался?!
‒ Ой… с-сука, ‒ раздалось в ответ.
‒ Ты же обещал, гад! А ну дай сюда…
Вскоре оба сидели на своих местах. Марат держал в руке самодельную фляжку из нержавейки и нюхал содержимое.
‒ Винище… «Агдам»?
‒ «Золтистое». Да я только глоточек хотел, чтобы в сон не клонило… Отдай, до вечера ‒ ни-ни.
‒ Знаю я твой «глоточек» и твое «ни-ни». Сейчас вылью все на хрен…
После этой угрозы Петюня опустил глаза и, пробормотав что-то про садистов и фашистский режим, исчез под приборной панелью, чтобы «воткнуть» первую передачу.
Когда машина тронулась, я поинтересовался у Валеры, пришедшего в отдел инкассации на полтора года раньше меня, почему Марат назвал Петюню «Винторезом». Он рассмеялся и, отодвинувшись подальше от амбразуры, служившей также слуховым окном, сказал, что Винторез ‒ это прозвище.
О пристрастии Петюни к алкоголю знали все. Особых предпочтений у него не было ‒ годилось все, что давали в магазине, и на что хватало денег. Медицинского контроля для водителей, отправляющихся в рейс, в банке не было, поэтому, когда он появлялся в отделе, к нему деликатно начинали принюхиваться начальник со своим замом и «аксакалы». Кроме того, старшие на маршрутах получили указание не позволять Пологову во время работы даже смотреть в сторону спиртного. Петюня знал о тотальной слежке и в городе на рожон не лез. Зато в командировках стали замечать: выезжает человек чистым как стеклышко, но часа через три глазки его начинают мутнеть, речь становится дерзкой, густо сдобренной матерными выражениями ‒ это верные признаки того, что Петюня успел поддать. А еще через какое-то время от него начинает разить алкоголем. Именно в такой последовательности. Немного поудивлялись, конечно, ведь никуда не отлучался, бутылки при нем не было… Тогда, как? Но чудес, как известно, не бывает. Вспомнили, что иногда Петюня останавливает машину и выходит посмотреть, «не сдувается ли скат» ‒ чего-то, мол, руль водить начало. Вот только отсутствует он обычно не больше минуты… За такое время не успеть. Тем более что все находящиеся в машине отчетливо слышат его постукивания по колесу и неясное шуршание под днищем фургона, свидетельствующее об осмотре ходовой части.
В конце концов, Пологова разоблачили. Как-то раз один из «аксакалов» выбрался за ним из кабины и застал такую картину: Петюня стоял у заднего колеса, задрав голову вверх, в правой руке держал грязную зеленую бутылку без этикетки, из которой прямо в глотку заливал какую-то жидкость. Горлышко бутылки находилось примерно в сантиметре ото рта, не касаясь ни губ, ни зубов. Больше всего старшего поразило то, что острый кадык Петюни не двигался. То есть содержимое бутылки просто выливалось в открытый пищевод и словно по шлангу попадало в желудок. Но, как говорят нынешние рекламщики, втюхивающие залежалый товар населению, «это еще не все»: наблюдаемый субъект одновременно с «дозаправкой» умудрялся колотить ногой по колесу, имитируя полезную деятельность. А чтобы не упасть, левой рукой держался за нижний край фургона.
‒ Ну чистый цирк, ‒ сказал вернувшийся в кабину старший, брезгливо держа за горлышко грязную бутылку. ‒ Он там еще и приспособление под кузовом для нее смастерил… Целый спектакль устроил.
Разоблаченный Петюня уселся на свой край автомобильного дивана и, как ни в чем не бывало, тронул машину с места. Он никогда не оправдывался и не извинялся ‒ попался, значит попался. Для него это было что-то вроде игры: сегодня ‒ вы меня, завтра ‒ я вас. Причем надо отдать ему должное (как бы странно это ни звучало): за рулем он никогда не напивался до состояния, полностью исключающего вождение автомобиля. Он лишь время от времени взбадривал себя новыми порциями, ни на секунду не забывая о своей важной миссии. Кроме того, ни разу не угодил даже в самую незначительную аварию.
Бутылку с затычкой из пробки старший выбрасывать не стал ‒ привез ее в отдел и передал начальнику, подробно рассказав об инциденте. Пологову объявили выговор «за нарушение трудовой дисциплины» с занесением в личное дело, потребовав дать обещание подобного больше не вытворять. Тот, опустив глаза, пообещал.
Но уже через пару дней вечером стоявший на ремонте Петюня давал водителям мастер-класс по «культуре пития», показывая, как следует употреблять спиртное, не глотая. Для этого необходимо раскрутить находящуюся в бутылке жидкость до появления воронки, а затем лить ее прямиком в горло. Закусывать не обязательно. У кого сразу не получится, пусть тренируются. Конец урока.
Сам «учитель», решивший расслабиться по причине отъезда жены на выходные к родственникам, демонстрировал свое умение, используя остававшееся в бутылке вино, водители же тренировались на водопроводной воде. Кто-то действительно хотел перенять опыт, но большинство просто дурачились за компанию. Успехов не добился никто. Петюня, снисходительно наблюдавший за учениками, иногда восклицал: «Винти ее, винти, чтобы винтом вреза́лась!». Но все тщетно: у большинства вода выплескивалась изо рта, затекая за воротник, а один шофер чуть не сломал себе зуб, случайно ударив по нему горлышком. «Видать, ты один у нас винторез, ну тебя к лешему. По старому-то оно надежней будет», ‒ сказал, откашлявшись, водитель «уазика» Миша, которому вода попала «не в то горло». После этого вечера с легкой руки Михаила к уменьшительно-ласкательному имени Пологова добавилось прозвище «Винторез». Правда, чаще называли за глаза, когда обсуждали его выходки: «Слышал, Винторез-то чего учудил?» или «А Винторез-то снова навинтил, по самое не могу».
«Винтить» Петюню научили в деревне примерно за полгода до получения выговора «с занесением». Ездили они туда в отпуск к родне супруги. Как-то засиделись допоздна во дворе дома со свояком и шурином. Когда речь зашла о выпивке, те рассказали гостю о способах «культурного потребления», после которых практически не тащит сивухой. Из трех предложенных гость выбрал «винт».
Первым человеком, кого Петюня, вернувшись в город, напугал до смерти своим «винтом» стала его жена Валентина, не переносившая на дух спиртного и определявшая с одного взгляда степень погружения мужа в алкогольную нирвану. Однажды она пригрозила оставить его ночевать на улице, если он посмеет заявиться домой даже со слабым запахом. На то были причины: организм Петра Афанасьевича, ранее отличавшийся удивительной выносливостью, в последнее время стал уставать от частых возлияний и в качестве напоминания о своей усталости подарил хозяину геморрой, который быстро прогрессировал. Какое-то время Петюня держался, перейдя на воду и квас, но тяга к спиртному оказалась сильнее.
Помня об угрозе Валентины, Пологов вошел в подъезд трезвым и уже там приступил к выполнению задуманного. В закутке у небольшой двери, ведущей в подвал, он вынул из внутреннего кармана бутылку водки, зубами сдернул с нее «бескозырку», и, сделав несколько круговых движений рукой, «ввинтил» содержимое в глотку. Опорожненную бутылку Петюня аккуратно поставил на бетонный пол и поспешил на второй этаж. Валентина, открыв дверь, подвоха не заметила, а потому молча вернулась на кухню, где разогревала ужин. Муж же тем временем снял ботинки, пристроил на вешалке пиджак с кепкой, вымыл в ванной руки и тоже прошел на кухню. Когда он чинно уселся на привычное место за столом, Валентина поставила перед ним тарелку с картофельным пюре и котлетой, налила в кружку чай, пододвинула плетеную корзинку с хлебом и поспешила в зал к работающему телевизору.
Спокойствие длилось недолго ‒ уже через несколько секунд Валентина мчалась обратно на кухню, встревоженная донесшимся оттуда грохотом. Застыв у двери, она увидела Петюню, лежащего ничком на крашеном деревянном полу возле опрокинутой табуретки. Все, что раньше стояло на столе, теперь в беспорядке валялось вокруг благоверного и под ним. Потрогав холодные запястья мужа и не обнаружив признаков жизни, Валентина подумала: «Удар». Побежала к соседям, у которых был телефон, вызывать «скорую». Ни поднять, ни перевернуть на спину обездвиженное тело она не решилась ‒ побоялась сделать хуже. Так Петюня и лежал до приезда медиков, уткнувшись носом в половицу, измазанную картофельным пюре. Прибывший врач быстро установил причину «отключки», помог донести больного до дивана и велел фельдшеру сделать внутривенную инъекцию. Потом, объяснив Валентине, как правильно промывать желудок, отбыл на следующий вызов.
Осознав себя ближе к утру, Петюня категорически отказался раскрыть тайну внезапного опьянения. Даже угроза Валентины уехать навсегда в деревню, чтобы он больше не мотал ей нервы и «сам себе вставлял в жопу вываливающуюся кишку», не заставила его «расколоться». Пустая это была угроза. Никуда она не уедет ‒ до пенсии оставалось пять лет, а в деревне работы не было. Разве что в колхоз податься, усадьба которого находилась в соседнем крупном селе. Но горбатиться за копейки в грязи под открытым небом Валентина, привыкшая к городской жизни, едва ли согласилась бы.
Второй опыт с «винтом» неугомонный Петюня провел через неделю, выбрав на этот раз напиток помягче ‒ портвейн. Все прошло точно так же как в первый раз, за исключением финала: он успел доесть поставленные перед ним макароны с сосиской и лишь потом мирно уснул на табурете, уткнувшись лбом в пустую тарелку. Увидев его снова в невменяемом состоянии, Валентина рассвирепела, побросала в чемодан какие-то вещи и ушла к подруге.
«Не рассчитал, ‒ рассказывал Петюня "аксакалам" после ухода жены. ‒ Надо было не ноль семь, а ноль пять брать (имелась в виду емкость бутылок в литрах), тогда бы ничего и не заметила бы. Теперь знать буду». Бобылем он прожил дней пять. На шестой не выдержал, пошел на проходную швейной фабрики встречать свою Валюшу с работы. Приходил три дня подряд, и лишь на четвертый она согласилась вернуться, поставив ожидаемое условие ‒ ни капли.
Задумался тогда Петюня: зажали со всех сторон ‒ и дома, и на работе, куда ни ткнись ‒ слежка и сухой закон. Можно, конечно, малость себе позволить, когда жена в вечернюю смену. Но Валя все равно учует ‒ ни лаврушка, ни зубная паста не помогут. Как сказал однажды один мудрый коллега-водитель, «пахнет не изо рта, Петр Афанасьевич, а из желудка». Оставалось единственное окно ‒ командировка. Но и здесь законная вечерняя выпивка, перед тем как отойти ко сну, зависела от настроения старшего ‒ мог вообще запретить, особенно, если сам непьющий. К счастью, таких было раз, два и обчелся. В любом случае не любил Петюня выпивать под надзором, его это оскорбляло. Да и порция, достававшаяся за общим столом ‒ половина граненого стакана, ‒ не соответствовала его внутренним потребностям. Искомое состояние, когда сливаешься с природой, становишься умным и любишь весь мир, требовало по крайней мере двухсот граммов.
В общем, решил Петюня создать для собственных нужд НЗ ‒ неприкосновенный запас, который предполагалось использовать лишь в крайних случаях. Нашел подходящую бутылку из темного стекла емкостью 0,7 литра, изготовил из пробки надежную затычку и соорудил под фургоном ближе к задним колесам специальное крепление. Задняя часть крепления представляла собой металлический стакан с резиновыми вкладками внутри, передняя ‒ металлический застегивающийся хомут, также отделанный изнутри резиной. Таким образом, дно бутылки находилось в стакане, а горлышко у самого основания крепилось хомутом. Чтобы извлечь ее из крепления требовалось две-три секунды. Создатель был горд своим произведением, но хвастаться перед другими не решался ‒ могут сдать, и тогда весь труд пойдет коту под хвост.
Легко сказать «использовать в крайнем случае»… Реальность же диктует свои условия: невыносимо скучно плестись со скоростью 40 километров в час по бесконечной дороге, зная, что в паре метров от тебя в наглухо закрытом сосуде плещется живительная влага. В один из таких моментов, когда на душе стало особенно тоскливо, Петюню будто-то в бок кто толкнул ‒ он живо представил свои дальнейшие действия, которые показались ему логичными и легко выполнимыми.
Тогда Пологов сделал озабоченное лицо, несколько раз дернул руль вправо-влево и заявил:
‒ Кажись, задний баллон спускает, баранку влево ведет. Поглядеть надо. Сейчас я, мигом.
Остановив машину на обочине, он выскочил из кабины, но через минуту был уже на месте. Сунул в рот неизменную беломорину ‒ папиросу «Беломорканал», ‒ сдвинул на глаза кепку, поскреб пятерней затылок, а затем развел руками, выражая недоумение:
‒ Все, вроде, нормально… А чего тогда руль ведет? Ладно, приедем ‒ посмотрю. Горе мне с этой колымагой…
Если б Петюня не наглел и пореже выходил «осматривать» скаты, то оставался бы непойманным значительно большее время. Но он именно обнаглел от безнаказанности, начав останавливать машину под одним и тем же предлогом сначала два, а затем и три раза за день. Присовокупив сюда внешние признаки опьянения, о которых говорилось выше, нетрудно было догадаться, чем на самом деле занимался во время остановок этот «артист из погорелого театра», как на одном из общих собраний назвал его наш ветеран Иван Николаевич.
После объявления Пологову выговора, начальник отдела Митрофан Николаевич пошел в гараж, чтобы лично ознакомиться с конструкцией для перевозки бутылки. Присев на корточки у машины, он покачал головой, пощелкал языком, потом поднялся, приблизился вплотную к Петюне и заорал, зажав в кулаке лацкан его засаленного пиджака: «Свинья! Ты понимаешь, что ты свинья?! Немедля де-мон-ти-ро-вать, Обь твою мель! Я сказал, немедля!» Испуганный Петюня, никогда не видевший шефа в таком возбуждении, беспрекословно починился: через несколько минут элементы крепления лежали на верстаке. Начальник перенес их к тискам и каждую деталь сжимал до тех пор, пока та не превращалась в блин. Видимо, так он пытался погасить свою злость. А когда выходил из гаража, обернулся и сказал: «Петр Афанасьевич, пить за рулем не позволю, этот случай был последним. Больше никаких выговоров не жди. Уволю, несмотря на твое происхождение. Пойдешь, Обь твою мель, на паперть милостыню просить. Ничего, проживешь как-нибудь, в центре церквей достаточно».
Предупреждение почти подействовало ‒ Пологову стало немного страшно, немного стыдно и немного грустно. Но это наваждение скоро схлынуло, так как в его голове уже зарождался новый план. Первым пунктом значилось: достать плоскую слегка изогнутую фляжку из нержавейки, которую под одеждой невозможно разглядеть. Остальные пункты плана, касающиеся безопасного для себя использования емкости, пребывали пока в тумане. Их он решил обдумать позже.
Плоские фляжки ‒ мечта рыбаков, охотников, туристов, командированных и прочих людей, проводивших много времени вне дома, ‒ в советских магазинах не продавались, их делали умельцы на заводах и в мастерских, имевших соответствующее оборудование. Металлоискателей на проходных тогда не было, поэтому вынести с предприятия плоскую жестянку труда не составляло. Петюня не стал терять времени на поиски нужных людей, а сразу обратился к родному брату Василию, работавшему на механическом заводе. Правда, трудился брат водителем автопогрузчика, но знакомых мастеров у него было предостаточно. Дней через десять Петюня, оторвав от сердца пять рублей, стал обладателем шикарной вещи, плавность линий и изгибов которой поражало воображение. К бокам фляжки по желанию заказчика были припаяны ушки прямоугольной формы для продевания ремешков. Ими предполагалось прикреплять емкость прямо к телу. Именно с этим «произведением искусства» он и был застукан Маратом в первый день командировки, когда отправился попинать якобы ослабшее колесо. Изящная жестянка емкостью около 800 миллилитров на момент изъятия оказалась без крепежа. Опытным путем Петюня установил, что привязанная к телу фляжка становится нефункциональной. Ею невозможно воспользоваться, пока не расстегнешь пряжки на крепежных ремнях. Положим, расстегнул, но потом-то их снова нужно застегивать, что гораздо труднее. А если учесть, что все это хозяйство находится под одеждой… Морока, одним словом. Поэтому Петюня просто положил свое сокровище под военную рубашку, заправил ее в брюки и туго затянул поясным ремнем. В принципе, годилось и так. Вот только нового правдоподобного повода приложиться к содержимому фляги он придумать так и не смог, как ни старался. В итоге решился на старый трюк и тут же попался.
Глава 5
Выслушав Валеркин рассказ о злоключениях Петюни, я поинтересовался, что это у него за происхождение такое, позволяющее пьянствовать за рулем и плевать на начальство? Может, он приемный сын Брежнева? Но нет, генсек оказался ни при чем. Дело в его родном отце ‒ Афанасии Пологове, пришедшем на работу в банк практически сразу после установления Советской власти в губернии. Это был юноша, которому едва минуло 18 лет. Его прислали «для усиления», как преданного делу революции товарища. Парню выделили койку в общежитии при банке, но приличную должность дать не смогли из-за отсутствия у него какого-либо образования. «Бросили» его на транспортное хозяйство, передав под начало конюшню с двумя оставшимися после революции лошадьми, двумя пролетками и одним кучером. Обязанности второго кучера при необходимости должен был выполнять сам Афанасий. В начале 1920-х он женился, семейная пара перебралась в отдельную комнату. Петр появился на свет в 1925-м, Василий ‒ двумя годами позже.
Афанасий оказался толковым и хозяйственным работником: находившиеся под его присмотром лошади были всегда накормлены и ухожены, а пролетки ‒ исправны. В 1939 году, когда создали службу инкассации, забот у него прибавилось ‒ количество лошадей увеличилось, выезды стали ежедневными. Перед войной в отделе инкассации появился грузовичок, но в 1941-м его передали оборонному заводу. Детям Афанасия ломать голову по поводу будущей профессии не пришлось ‒ к концу войны оба работали кучерами в банке. В армию их не взяли, поскольку были неграмотными. За плечами не было ни одного класса, даже фамилию свою не могли написать. Как такое получилось, история умалчивает. Очевидно одно ‒ отец не горел желанием отправлять детей в школу. Так и просидели они за глухим банковским забором, с ранних лет привыкая к неквалифицированному труду, заключавшемуся в помощи взрослым (подай, принеси, подержи и прочее), уходе за лошадьми и уборке двора. В качестве благодарности частенько получали по полстакана пива или браги, реже ‒ по конфете или прянику. Банковское руководство, поняв, что дало маху, направило обоих в вечернюю школу рабочей молодежи, чаще называемой «шаромыгой». Но если младший учился с удовольствием, стараясь не пропускать без нужды занятий, то старший больше прогуливал, чем сидел за партой. В конце концов Петр совсем перестал посещать уроки, заявив, что учителя к нему придираются. Все уговоры вернуться к учебе ничего не дали. А вскоре случилось несчастье: бандиты убили Афанасия. Как это произошло, в точности не известно, но по официальной версии, погиб старший Пологов при исполнении служебного долга.
Начальство смирилось с отказом Петра вернуться в «шаромыгу», рассудив так: пусть себе работает, кучеру грамота не особо нужна, тем более что свою фамилию он писать научился. Младшего Василия все же забрали в армию, когда он через три года предъявил в военкомате аттестат о неполном среднем образовании, выдававшийся по окончании семилетки. Демобилизовавшись, в банке задерживаться не стал ‒ окончил водительские курсы и ушел на инструментальный завод, где поработав немного шофером, пересел на автопогрузчик. А вот Петра от призыва освободили полностью и больше не беспокоили. Здесь, скорее всего, банк постарался, взяв над сиротой негласное шефство.
Его склонность к спиртному заметили давно, но кардинальных мер не принимали. Ни один из руководителей, которых за тридцать послевоенных лет сменилось немало, ни разу не поднял вопрос об увольнении Пологова. Наоборот, когда он женился, пробили в исполкоме отдельную квартиру в центре города, регулярно выписывали премии. Позже помогали без очереди приобретать дефицитную мебель наподобие румынской «стенки», бытовую технику вроде холодильника «Мир» и стиральной машины «Вятка», а также электронику в виде телевизора «Рекорд».
А когда пришло время распрощаться с гужевым транспортом и начальство ломало голову, куда им девать неграмотного «легендарного кучера», Пологов сам вышел с инициативой направить его на курсы водителей-профессионалов. Начальники шутку оценили. Но Петюня, загоревшись идеей стать шофером, не шутил. Он заверил, что брат Василий поможет ему с учебой. Какие еще доводы приводил неграмотный подшефный, неизвестно, но факт остается фактом ‒ руководство и в этот раз пошло ему навстречу.
Фактически Василию пришлось повторно пройти обучение и сдавать экзамены, но уже под именем брата. Завершилось все благополучно: к середине 1950-х Петюня стал обладателем удостоверения шофера третьего класса. К тому времени он уже довольно сносно разбирался в устройстве грузовых автомобилей ‒ спасибо тому же Василию и банковским водителям, ‒ поэтому первый выезд на закрепленном за ним потрепанном грузовичке прошел без происшествий.
Заканчивая повествование, Валера отметил:
‒ И чего человеку спокойно не живется? Всем обеспечен… Живи и радуйся. Нет, лезет все время на рожон, придурок. Ну уволят его за девять лет до пенсии… Куда пойдет, кому он нафиг нужен?
В ответ я пожал плечами, и мы вновь перебрались поближе к амбразуре.
Между тем атмосфера в кабине поменялась. Было заметно, что оба ее обитателя нервничают: Петюнина голова стала вертеться по сторонам с удвоенной скоростью, а мрачно смотревший вперед Марат вдруг начал стягивать с себя пиджак. Непромокаемой куртки на нем уже не было ‒ с начала поездки она висела у нас в фургоне на забитом в стенку гвозде. Я вопросительно посмотрел на Валерку, тот пояснил, что подъезжаем к переправе, и наша задача ‒ проскочить на паром без очереди. Вскоре показался хвост этой очереди, растянувшейся, как потом оказалось, на два километра. Без приключений мы сумели объехать машин десять, но потом уперлись в бортовой «уазик», поставленный поперек дороги. Навстречу вышла группа крепких мужиков с монтировками и «кривыми стартерами» ‒ металлическими рукоятями для запуска двигателей вручную. Марат обернулся к амбразуре.
‒ Валера, расчехли автомат и вставь магазин, Лёха, ты подстрахуй его с пистолетом, ‒ сказал он. ‒ Только смотрите, стрелять не вздумайте. Не первый раз, прорвемся.
С этими словами старший вышел из машины. В рубашке и тонкой трикотажной безрукавке. Тут я понял, зачем он снял пиджак: нужно было, чтобы обозленные и уставшие от ожидания водилы, не воспринимающие никаких словесных аргументов, увидели кобуру с боевым пистолетом и, по возможности, прониклись нашими проблемами. Марат поднял руку, привлекая к себе внимание.
‒ Мужики, у нас в фургоне очень важный и ценный груз, мы должны доставить его вовремя. Прошу вас, пропустите.
Глядя в амбразуру, я заметил, что некоторые пикетчики бросают косые взгляды на кобуру, висевшую у Марата на брючном ремне, о чем-то шепчутся и уходят. Однако большинство остаются на месте ‒ такое объяснение их не устраивает.
‒ Ты конкретно скажи, что везете, а мы подумаем, пускать или нет, ‒ заявил стоявший ближе всех мордоворот, постукивая увесистой монтировкой по ладони левой руки. ‒ Вон же у вас «Связь» написано на лобовухе. Небось, газеты с посылками везете, а нам тут заливаете про ценности. Никто без ваших газет не помрет, завтра привезете. Так что врубайте заднюю и катитесь в конец очереди.
‒ Назвать груз не могу, но тебе заглянуть в фургон разрешу. Если там «газеты с посылками» ‒ мы становимся в очередь, если что поважнее ‒ говоришь своим, чтоб пропустили. Согласен?
‒ Ну что, мужики согласимся? ‒ обернулся мордоворот к толпе.
Многие посмеивались и кивали в ответ, ожидая продолжения представления. Заняться все равно нечем, а тут какое-никакое развлечение появилось.
Из амбразуры послышался громкий шепот Петюни: «Они идут, приготовьтесь». Мы готовы, но все равно спасибо за предупреждение. Валерка расположился посреди фургона, встав на одно колено и направив ППШ на дверь. Я с пистолетом в вытянутых руках улегся у правой стенки. Наконец ручка английского замка повернулась, и левая створка двери начала понемногу открываться.
‒ Руками ничего не трогать, можно только смотреть, ‒ сказал Марат, после чего распахнул створку полностью.
В проеме появилось небритое лицо и широкие плечи мордоворота. Но его интерес к ценностям тут же угас. Самодовольная улыбка испарилась. Вместо нее на лице проступило удивление, а потом неприкрытый страх. Похоже, кроме направленных на него стволов, он больше вообще ничего не заметил. А тут еще Валера для усиления эффекта лязгнул затвором, продемонстрировав готовность открыть огонь. Амбал попятился и резко ушел вправо, полностью исчезнув из нашего поля зрения. В ту же секунду раздался звенящий звук ‒ это вырывалась из его руки и упала на асфальт монтировка. Ухмыляющийся Марат вернул створку на место. Английский замок щелкнул, оповещая, что дверь заперта.
Вернувшись к амбразуре, снова увидели мордоворота и десятки обращенных на него любопытных глаз.
‒ Пацаны, я не врубился, чего они там везут, но это точно не почта. Да хрен с ними, пусть едут.
Слова предводителя, пусть и временного, возымели действие: люди отошли в сторону, «уазик» освободил проезжую часть. Марат вскочил на подножку со стороны пассажирской дверцы, ухватившись через открытое окно за верхнюю часть кабины, поправил на правом бедре кобуру, и мы медленно двинулись вперед мимо застывшей в ожидании автоколонны. Попыток остановить нас больше не было. Из-за продолжавшего моросить дождя людей на дороге не было. Все сидели в своих машинах и с интересом разглядывали полураздетого человека с пистолетом на боку, путешествующего на подножке «ГАЗона». Новая буза поднялась уже возле самой воды, когда Петюня криво припарковал свой фургон у головного грузовика, перекрыв тому дорогу к парому. Взбешенный такой наглостью водитель выскочил на дорогу и начал громко кричать. Он кричал, что переломает Петюне кости, а потом опрокинет его, «мудака», решившего, что он самый хитрый, в реку вместе с его «говенным катафалком». Перспектива так себе… Удручало то, что угроза казалась вполне реальной, поскольку крикуна тотчас поддержали другие шоферюги, повылезавшие из своих машин. Им, добравшимся до берега, была невыносима мысль о том, что они могут оказаться лишними на пароме, очертания которого уже четко прорисовывались на фоне серого неба.
Но промокший до нитки Марат не стал вступать в полемику. Он взял у Петюни вкладыш в удостоверение и прямиком направился к дежурному, следившему за порядком на переправе, в том числе за очередностью заезда на паром. Вкладыш мне уже приходилось видеть. Его выдавали водителям, выезжавшим на городские маршруты или в командировку. Это был листок из тонкого прочного картона с красной диагональной полосой, гербовой печатью и набранным в типографии текстом-обращением ко всем должностным лицам, повстречавшимся на пути, включая представителей правоохранительных органов. От имени правительства их призывали оказывать предъявителю сего документа, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, всестороннюю помощь и содействие.
Через амбразуру было видно, как Марат разговаривает с дежурным и как тот несколько раз кивает головой в знак согласия. От этих кивков на душе у меня потеплело, и даже свирепые лица водил, столпившихся у Петюниной дверцы, показались мне не такими уж и страшными. Я почему-то был уверен, что дежурный быстро справиться с ситуацией, не позволив ей, перерасти в «вооруженный конфликт». Так и вышло.
‒ Слышь, Колян, хорош горло драть, утухни, ‒ обратился к крикуну подошедший дежурный. ‒ Ты меня не первый год знаешь, разборок здесь не потерплю. Будет так, как я сказал… «ГАЗон» поедет первым, ты за ним. Если не согласен ‒ простоишь здесь до Второго пришествия. Тебя тогда самого в речку скинут, чтоб не мешал. Понял?
Колян нехотя кивнул, сунул руки в карманы куртки и уничтожающе посмотрел сквозь стекло на Петюню. Но тот и ухом не повел, устремив свой взгляд поверх головы неприятеля на приближающийся к берегу паром с выкрашенной в синий цвет надстройкой.
‒ Теперь вот что, крикуны… Все по машинам, и сдайте помалу назад, чтобы «ГАЗон» смог вписаться, а то сейчас встречные пойдут, ‒ распорядился дежурный.
Потом повернулся к Марату.
‒ Вчера вечером на втором пароме неполадка образовалась, ребята всю ночь ковырялись. Недавно сообщили по рации, что ремонт закончили и скоро подойдут. Тогда и разгребем эту очередь. ‒ Он улыбнулся. ‒ А я тебя помню, ты как-то летом в мое дежурство переправлялся. Ну ладно, всего хорошего. А на мужиков не обижайся… Кому охота здесь торчать без дела.
Они попрощались за руку. Вскоре по встречной полосе проследовала вереница выпущенных с парома на волю автомобилей. Дежурный сделал нам знак: заезжайте. Встав на указанное вахтенным место, решили перекусить. Марат, закутанный в одеяло с наброшенной поверх курткой, попросил первым делом налить ему из термоса горячего чая. Петюня же вздохнул и с тоской посмотрел на бардачок, где лежала фляжка. Старший, перехватив взгляд, рассмеялся, пообещав вернуть «зазнобу» вечером. Когда я передавал через амбразуру кружку с чаем, в водительском окне вновь появилась физиономия Коляна, на сей раз беззлобная. Он жестом попросил опустить стекло.
‒ Без обиды, парни, а что вы все-таки везете? Мы тут с мужиками поспорили…
‒ Алмазы необработанные. Диамант, одним словом, ‒ серьезно сказал Петюня, глядя в глаза собеседнику.
После того как озадаченный Колян удалился ‒ такого ответа он явно не ожидал, ‒ а приспущенное стекло было вновь поднято, Марат спросил:
‒ Откуда такие познания, Петр Афанасьевич?
‒ Да так, недавно в газете прочитал, ‒ небрежно ответил он.
Через секунду фургон завибрировал от дружного хохота: «Петюня» и «прочитал» ‒ понятия не совместимые. Пологов сначала обиделся, но потом, обозвав нас «психами недоделанными», сам заулыбался во весь кривозубый рот. Такие минуты определенно сплачивают. Помню, как подумал тогда: «Повезло мне, что работаю с этими замечательными парнями». Даже Петюнины выходки в тот момент стали казаться мне детскими шалостями. К слову сказать, порой они действительно таковыми и были.
Спустя несколько месяцев я стал свидетелем разыгранной им сценки. Нас тогда собрали в отделе на политинформацию. Пришел Петюня, взял со стола газету, пробежался по ней взглядом и сделал вид, что одна из заметок его заинтересовала. Через некоторое время он произнес скорбным голосом: «Опять авария». Сидя рядом, я поинтересовался, есть ли фотография. Пологов утвердительно кивнул и показал мне снимок перевернутой легковушки. «И как они права умудряются получать?» ‒ добавил он осуждающе, складывая газетные листы. Находившиеся в кабинете «аксакалы» лишь слегка улыбнулись и опустили глаза. Спектакль был рассчитан не на них, а на недавно поступившую молодежь. Возможно, и я попался бы на удочку, если б не знал правды. Хотя нет, не попался бы ‒ когда Петюня показывал мне фотографию, он, сам того не понимая, держал газету вверх ногами. На самом деле в заметке рассказывалось о новой модификации автомобиля «Москвич-412».
Глава 6
Работники первого на нашем пути банка обещали (старший созвонился с ними еще до отъезда) ждать нас до семи вечера. Однако, переправившись на другой берег, поняли: к этому часу не успеть. Вместе с тем если передачу денег перенести на утро, то сломается график всей поездки, что затянет нашу командировку минимум на сутки. При этом погода выдалась дрянная, грунтовые дороги, которых нам никак не миновать, в скором времени от дождя превратятся в хлябь. В общем, задерживаться в командировке желания ни у кого не было.
Петюня, понимая, какая на нем лежит ответственность, был сосредоточен и выжимал из груженой колымаги все, что мог. Тем не менее, у ворот банка он затормозил с получасовым опозданием ‒ в половине восьмого. Марат не спеша ‒ куда спешить, когда впереди целая ночь ‒ вышел из машины с необходимыми документами и направился к двери в здание, чтобы переговорить с охранниками. Те должны открыть ворота и запустить нас в служебный гараж ‒ наше ночное пристанище.
Но уже через минуту он выскочил обратно на улицу и, радостно улыбаясь, побежал к «ГАЗону».
‒ Никто не ушел, все нас ждут, ‒ выпалил Марат, открывая дверцу. ‒ Местные инкассаторы помогут с разгрузкой, так что быстро управимся.
К тому времени я уже знал, что слово «быстро» при передаче и приеме денег имеет несколько иное значение и не должно восприниматься буквально. Быстро можно поднять деньги в кладовую, но в любом случае приниматься они будут как обычно, то есть с соблюдением всех правил, указанных в инструкции. В данном случае «быстро» ‒ это не делать лишних движений и не ошибаться. Обычно в филиалах у дверей кладовых нас встречали не менее трех банковских служащих, в том числе из состава руководства, имеющих доступ во все помещения банка. Кстати, инкассаторы тоже имели право доступа в кладовые, правда, с существенной оговоркой: только в сопровождении ответственных лиц. Наше дело ограничивалось перетаскиванием мешков с деньгами и выкладыванием пачек на специальный стол. Количество пачек фиксировалось служащими молча с трех разных сторон. Итоги подсчета заносились в блокнотики. В конце операции записи сверялись. Мы же считали пустые мешки, складываемые отдельной стопкой. Их следовало вернуть в контору как подотчетный инвентарь.
В общей сложности провозились мы с деньгами около часа. Работавшие с нами женщины торопились домой, поэтому передачу нам ветхих ‒ порванных, грязных, затертых до неузнаваемости, постиранных с одеждой ‒ банкнот решили перенести на утро, благо их было немного.
В гараже меня и Марата встретил Валера, оставленный охранять груз. Было заметно, что задок фургона приподнялся, в основном благодаря выгрузке из него нескольких тяжеленных мешков с мелочью.
‒ Теперь старушке легче станет, ‒ сказал Марат, осматривая рессоры. ‒ А где Петюня?
‒ Сначала тут маялся. Фляжку-то ты ему не отдал, а сам брать побоялся. Потом пришел местный водитель, Петюнин приятель, и они ушли прогуляться. Обещали скоро вернуться, ‒ ответил Валера.
‒ Оружие у него забрал?
‒ Да, под тулуп вместе с автоматом засунул. ‒ Валера постучал ладонью по двери фургона. ‒ Марат, ребята в подсобке «поляну» накрывают по случаю нашего приезда. Ты как, не против?
‒ Я-то не против. Только кто сторожить будет? ‒ Старший посмотрел на меня. ‒ Кому-то, как самому молодому, придется сухим пайком выдать…
‒ А если стол к машине перенести? У них, по-моему, раскладной есть, ‒ сказал Валера и, дождавшись согласия Марата, добавил: ‒ Пойду узнаю.
Я огляделся. Гараж был просторным, чистым и по тем временам современным: с туалетом, душем и комнатой для приема пищи. Банк, во дворе которого он находился, тоже был недавней постройки, и по сравнению с нашим дореволюционным зданием на дубовых сваях выглядел как непорочное дитя. Районный центр, в который мы приехали, был промышленным городом с населением более ста тысяч человек, со своими заводами и строительными организациями. Так что постройка нового комплекса особых затруднений у местных властей не вызвала.
Вернулся Валера со сложенным походным столом в руках, следом за ним парни несли складные стулья и обычные табуретки.
‒ Извините, мужики, наша вина, ‒ сказал рослый инкассатор, назвавшийся Александром. ‒ Мы-то в командировки не ездим, поэтому не учли, что в машине могут оставаться ценности. Сейчас все исправим.
Вскоре на застеленном газетами столе появились блюда с овощным салатом, большим пучком зеленого лука, вареной картошкой, колбасой, нарезанной толстыми кружками, и свежим хлебом. В отдельную кучку была сложена вяленая брюхастая рыба, один только взгляд на которую вызывал урчание в желудке и обильной слюноотделение. Каждому в индивидуальное пользование выдали бумажную одноразовую тарелку, вилку и стакан. Острый охотничий нож был один на всех. Салфетки заменял рулон туалетной бумаги (кстати, тоже дефицит).
Дружно подняли стаканы ‒ «с приездом, коллеги» ‒ и принялись за еду. Некоторое время молчали. Потом Марат, занявшийся разделкой рыбы, спросил, ни к кому конкретно не обращаясь:
‒ И все-таки, где же наш Петр Афанасьевич? Такой ужин пропустит.
‒ Ты про водителя? Он с нашим Ильгизом ушел, они давно знакомы. Не переживай, голодным не останется, ‒ ответил Александр, накладывая себе картошки.
‒ Я не за это переживаю… Мне спокойней, когда он на глазах. Не хватил бы где лишнего, в дорогу ведь завтра.
Постепенно за столом наладилась беседа. Нас спрашивали о новостях областной столицы, о фильмах в кинотеатрах, о новых указаниях из Москвы, о наличии в магазинах мяса, о ценах на рынке, о рыбалке, об успехах местной футбольной команды, в общем, обо всем. А когда Валера начал рассказывать смешную историю, приключившуюся с ним на маршруте, раздался громкий хлопок. Оказалось, это грохнула входная дверь, силу удара которой увеличивала тугая пружина, установленная у самой притолоки. Из «предбанника» появились двое. Первым шел, нетвердо ступая и размахивая руками, пьяный Петюня, за ним ‒ пожилой мужчина, вероятно, Ильгиз.
‒ … и теперь они хотят меня уволить! Ты слышишь? Уволить меня… Я им что, козявка какая? Да я всю жизнь… Да пошли они! Не пропаду. Если хочешь знать, меня в одном СМУ давно уже ждут, новую «Колхиду» обещали. Пусть увольняют… Еще плакать будут, ‒ высоким голосом выговаривал Пологов, продолжая монолог, начатый, видимо, еще на улице.
‒ Ага, ага, ‒ соглашался сопровождавший, стараясь сохранять равновесие.
Вид у Петюни был расхристанный: форменное «на вырост» пальто темно-синего цвета распахнуто, пиджак под ним застегнут сикось-накось, концы развязавшегося на левом ботинке шнурка, вываленные в уличной грязи, волочились по полу, а зажатая в кулаке кепка вместе с рукой выписывала в воздухе замысловатые зигзаги. Картину дополняли больше обычного растрепанные волосы и покрасневшие осоловелые глаза.
‒ А еще тут некоторые (кепка по-ленински взметнулась в сторону Марата) повадились заначки мои тырить. А это, между прочим, НЗ, то есть запас, к которому нельзя прикасаться никому… кроме хозяина. Я, если уж на то пошло, деньги свои потратил, а они тырят за здорово живешь!
‒ Ага, ага.
Оказавшись у стола, Петюня вытер рукавом нос, а его спутник, который действительно оказался Ильгизом, громко икнул.
‒ Гуляете, молодежь? А у меня свечи зажигания не отлегур… отрегулированы. Вам-то, ясное дело, до лампочки, а мне всю ночь корячиться, чтоб завтра «газончик» мой не подвел, ‒ сказал он, пытаясь пальцами выцепить из салата дольку помидора. ‒ Щас малёха подкреплюсь и начну.
Марат, сидевший до этого молча, поддержал Пологова нарочито елейным голосом:
‒ Отчего же не отрегулировать, прямо сейчас и отрегулируем.
Попросив меня открыть водительскую дверцу, он схватил Пологова поперек туловища, пронес несколько метров и засунул в кабину головой вперед, укладывая на сиденье прямо в верхней одежде.
‒ До утра больше ни звука, а то я тебя в вытрезвитель сдам, поганец, ‒ пригрозил старший.
Поганец особо не возражал. Еще немного поругав начальство, «вытягивающее соки из честных работяг», и вспомнив зачем-то козу, которой нафиг не сдался баян, потому что до зарезу необходим «фортепьян», он затих.
Кабина, обычно содержавшаяся в чистоте, была для Петюни вторым домом, там он чувствовал себя комфортно и уверенно. «Аксакалы» утверждали, что все ночи вне дома Пологов провел в кабине. Либо в свой кровати, либо в кабине ‒ в других местах он спать отказывался. Исключения ‒ редкие поездки в деревню к родственникам жены. Постельными принадлежностями ему служили небольшая декоративная подушка с изображением мультяшного зайца и синее солдатское полушерстяное одеяло, один конец которого он стелил на автомобильный диван, другим укрывался. В этот раз подушку заменила кепка, а одеяло ‒ форменное пальто. Что ж, вполне приемлемые аналоги, практически не нарушающие привычной уютной обстановки. Небольшой диссонанс в идиллию вносили лишь оставшиеся против обыкновения на Петюниных ногах ботинки, ерзая которыми, он перепачкал в уличной грязи изрядную часть водительского места. Но это пустяк ‒ никакая грязь не страшна, когда под рукой есть теплая вода, тряпка и хозяйственное мыло.
Что касается свечей зажигания, то это Петюнин бзик. Он возил с собой мешочек с двенадцатью свечами и по вечерам после принятия «стандартной дозы» приступал к экспериментам. Пологов был уверен: «моща́» у «газоновского» движка нормальная, а не тянет потому, что неверно выставлена система зажигания. Регулировка с заменой свечей, запуском двигателя и бряканьем инструментов затевалась, как правило, в конце ужина, когда остальные члены бригады и представители принимающей стороны, блаженно отвалившись от импровизированного стола, доставали сигареты и приступали к «светской беседе». Но какая там, к лешему, беседа, если возле тебя выхлопная труба извергает сизый ядовитый газ! Летом, правда, ему не мешали, просто открывали настежь гаражные ворота. Зато в холода терпение иссякало быстро. Петюне в зависимости от настроения предлагали либо немедленно лечь спать, либо проветриться часок-другой на морозе, либо засунуть выхлопную трубу себе в задницу. Еще угрожали отобрать ключи и вернуть их только перед самой поездкой. Механик-самоучка обижался, глушил двигатель, но упрямо продолжал в нем копаться. А немного погодя он обычно заявлял, что ему на все наплевать и что если машина завтра не потянет, то он не виноват. Возможно, Петюня был прав и грамотная регулировка зажигания несколько повысила бы оборотистость маломощного движка, однако ж добиться хоть какого-то вразумительного результата ему так и не удалось.
Между тем Ильгиз, на глазах у которого произошло наглое, с применением физической силы, похищение Петюни, продолжал стоять у стола, недоуменно и в то же время сердито оглядывая гогочущую компанию. В его голове, видимо, уже созрел готовый вырваться наружу протест по поводу неслыханного насилия над товарищем, однако первым заговорил Александр.
‒ Ильгиз, извини, за стол не приглашаю. Тебе на сегодня достаточно, иди отдыхать, дорогой. Сам дойдешь или тебя проводить?
‒ Я-то дойду, а… ‒ начал было Ильгиз, подбоченясь.
‒ Вот и иди, все будет хорошо, ‒ сказал Александр, поднимаясь во весь рост и расправляя могучие плечи.
‒ Ага, ага, ‒ сразу закивал головой Петюнин заступник, разворачиваясь лицом к «предбаннику». ‒ Пойду я, наверное, завтра мне на работу с утра…
Легкая неловкость, которую все почувствовали после этой сцены, быстро прошла. Непринужденная дружеская атмосфера вернулась. Прерванный задушевный разговор возобновился.
Глава 7
В семь утра мы уже были в банке. Заведующая кладовой согласилась выйти пораньше, чтобы передать нам ветхие деньги. Набралось двенадцать пачек. Чаще других по вине человека страдали купюры достоинством в один рубль. Среди общего числа банкнот, изымаемых из оборота, они всегда составляли большинство. Этот раз не стал исключением. Пересчитав деньги по пачкам и корешкам, проверили правильность упаковки ‒ пломбы и узлы. Узлы ‒ это особая история. Меня начали учить их вязать сразу после устройства в отдел. Во время первых командировок я не расставался с куском шпагата, которым в свободное время, сидя на тулупах в фургоне, обвязывал спичечный коробок. Вязал как будто бы всегда одинаково, на самом же деле частенько ошибался. «Слабым звеном» был правый узел на тыльной стороне пачки. Одно неверное движение и вместо крепкого устойчивого узла получался «ползунок», который при нажатии начинал скользить по продольному шпагату. Это был брак. Приняв его, инкассатор становился ответственным за содержание пачки. Иными словами, если в пачке обнаруживалась недостача, восполнял ее тот, кто принял, в нашем случае ‒ старший бригады, ставивший все подписи и фактически отвечавший в командировке за все, что связано с инкассаторской деятельностью. Сами мы денежных пачек не вязали, но при необходимости должны были показать банковским работникам, как это делается. А среди них в районах встречались всякие, в том числе неопытные и плохо обученные. Да и бывалые порой допускали ляпы.
Приняв ветхие деньги и упаковав их в мешок, мы с Маратом (Валера остался в машине в качестве охранника) распрощались с гостеприимными хозяевами. К вечеру нужно было добраться до другого райцентра ‒ забытого Богом поселка, расположенного среди колхозных полей. Ехать предстояло исключительно по раскисшим грунтовым дорогам. Прекратившийся ночью дождь, к утру заморосил снова, покрывая еще не просохший город водяной пылью.
Петюня уже вывел свой «ГАЗон» из гаража и внимательно прислушивался к работе мотора. Поднявшийся в кабину Марат с улыбкой посмотрел на взъерошенного водителя.
‒ Ну что, движок тянет? А сам как, в норме? ‒ спросил он. Получив в ответ два утвердительных кивка, старший скомандовал: ‒ Тогда трогай.
Пологов на пару секунд исчез под приборной панелью, и машина тронулась с места. Я ждал, что старший начнет ругать Петюню за вчерашнее поведение, снова пригрозит увольнением или какой-то другой карой, но этого не произошло. Когда мы проснулись в пять утра, Петюня уже гремел ведром, вылизывая кабину с мылом. А перед нашим уходом в банк скрылся в душе. Марат лишь усмехался, глядя как тот суетится, отрабатывая вчерашний залет. В общем, разноса не последовало, о вечернем «спектакле» даже не упоминалось.
Потом Валера объяснил мне, что Петюню после очередного закидона лучше не ругать ‒ сидящее в нем чувство вины на пару дней делает его паинькой и самым исполнительным человеком на свете. От ругани же и угроз он замыкается, начинает филонить или делать все по-своему, назло старшему.
В обоснованности Валеркиных слов мне вскоре пришлось убедиться самому. В темноте на неосвещенной дороге, тянувшейся насыпным глиняным валом между двух черноземных полей, когда до поселка оставалось несколько километров, случилось то, чего так боялся Марат: задние колеса нашей колымаги, выехавшей на край дорожного полотна, чтобы объехать глубокую рытвину, вдруг начали соскальзывать вниз по глинистой насыпи. Попытки Петюни вернуть их на дорогу ни к чему не привели. В итоге передние колеса остались на дороге, а задние, ведущие, ‒ на краю пашни. Пологов, сходив на разведку, сокрушенно развел руками.
‒ Либо тянуть, либо толкать… на одном моторе не уедем, ‒ вынес он вердикт. ‒ Но там ужас как склизко, да еще дождь не перестает. Лучше, конечно, чтоб кто-нибудь вытянул.
‒ Конечно, лучше. Только вот помимо нас других дураков чего-то поблизости не видно. С последним грузовиком разъехались часа три назад, ‒ сказал Марат, глянув на часы. ‒ В общем, так, ребятки, если не хотите навсегда испортить верхнюю одежду, переодевайтесь в трико. Будем толкать.
После пяти минут работы на свежем воздухе все, коме сидевшего за рулем Петюни, стали походить на чертей из ада. Холода не чувствовали, наоборот, были разгорячены тщетными усилиями вытолкать проклятую колымагу на дорогу. Из-под колес в нас летела одновременно и глина, и чернозем. При этом каждую минуту кто-то падал, не находя точки опоры на скользкой земле. В один момент нам удалось раскачать машину и почти дотолкать до верха. Но «почти», как известно, не считается ‒ колымага, немного задержавшись в верхней точке, вернулась в исходное положение. Разочарованию не было предела. Все закурили, даже некурящий Валера сунул сигарету в рот. Петюня с высоты насыпи повел в разные стороны фонарем ‒ вокруг ни кусточка, ни деревца, ни клочка соломы, ничего, что могло помочь вызволить машину из беды. Тогда, откинув от себя щелчком докуренную папиросу, он подошел к нам, снял с себя форменный пиджак, развернул его и положил под машину чуть выше правых сдвоенных колес.
‒ Пацаны, давайте так же в раскачку, чтоб на лепень уверенно наехала, ‒ сказал он. И, прежде чем вернуться в кабину, добавил: ‒ Только сами продолжайте толкать, что есть мочи. Если не буксанет, выберемся.
Мы так и сделали. Добравшись до пиджака, колеса тут же зажевали его и выбросили назад, но машина, получив дополнительный импульс, все же перевалила за отметку, оставшуюся после неудачной попытки. Мы дружно поднажали, и фургон таки выкатился на дорожное полотно.
Особой радости от этого факта никто не испытывал. Петюня, хоть и лишился пиджака, был, по крайней мере, чистым, нас же в свою компанию даже бомжы бы не приняли. В этом мы убедились, разглядывая друг друга при свете фар. Поблескивали лишь глаза и зубы, остальное было покрыто слоем грязи. О трико можно было забыть, во всяком случае, на время поездки. Я также мысленно попрощался со своими импортными полуботинками, издававшими жалкое хлюпанье. Представив себе, как возвращаюсь домой босиком, я рассмеялся.
‒ Один уже начал с ума сходить, ‒ констатировал Марат. ‒ Мужики, предлагаю вот что: перед дверью в фургон бросаем газеты, встаем на них, раздеваемся до трусов, умываемся и после этого залезаем на тулупы. Петюня будет поливать из канистры. Только надо быстрее, иначе задубеем.
Стоявший радом с нами Пологов кивнул и помчался к задней двери. Когда мы подошли, на дороге уже лежали с десяток старых газет и журналов, найденных в фургоне. Вскоре в проеме появилась канистра с питьевой водой, которую меняли перед каждым выездом. Канистра была неотъемлемой частью колымаги и крепилась двумя ремнями к правому борту. Забрав у нас одежду, Петюня наполнял тоненькой струйкой подставленные ковшиком ладони. Стало по-настоящему холодно, поэтому мылись быстро, иногда просто размазывая грязь. Я задержался дольше других, попросив плеснуть на ботинки. Отстукивая зубами, смыл с обуви основную грязь и только после этого забрался в фургон.
Растеревшись личными полотенцами, мы оделись в «цивильное» и вопросительно посмотрели друг на друга. Машина тем временем осторожно двинулась вперед.
‒ Ладно, угощаю, ‒ сказал Марат, доставая из сумки бутылку «Столичной». ‒ Сейчас это не водка, а лекарство.
Он разлил бутылку на троих. У нас с Валеркой были чайные кружки разной емкости, поэтому в качестве мерника Марат использовал свой граненый стакан. Выпив и закусив огурцом, мы посмотрели в амбразуру.
‒ Подъезжаем, ‒ определил старший. ‒ Опоздали капитально, сейчас без пяти минут десять. Перетащим все мешки в банк, будем там спать. Охранник наверняка печку затопил.
‒ Печку? ‒ переспросил я, подумав, что ослышался.
‒ Сейчас сам все увидишь, ‒ сказал мне Марат и повернулся к амбразуре. ‒ Петя, подавай задом к входной двери, разгружаться будем.
Надев сырые ботинки, я спрыгнул на землю и в растерянности уставился на покосившуюся избушку, возле которой затормозил Петюня. Я и представить себе не мог, что бывают такие банки. «Она же скоро развалится», ‒ подумал я. Пока машина разворачивалась, над крыльцом зажглась лампочка, а в дверном проеме появился пожилой охранник с револьвером на боку. Марат направился к нему, протягивая руку.
‒ Здоро́во, Петрович, припозднились мы малость.
‒ Да уж, совсем чуть-чуть, ‒ засмеялся охранник, пожимая протянутую руку. ‒ Наши-то ждали, ждали, да и разбрелись по домам. А задержались-то где?
‒ В чернозем вляпались, тут неподалеку.
Петрович посмотрел на грязную машину, на наши понурые лица и вдруг засуетился.
‒ Так чего же на улице стоять, измучились, поди. Вот, Григорьевна ключ от своего кабинета оставила. Приказала, если будете разгружаться, то прямо туда и складывайте. А я пока печку еще раз раскочегарю, да воды вам погрею.
Кабинет был маленький, поэтому стол пришлось отодвинуть к стене. Посредине сложили мешки, накрыв их тулупом. Получилось одноместное ложе для Марата. Мне он велел устраиваться под единственным зарешеченным окном, завешенным тяжелыми шторами, а Валере ‒ у входной двери, открывающейся вовнутрь.
Мылись по очереди в большом тазу, поставленном в сенях. Петрович приносил теплую воду в эмалированном ведре и поливал нас из ковша. Грязную воду он выплескивал на улицу. Потом мы ели за его столом пирожки с мясом, приготовленные супругой, и запивали их душистым горячим чаем. А когда нас окончательно разморило, старик поставил возле нашего пристанища оцинкованной ведро с небольшим количеством воды.
‒ С собой заберите для малой нужды. Туалет-то у нас на улице. Кому охота в такую погоду выходить… Да и сигнализацию я сейчас включу.
‒ Сигнализация к милицейскому пульту подключена? ‒ спросил Валера.
‒ Какой там пульт! Просто здесь будет орать, коли кто ломиться начнет. А милиция… То есть участковый, если услышит, то прибежит, конечно.
‒ Автономная, значит, ваша сигнализация.
‒ Тебе видней, сынок, какая она. Ладно, спокойной ночи, в семь утра подыму.
Устроившись на тулупе под дверью, чтобы никто не смог войти незамеченным, Валера, громко зевнув, сказал:
‒ А Петюня наш молодец, прямо герой. Как он свой пиджачок под колеса бросил… Не ожидал я от него такого самопожертвования. Как он его назвал, лепень? Так блатные говорят. Не удивлюсь, если скоро выяснится, что Петр Афанасьевич в тюрьме сидел.
‒ Да нормальный он мужик и нигде не сидел. А все его заскоки от того, что чувствует себя ниже других. Тошно ему от этого. Каждый салабон Петюней называет, подсмеивается. Всерьез никто не воспринимает. Он пытается себя поставить, а ничего не получается ‒ со всех сторон «хи-хи» да «ха-ха». Так до смерти и останется Петюней. Обидно, ясное дело, ‒ сказал Марат.
‒ А он, что с нами не захотел ночевать? Даже на ужин не пришел, ‒ подал я голос.
Марат рассмеялся.
‒ Ему в кабине лучше, там он сам себе хозяин. К тому же наградил я его за сегодняшнее геройство: похвалил, фляжку с вином вернул и пирожков отнес. У него аж слезы на глаза навернулись… Ну все, ребята, спать давайте.
Снаружи поднялся ветер, подхваченные им капли дождя били в окно. Засыпая, я слышал, как домишко, сопротивляясь порывам ветра, поскрипывает углами. «Пусть скрипит, лишь бы до утра не рухнул», ‒ подумал я и провалился в сон.
Раньше всех на работу пришла заведующая, та самая Григорьевна, чей кабинет мы оккупировали. Первыми ее словами были:
‒ Здрасьте! Ну слава Богу, приехали! А то завтра в совхозе зарплата, директор беспокоится. Да и «миллионер» наш местный пять тысяч рублей заказал в сберкассе ‒ хочет с книжки снять, у него очередь на «Москвич» подошла. Третий день пороги обивает.
Вскоре подошли остальные сотрудники. Приняли у нас деньги, взамен вручили две пачки ветхих рублевок. Мы начали проверять… и вот оно «слабое звено»: на одной пачке узелок поехал. Подошла Григорьевна, посмотрела ‒ узел действительно «гуляет». Подозвала девушку, которая вязала пачку.
‒ Валентина, я ж тебе сто раз объясняла. Неужели не понятно?
Девушка покраснела, опустила голову и неожиданно заявила:
‒ Да какая разница, Таисия Георгиевна. Что от этого меняется? В пачке как было тысяча листов, так и осталось. Вот и фамилия моя стоит. Если что не так, спросят с меня, я ж не скрываюсь.
Заведующая досадливо поморщилась.
‒ Я тебе потом объясню, «какая разница». А ну марш перевязывать!
Пока ждали, одна из сотрудниц спросила у Марата:
‒ А долго на инкассатора учиться? Вот вы, что оканчивали?
‒ Лично я ‒ академию, ‒ не моргнув глазом соврал Марат. ‒ Потому теперь и езжу в командировки старшим бригады.
‒ В академии, наверное, долго учиться, ‒ задумчиво сказала женщина. ‒ Говорила своему: «Езжай в город, хоть куда-нибудь поступи, выучишься ‒ человеком станешь». Нет, застрял в своем совхозе, кобылам хвосты крутит. Ничего ему не надо.
В этом банке отродясь не было инкассаторской службы, оттого и возник вопрос об учебном заведении. Врать можно было что угодно. Гости из центра здесь были редкостью и верили им беспрекословно. На самом деле подготовка инкассатора длилась месяц. После прохождения медкомиссии новобранец всюду следовал тенью за наставником и впитывал премудрости профессии. В это время его проверяли спецслужбы. Если в биографии не было грязных пятен типа судимости, приводов в милицию, сокрытого факта лечения в психиатрической больнице и прочих неприятностей, не совместимых с получением служебного оружия и работой с государственными ценностями, кандидат получал добро.
От дальнейшей лжи Марата уберегла Валентина, принесшая забракованную ранее пачку. Старший осмотрел ее и положил рядом с первой. Затем обе пачки оказались в мешке, особым способом перевязанном и опломбированном. Быстро перетаскав в фургон остатки денег, предназначавшихся последнему (третьему) на маршруте банку, мы отправились дальше, сказав всем до свидания.
Петюня выглядел на удивление свежим. Видимо, выспался. Он даже побрился своей механической бритвой «Спутник» и надушился одеколоном «Шипр». Дождь на время перестал, ветер поутих, но низкие плотные тучи, застилавшие небо, никуда не делись. Казалось, они лишь ждали команды свыше, чтобы снова приступить к поливу земли. По пути к фургону я остановился и посмотрел по сторонам. При дневном свете кособокая хибара, в которой трудились банковские сотрудники, выглядела как-то уж совсем по-сиротски: само здание имело явный крен влево, наружная штукатурка потрескалась и местами отвалилась. Потемневшую от времени шиферную крышу «украшали» островки зеленого мха. Толстые решетки на окнах ощущения надежности не давали ‒ зачем грабителю лезть в окно, если, поднатужившись, он мог развалить строение целиком. При этом банк находился в центре поселка, так сказать в «деловом квартале». Справа ‒ сельсовет и почта, слева ‒ клуб и домик из силикатного кирпича, над дверью которого виднелась надпись «милиция», выведенная умелой рукой прямо по кирпичной кладке. На другой стороне улицы напротив клуба находилось сельпо ‒ магазин Сельского потребительского общества, торговавший как промышленными, так и продовольственными товарами. Чуть поодаль ‒ гипсовый памятник Ленину с вытянутой рукой, указывающей на сельсовет, а за ним ‒ недействующая церковь, скорее всего, дореволюционной постройки. Куполов на церкви не было, и, судя по вывеске, теперь в ней находилась столярная мастерская.
То, что милиция рядом ‒ это хорошо, подумалось мне, звон банковской сигнализации там наверняка услышат… А может, и не услышат, засомневался я, разглядев на двери кирпичного домика амбарный замок. Позже я узнал, что милиция находилась далеко от банка, на краю поселка, где возводили новый микрорайон с двухэтажными многоквартирными домами. В центре же располагался опорный пункт. Там участковый появлялся лишь в часы приема граждан и во время проведения в клубе увеселительных мероприятий.
Наш «катафалк» тронулся и медленно покатился по лужам. Из графика мы выбились окончательно, и теперь никуда не торопились. Пологов ехал очень осторожно. Газку он решился поддать лишь после того, как грунтовка между двух полей осталась позади.
Марат Петюню не подгонял, сидел спокойно на своем месте и просматривал вчерашнюю газету, подаренную Петровичем ‒ охранником «избушки на курьих ножках». Перед отъездом он созвонился с руководством последнего на маршруте банка, предупредив, чтобы не ждали, поскольку приедем поздно.