124 частушки про философов
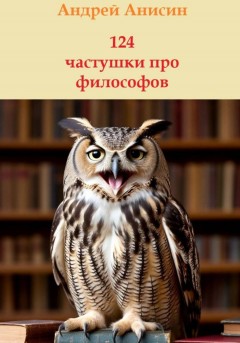
Краткое предисловие
Эта книга началась 31 января 2014 года, когда были сочинены первые четыре частушки. Впрочем, нет, – до этого уже две были, не помню, когда написанные. Проект пополнялся по настроению, то есть потихоньку. А с конца апреля по конец мая 2025, исходя из составленного алфавитного списка неохваченных к тому времени философов, количество частушек было увеличено более чем в два раза и доведено до приемлемой полноты.
Частушка, разумеется, не может раскрыть содержательно никакое философское учение, – в ней всего четыре строчки, из которых, как правило, только две последние удаётся использовать для этой цели, – а ведь ещё и пошутить надо. Однако я старался «зацепить» главную (или известную, что не всегда то же самое) тему философа и его характерную терминологию. Чтобы не только повеселить друзей, имеющих философское образование, но и принести пользу более широкому кругу читателей, были написаны краткие комментарии. «Развлекая, поучай», – поучал ещё Гораций.
Эту книгу, конечно, нельзя использовать в качестве учебника по истории философии, но некоторым пособием при знакомстве с миром философских идей она, кажется, вполне может послужить. Никакой объективности от неё тоже ждать не приходится, – и частушки, и комментарии несут в себе явные следы авторского отношения к мыслителям. Но в силу своего профессионализма автор имеет некоторое право на это личное отношение, а кроме того, этот профессионализм заключается, в частности, в установке на понимающее сочувствие и со‑мыслие обсуждаемым учениям. В каждом случае я старался показать ту правду и глубину, которая всегда содержится даже и в тех концепциях, которые не разделяю. Впрочем, и без критических замечаний в комментариях не обошлось. Явные следы моих собственных философских взглядов разглядеть не составит труда.
Порядок расположения мыслителей в книге очень прост: по году смерти. Иллюстрации были сгенерированы при помощи бесплатного приложения «Шедеврум», работающего на основе нейросетей YandexART и YandexGPT. Прошу прощения за почти полное отсутствие ссылок на источники, – я их делал только там, где цитата примечательная. Культура оформления научного текста мне очень дорога, но формат этой книги не позволяет полностью выдержать её. Заверяю в рамках этого предисловия, что те немногие цитаты, которые приведены, были мной выверены.
Надеюсь, эта книга вам поможет без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка с учёным видом знатока, хранить молчанье в важном споре и возбуждать улыбку дам огнём нежданных… двухсот грамм!
Индуизм школа санкхья
6 век до РХ
Если Пýруша с Пракрити
Мóзги Атману плетут, –
В Брахмане всё растворите,
Чтоб не-я не-был не-тут!
Индуизм представляет собой огромное количество религиозных культов и философских школ, которые не только по-разному решают многие вопросы, но и по-разному употребляют одни и те же слова. Понятия «пýруша» и «пракрити» являются основными в школе санкхья. Пуруша в священных ведических текстах – это некое «великое существо», расчленением которого боги создали вселенную. В индийской философии пуруша – это бездеятельный созерцающий дух, лишённый свойств. В древности говорилось о множестве пуруш, а затем был провозглашён принцип единого Пуруши. Школа санкхья противопоставляет пуруше, неподвижному, мужскому, созерцающему началу начало динамичное, женское, пракрити. Соединение пуруши с пракрити подобно соединению всадника без рук и ног со слепой лошадью: пуруша всё сознаёт, но никак не действует, а пракрити движется и порождает мир, но при этом ничего не понимает.
Высшей мудростью древнеиндийской философии, представленной в Упанишадах, является учение об Атмане и Брахмане. Атман – это истинное высшее Я человека, впрочем, как и других существ и сущностей, поскольку проявляется оно в «узнавании» себя во всём, что тебя как бы «окружает». На самом деле – «это Ты и есть!» Всё, что ты видишь отдельным от себя, – это Ты! А твоя «отдельность» – это не более, чем иллюзия. Перед тобой камушек – это Ты! Над тобой небо – это Ты! Бесчисленные миры – это Ты! Да и Пуруша с Пракрити – это Ты! То есть Атман равен Брахману, – абсолютному, бесконечному, неизменному, не имеющему свойств, а потому не имеющему определений Первоначалу всего. «АЯМ АТМА БРАХМА», «этот Атман – Брахман», – звучит это на санскрите.
Фалéс Милетский
624 – 547 до РХ
Провожаем пароходы
Мы не так, как поезда,
Ведь Фалесом смысл природы
Нам открыт: кругом вода!
Философия пытается понять самые первые основания всего. И вот милетская школа древнегреческой философии связывает первоначало бытия с каким-либо веществом. Впрочем, считать этих философов материалистами было бы, конечно, глупо. Тексты самых ранних мыслителей до нас не дошли, и их взгляды мы знаем по пересказам и цитатам в сочинениях более поздних авторов. Так вот Фалес, судя по этим дошедшим до нас фрагментам, считал началом всех вещей воду, а космос – одушевлённым и полным божественных сил («всё полно богов», «всё имеет душу»). Поясняя смысл этих слов, более поздние философы указывают, например, на то, что вода проникает всюду, что затвердеванием (замерзание или выпадение осадка) и испарением воды образуются различные вещи. Но главную причину считать воду первоначалом они видят в том, что вода – это основа жизни: даже если живое существо не живёт целиком в воде, оно носит воду в себе: соки растений, кровь животных, лимфа, слюна, пот, слёзы, – это всё вода. Особенное значение при этом имеет то, что жизнь и передаётся, зачинается семенной жидкостью, спермой. Жизнь из воды зарождается и водой поддерживается. Без еды живое существо может прожить десятки дней, а без воды умирает очень быстро. А мы помним, что весь в целом космос – это живое существо и каждая вещь имеет свою душу.
Ещё очень важным аспектом признания воды за первоначало является то, что она не имеет своей формы, она принимает любую форму и постоянно изменяет её. Вода постоянно движется, даже если кажется неподвижной, вода течёт и меняется, – именно таким бесформенно-подвижным и должно быть первоначало, по мнению ранних греческих философов.
Анаксимáндр Милетский
611 – 546 до РХ
Не космическое Слово
И не духи саламандр,
Беспредел всему основа, –
Объявил Анаксимандр!
Анаксимандр считается учеником Фалеса и учителем Анаксимена. Первоначало мира он характеризует словом «апейрóн», – это прилагательное среднего рода, содержащее отрицание «а-» и корень «пéйрар» – граница, край, предел. Началом и концом всех вещей является нечто беспредельное в пространстве и бесконечное во времени, всегда движущееся, но ниоткуда не возникающее и никуда не исчезающее. При этом вещи получают своё бытие как бы в долг, а потом, по непреложному закону, в своё время должны этот долг вернуть породившим их причинам. У самого Анаксимандра слово апейрон используется только как прилагательное (какое? – «беспредельное»), но позднее, начиная с Аристотеля, оно субстантивировалось и стало именем существительным, наименованием анаксимандровского первоначала. Его можно считать первым философским понятием, выделившимся из живой речи. Ну, а если переводить как существительное, то – это именно «беспредел», как и сказано в частушке! В шутке есть и более глубокий смысл. Вещи, как можно понять Анаксимандра, своим возникновением, выделением себя в отдельное существование нарушают какую-то высшую справедливость, они возникают именно «по беспределу», и именно в уплату этого бесчинства должны погибнуть.
«Космическое Слово», упоминаемое в частушке имеет самое прямое отношение к древнегреческому мировоззрению, по которому Космосом правит Логос. Да и «духи саламандр» вставлены не только ради рифмы: саламандры в мифологии олицетворяют огонь, который тоже играет центральную роль в космологических учениях многих древних греков (Гераклит, стоики), причём часто в формулировке «Огонь-Логос».
Анаксимéн Милетский
585 – 525 до РХ
Тяжко жить Анаксимену,
Негде скрыться от лохов:
Даже каменные стены –
Лишь сгущенье воздухóв!
Самый младший философ из самой ранней философской школы Древней Греции продолжает развитие темы вещественного первоначала. Вместо воды, предложенной Фалесом, которая всё-таки имеет очень ощутимую плотность, и вместо достаточно умозрительного беспредельного начала Анаксимандра Анаксимен в качестве всеобщей субстанции рассматривает воздух. Вода не имеет постоянной формы, а воздух вообще никакой формы не имеет! Вода просачивается всюду, а воздух просто присутствует везде! Вода нужна для жизни, а воздух ещё более нужен! И в то же время воздух – это не абстракция, не продукт размышлений, как апейрон, а «наглядно» данная стихия мира. Притом, что сам воздух видеть невозможно, действия его не могут не впечатлять: «он могуч, он гоняет стаи туч, он волнует сине море, всюду веет на просторе».
Обыгранная в частушке мысль о том, что даже каменные стены или металлическая броня представляют собой не более, чем «сгущенье воздухóв», тоже в свете современного уровня развития физики получает новое звучание. Всё ведь из атомов состоит, а в атоме вся масса сосредоточена в ядре. Так вот, рисуя наглядную картину, если бы ядро атома имело диаметр 1 сантиметр, то размер атома исчислялся бы в километрах! А что же находится во всём этом объёме, если вся масса сосредоточена в ядре? – А ничего там нет, по сути! Размазанные по орбитам электроны, невесомые «электронные облака»! Так что в свете современного научного знания вся материя, действительно, представляет собой какое-то «сгущенье воздухóв». Более того, эти «воздухá» – какие-то не очень и сгущённые… Особенно, если учесть корпускулярно-волновой дуализм…
Лáо-цзы
6-5 века до РХ
Лао-цзы я слушать рада:
Обещает научить,
Чтобы всё, чего мне надо
Недеяньем получить!
Полулегендарный китайский мудрец и философ Лао-цзы считается автором книги «Дао дэ цзин» (Книга о Дао и Дэ). Это – один из великих и удивительных текстов человечества. Удивительность его в том, что без единого абстрактного понятия в нём раскрываются вопросы предельной философской глубины. Мы привычно (и не беспочвенно) считаем стихией философской мысли именно абстракции: «Идеальность для-себя-бытия как тотальность, превращается, таким образом, в реальность…» (Гегель). А Лао-цзы без помощи абстрактных понятий (хотя в переводе они есть) говорит о принципиально непостижимом: ведь «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао», – таковы первые слова книги.
И всё-таки… Дао, буквально «Путь», – это естественный ритм мира, это вдох и выдох бытия, это путь всех вещей. «Человек следует Земле. Земля следует Небу. Небо следует Дао. Дао же таково само по себе». Впрочем, с человеком имеется проблема. Всё в мире следует естественному пути Дао, а человек часто проявляет своеволие. Для человека научится следовать Дао – это задача. Совершенномудрый – это тот, который научился. Как научиться – это словами не рассказать. Даже то, как выглядит результат, показать трудно: «Человек высшей Благодати не проявляет свою Благодать, и потому он обладает Благодатью». А уж путь к этому результату, тем более, непостижим. Разве что вот: надо очистить чувства, услышать мелодию и ритм мира, чтобы двигаться в такт с Тем, Что движет мир. Это называется «недеянием»: «В недеянии нет того, что не вершилось бы само собой. Не совершая дел, неизменно овладевают Поднебесной». Совершенномудрый не прикладывает усилий и достигает всего.
Пифагóр Са́мосский
570 – 490 до РХ
Пифагор штанов не носит,
И бобов не ест совсем,
Ибо двойка в кубе – восемь,
Тройка в кубе – двадцать семь!
Первым философом в Древней Греции называют Фалеса Милетского, но слово «философия», по преданию изобрёл Пифагор. Впрочем, по меркам современности, сам он был, скорее, основателем оккультной секты, закрытого сообщества с тайным учением и обрядами посвящения, которое вошло в историю под названием «пифагорейской школы». Собственно, о взглядах самого Пифагора мы знаем именно из более поздних сочинений этой школы, когда тайное учение начало становится достоянием широкой публики. Очень существенную часть пифагорейского тайного учения составляла мистика и магия чисел. В числах и их взаимных соотношениях пифагорейцы видели откровение таинственной сущности мира. Гераклит, очень неприязненно относившийся к Пифагору, утверждал, что все свои знания тот получил из Египта. Это, возможно, недалеко от истины. По крайней мере, известную теорему Пифагора в её практическом применении египтяне и вавилоняне знали за много веков до него. В то же время несомненно, что процедура математического доказательства изобретена именно древними греками, и Пифагор приложил к этому руку.
Школьный стишок про «пифагоровы штаны», конечно, ошибочен, не мог Пифагор носить штанов: штаны – это одежда варваров и рабов. А бобов он, действительно, не ел по религиозным соображениям. Он считал, что в бобы могут переселяться души людей. То, что в частушке отказ носить штаны и употреблять в пищу бобы обосновывается указанием на математические факты, – это, конечно, шутка. Но можно быть уверенным, что сам Пифагор вполне бы смог обосновать эти этикетные, нравственные и религиозные нормы свойствами чисел, в которых открыта суть мира.
Геракли́т Эфéсский
544 – 483 до РХ
Гераклиту не даётся
По сантехнике зачёт:
Сколько бедненький ни бьётся,
В результате всё течёт!
Уже упоминалось, что от самых ранних греческих мыслителей до нас не дошло полных сочинений, их взгляды мы знаем по пересказу и цитатам у более поздних авторов. Гераклит бьёт все рекорды по количеству таких упоминаний и цитирований. Причём, по свидетельству современников, понять его тексты было необычайно трудно, – потому его прозвали Тёмным. Сократ, прочитав его философскую поэму, сказал, что «надо быть делосским ныряльщиком, чтобы понять эти мысли». То есть читателю надо уметь, подобно ныряльщику, глубоко погружаться во тьму и холод, задержав дыхание. Зато понятое – прекрасно и глубоко! Приобщимся.
«Многознание уму не научает», – хорошо бы осознать современным людям, что информированность – это ещё не ум. «Глаза и уши плохие свидетели для людей, если души у них варварские». Это тоже на заметку: видит человек не глазами, а умом, «своими глазами видел», – это ещё не гарантия истины. Очевидцы – это нередко жертвы манипуляции.
«С сердцем бороться тяжело, ибо чего оно хочет, то покупает ценой жизни», – охота пуще неволи, если по-русски. А потому: «Не к добру людям исполнение их желаний», – за что боролись, на то и напоролись.
«Лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу – бренным вещам, а большинство обжирается как скоты», – у мудрого человека есть такое ОДНО, которое стоит всего. А большинство, не имея этого «единого на потребу», пытается насытить душу количеством вещей и впечатлений.
И наконец: «Всё течет и ничто не остаётся на месте», мир – это река, в которую нельзя войти дважды. Или, как сказано в другом месте, – «вечно живой огонь, мерами загорающийся и мерами потухающий».
Конфуций (Кун Фу-цзы)
551 – 479 до РХ
Коль Конфуция охота
За философа считать,
Вам для этого всего-то
Его надо не читать!
Прежде всего, следует, конечно, извиниться за непочтительность этой частушки (Конфуций бы за неё казнил!). Но можно и объяснить, почему она сочинена и представлена здесь. Конфуций, действительно, вряд ли философ, и чтобы в этом убедиться достаточно, действительно, просто открыть его тексты. Там найдётся очень многое: и полезные практические советы, и меткие наблюдения, и остроумные замечания, много банальных общих сентенций и любопытных случаев из жизни, – вот только философии там нет. Там даже можно почерпнуть глубокое ощущение традиционной китайской культуры, так сказать «философию» китайской жизни, но только это – не философия. Более того, как ни странно это прозвучит, возможно, всё учение Конфуция – это отрицание необходимости глубокой философии. Самым главным понятием у Конфуция, основой основ является «ли» – обычай, обряд, ритуал, церемония. Формально, конечно, превыше всего стоит «человечность», и есть ещё «справедливость», и есть «благоразумие», а ещё «искренность»…Но – в чём настоящий смысл всех этих красивых слов? Ничего этого невозможно понять, не следуя церемониям!
«Конфуций сказал: "Народ можно заставлять следовать должным путём, но нельзя ему объяснить почему"». Даже образованному человеку это объяснить трудно, и нет гарантии, что он поймёт правильно. А потому Конфуций, кажется, склоняется к тому, что объяснять не стоит и пытаться. Надо просто следовать церемониям, которые оставлены нам предками. Предки были духовнее нас, они лучше понимали волю Неба, это понимание отстоялось в многовековых традициях. Лучшее, что мы можем, это сохранять их, – кто умный, тот по доброй воле, остальные из-под палки.
Пармени́д Элейский
540 – 470 до РХ
Парменид писал несложно,
Целый день хожу, пою:
«Бытию не быть не можно,
Как и быть небытию!»
«Является ли мир таким, каким он нам кажется?» – В самой формулировке вопроса дан намёк на ответ: конечно же, нет! Чувства нас порой обманывают, да и – мало ли что нам покажется! Логика более надёжна: круглого квадрата не существует, и не потому, что его пока никто не видел, а потому, что он НЕМЫСЛИМ. И вот, кстати, вообще – небытие немыслимо, нельзя мыслить то, чего нет. А вот то, что можно мыслить (не просто воображать, а именно мыслить – последовательно, непротиворечиво и с максимально возможной глубиной и ясностью) – это есть. Мышление и бытие – это одно и то же. Причём бытие, то есть мыслимое в настоящем смысле, – оно есть, его не быть не может, оно же бытие! А небытия – его нет и быть не может, оно немыслимо, на то оно и небытие. Пока всё кажется до банальности простым, – пока не сделаны выводы.
Ничто не возникает и не уничтожается, – ибо небытия нет, откуда же что-то возникнет и куда что-то уничтожится?!
Ничто не движется, – ибо небытия нет, а движение предполагает, что чего-то не было здесь, а теперь его нету там, откуда оно передвинулось.
Различий между вещами не существует, ибо различия предполагают, что какие-то качества где-то есть, а где-то их нет, – а небытия-то нет!
И хода времени тоже нет, есть только одно вечное настоящее, ведь прошлого уже нет, а будущего ещё нет, так вот их вообще никогда и нет!
Бытие едино, неподвижно, вечно, лишено частей и внутренних различий. Это – «ПО ИСТИНЕ». А «по мнению», то есть иллюзорно, существуют, конечно, различные вещи, они движутся, возникают, исчезают…
В общем, да: «Парменид писал несложно…»
Зенóн Элейский
490 – 430 до РХ
Плёл Зенон суждений нить,
Да попал в историю:
Сам не может объяснить
Ни одну апорию!
Ученик Парменида Зенон развил тему немыслимости – то есть невозможности – движения. Немыслимость движения он демонстрирует четырьмя апориями, – по-гречески «безвыходность», а русскому человеку это слово недаром напоминает «запор», ведь греческое «пóрос» означает не только путь, но и отверстие, скважину или поры на теле. Из этих апорий наиболее известны две: «дихотомия» и про Ахиллеса с черепахой.
Можем ли мы, например, от кресла дойти до дивана? Чтобы это сделать, нам надо достичь хотя бы середины пути. Но чтобы дойти до середины, нужно добраться до половины расстояния до неё. А чтобы попасть в эту точку нам сначала нужно достичь той точки, которая лежит на полпути к ней… Ну, и так далее. Может ли чемпион по бегу догнать черепаху, которая находится от него на вполне обозримом расстоянии и уползает? Когда он добежит до того места, где она была вначале, она успеет отползти. Когда он достигнет точки, куда она отползла, она отползёт ещё. На преодоление этого расстояния ему потребуется время, за которое она успеет ещё немного отползти… Ну, и так далее. Эти апории, действительно, не имеют логического решения, – только в форме анекдота.
Математика и инженера подвели к двери комнаты, в дальнем углу которой на диване расположилась роскошная красавица. Условие: каждые пять минут можно сократить расстояние наполовину. Математик сразу в отчаянье уходит, а инженер остаётся, объяснив: «Уже достаточно скоро я буду достаточно близко для решения любых практических задач!»
В логике, действительно, много парадоксов, а реальность не делится на разум без остатка.
Анаксагóр
500 – 428 до РХ
Семена всего – повсюду,
Нету даже спора:
Замутил весь мир как чудо
Ум Анаксагора!
Что бы там ни говорила элейская школа (Парменид с Зеноном), в мире не только существуют очень разнообразные вещи, но они ещё и могут превращаться друг в друга! В живой природе это заметнее. Мне вот, например, приходится регулярно стричь волосы и ногти, а откуда они берутся? Они явно образуются из того, что я ем. Но ем-то я не волосы и ногти! Я на обед телятину ел. А в телёнке откуда мясо образовалось? Он ведь мяса не ест, он траву жуёт… А трава откуда взяла свои стебли, листья и цветочки? Она из земли берёт материал для себя. Получается, что в земле должны быть зародыши стеблей, листьев и цветков травы, зародыши мяса телёнка, зародыши моих ногтей и волос, а также, видимо, вообще семена всего, семена всех веществ и всех вещей. Они все всюду намешаны, но каждый раз что-то преобладает, и вещь выглядит землёй, или мясом, или ногтями… А первоначально, считает Анаксагор, всё это находилось в полном неразличимом смешении, ничего нигде не преобладало.
Формирование мира является результатом действия космического Ума, который привёл в движение первичную смесь, закрутил её, и она стала расслаиваться. Причём этот Ум, конечно, не является просто слепым и тупым источником движения, – это духовный источник становящейся и возрастающей мировой гармонии. Как писал глубоко чувствовавший античную культуру Ницше, «анаксагоров Дух – художник, а именно великий гений механики и зодчества, создающий с помощью простых средств грандиозные формы и пути и своего рода подвижную архитектуру, но всегда в силу того произвола, который лежит в глубине души художника». Не просто мощь, а совершенный художественный вкус присущ этому Уму!
Сокрáт
469 – 399 до РХ
Ни покоя нет, ни сна мне
От Сократа моего:
Так достал он тем, что знает,
Что не знает ничего!
Философию в Древней Греции делят на два периода: до Сократа и после, а ведь он не написал ни одного философского текста! Как же так? На ум приходит только грандиозная аналогия со Христом, который тоже ничего не написал, но мировая история теперь делится на «до Рождества Христова» и «нашу» христианскую эру. Но Христос и не для решения умственных проблем пришёл, как верят христиане, а для совершения дела спасения. А Сократ-то именно в постановке и решении умственных, философских проблем является «водоразделом», он ведь именно философ! Ничего не написавший. Всю жизнь сотрясавший воздух в беседах с людьми. Да и сказавший, кажется, совсем не много. Да и то, что он сказал, звучит как издевательство: «Я, говорит, знаю только то, что ничего не знаю!»
Если почитать диалоги Платона, ранние из которых, видимо, воспроизводят реальные беседы Сократа с людьми, то складывается чёткое ощущение, что Сократ именно издевался. Не со зла! Не для того, чтобы себе цену набить! А в искренних попытках обратить людей к настоящей глубине вопросов. И к глубине ответов, конечно, но вопросов, прежде всего! А для этого нужно сначала сделать ясной для человека несостоятельность того якобы «понимания», которое он привычно имеет. Когда Сократ, принявший вид простачка, восклицает: «Ну, вот спасибо, теперь мне всё ясно! Почти… Вот только вопрос…», и когда после серии таких уточняющих вопросов собеседник, считавший, что ясно понимает предмет разговора и что ничего не стоит его объяснить глупому Сократу, встаёт в тупик, – что это как не издевательство?! – «Когда я начинал с тобой говорить, Сократ, я знал! А сейчас – не знаю! Лучше отойди, пока я тебя не прибил!»
Демокри́т Абдерский
460 – 370 до РХ
Демокрит нам шлёт привет:
Очень небогаты мы!
Ничего, что видим, нет:
Пустота и атомы!
Учение Демокрита исходит из того же постулата, что и элейская школа: «бытие по истине» отличается от «бытия по мнению», мир не таков, каким он нам видится. Вот только бытие по истине трактуется у него совсем иначе, – с точностью до наоборот. Бытие не едино, оно множественно, истинным бытием являются бесчисленные атомы, неделимые первоэлементы всего. И небытие есть, а точнее, – есть пустота, в которой эти атомы движутся. Логически, может быть и верно, что небытия быть не может. Но пустота – она от слова «пустить», – пустота впускает в себя и даёт пространство для свободы. Поэтому и движение есть, – благодаря пустоте, которая пускает атом переместиться на другое – пустое, свободное – место. Соединением атомов образуются вещи, разъединение атомов означает исчезновение вещи. Атомы при этом, конечно, никуда не исчезают, но перестаём воспринимать вещь, она исчезает в «бытии по мнению». Отдельный атом воспринять невозможно, восприниматься чувствами могут только сцепления атомов и, как правило, достаточно большие. Перекомбинация атомов приводит к преобразованию вещи в другую.
В современной физике тоже используется понятие «атом», но неверно говорить, что Демокрит что-то в науке предсказал. Он говорил о неделимых первоэлементах, слово «атом» и означает «неделимый», а атомы современной физики отлично делятся, выделяя огромную энергию, они имеют сложную структуру и вовсе не в пустоте существуют. Заслуга Демокрита, как и его оппонентов заключается не в выдвижении научных гипотез, а в самом стремлении разглядеть за видимым обликом вещей истинную сущность мира. Именно это стремление и породило затем науку.
Платон
427 – 347 до РХ
Из Платона мой зараза
Очень много знает:
Не читал его ни разу,
Но припоминает!
Концепция познания как припоминания душой того идеального мира, в котором она обитала до рождения на земле, представлена Платоном в диалоге «Менон». Там Сократ (как литературный персонаж в диалоге) демонстрирует собеседнику, что всего лишь задавая вопросы, не сообщая никакой информации, можно привести неграмотного юношу-раба к формулировке весьма нетривиальной геометрической теоремы. Желающие могут попробовать свои силы в решении задачи, о которой там идёт речь. Как построить квадрат площадью в два раза больше данного (и исходный, и построенный должны быть именно квадратами)? Непросто сообразить…
Если ничему не учившийся варвар, просто отвечая на вопросы, может дойти до решения, значит, это знание в его уме как-то уже было: он ведь отвечает только то, что знает, а чего не знает, он ответить не может, – вопросы только выуживают это знание из глубин его души. А речь идёт именно о базовых знаниях, о том, как устроен мир в принципе, – о математике, логике, о фундаментальных идеях и ценностях (это уже в других диалогах ставятся вопросы о красоте, истине и т.п.). Получается, что эти знания как-то заложены в ум человека, врожденны ему. Платон объясняет это тем, что душа до рождения обитала в мире идей, этот духовный мир и есть её настоящая вечная родина. Душа созерцала эти чистые идеи, духовные первоначала вещественного мира, а родившись в материальном теле, забыла их, но – может вспомнить! Вещи материального мира – это же тени идей, они могут навести ум на воспоминание истинной духовной реальности, – ведь пробудили же в душе юноши-раба грубые и неровные линии чертежа на песке воспоминание геометрических законов!
Аристотель
384 – 322 до РХ
Зря просила я: «Милёнок,
Аристотеля усвой!»
Нету, видно, ни силёнок,
Ни причины целевой!
Любая вещь появляется в мире не просто так, нужны какие-то основания её бытия, причины, её порождающие. Аристотель говорит о четырёх видах причин. Во-первых, вещь должна быть «из чего-то», нужен материал, – это материальный вид причин. Во-вторых, материалу должна быть придана форма, вещь должна иметь внешний вид и внутреннюю конструкцию, – это формальные причины. В-третьих, должен быть кто-то (или что-то), соединяющий материю и форму, сами они не соединятся, – это деятельные причины. И, наконец: даже если есть «из чего» будет вещь, есть понимание «что» это будет, есть тот, кто её сделает, и есть чем, но – зачем? Таким образом, в-четвёртых, должен быть ответ на этот вопрос, – вещь имеет целевые причины своего бытия: она должна иметь предназначение.
Конечно, все перечисленные причины важны, все необходимы для бытия вещи, но интересно спросить, – какая из них всё-таки главная, определяющая? Конечно, целевая! Именно целью определяется выбор материала. Никто не будет делать гаечный ключ из пластилина. Да и не всякий металл годится для этой цели, нужна инструментальная сталь! Именно целью определяется вид и устройство вещи, её форма, – на примере гаечного ключа это тоже очень понятно. Именно наличием цели актуализируется деятельная причина, – о чём говорит и ситуация, описанная в частушке: силёнок-то (деятельной причины) почему нет? – А именно потому, что нет целевой причины! Если бы имел ясное понимание, зачем это надо, причём не кому-то надо, а именно ему зачем это надо, – нашёл бы и время, и силы! Впрочем, не он один такой, большинство людей в современном мире не видит смысла усваивать Аристотеля…
Эпикýр Сáмосский
342 – 270 до РХ
Эпикур исполнил номер,
Дав единственный совет:
Кайф лови, пока не помер,
А помрёшь – тебя и нет!
Любит дура Эпикура
За красивые глаза,
А ещё хвалил фигуру,
Наслаждаться подсказал!
Корнем этического учения Эпикура является попытка освобождения человека от страха смерти. Освобождать он планирует так: надо осознать, что со смертью (своей) я никак не встречаюсь: пока я есть, смерти нет, а когда смерть пришла, – меня уже нет! Она, таким образом, ничего мне сделать не может, никак я от неё пострадать не могу. Разумеется, изложенная позиция предполагает веру в то, что смерть – это полное прекращение меня, что смерть – это небытие, которого ведь, логически рассуждая, просто нет! «Смерти нет, это всем известно, Повторять это стало пресно, А что есть – пусть расскажут мне!» – написала Ахматова.
Смерти нет – потому что она является уходом в небытие, и, таким образом, в бытии её никак нет? Или смерти нет – потому что она есть переход в вечную жизнь? В первом варианте ответ на вопрос «как жить?» предельно прост: «живи, пока живётся, делай что хочешь, смысла нет ни в чём, просто бывают приятные ощущения и неприятные, выбирать, конечно, тебе, но лучше уж иметь приятные». Во втором варианте всё сложнее…
Лу́ций Анне́й Се́не́ка
4 до РХ – 65 по РХ
Сéнека советом годным
Нас снабдил в дорогу:
Как от мира быть свободным,
Покоряясь Богу!
Оба варианта ударения допустимы. И всё-таки – в имени Sĕnĕca вторая от конца гласная краткая, а потому ударение, по правилам латыни, должно падать на третий от конца слог, что и отражено в частушке.
В ту пору, когда античный мир подошёл к своему концу, популярны стали те учения, которые помогают человеку перенести критические ситуации. Три главных философских школы эпохи эллинизма воспроизводят, по сути, принципы поведения в местах лишения свободы. «Не верь», – это скептицизм: никаким знаниям не доверяй и будешь спокоен, не разочаруешься. «Не бойся», – это эпикурейство: смерти боятся не надо, помрёшь, и тебя не будет, а пока получай удовольствие. «Не проси», – это стоицизм: делай, что должен, и не жди другой награды, кроме собственного достоинства и чувства исполненного долга. Обычно стоики говорили просто о мужественном принятии любых обстоятельств, но у Сенеки ощутимо присутствует именно религиозное восприятие жизни. Традиционную для стоицизма тему «блаженной жизни», основанной на независимости от внешнего мира, он раскрывает именно через связь души с Богом. Понятие о Боге у Сенеки преимущественно пантеистическое («Бог есть всё», «Бог и мир – одно и то же»). Но вместе с тем он придаёт Божеству и некоторые черты личности: Бог благодетельствует нам, заботится о людях. А высшая добродетель и основа «блаженной жизни» заключается в том, чтобы «стать подобным Богу», в смысле совершенствования ума, жизни и души, – ведь мы же и так часть Бога, и мы можем всё больше ему уподобляться. Этика Сенеки так похожа на христианскую этику, что существовала легенда о переписке его с апостолом Павлом, – современниками они реально были.
Авре́лий Августи́н Иппо́нийский
354 – 430
Августин за то мне мил,
Что живет свободно!
Коль ты Бога возлюбил, –
Делай, что угодно!
В частушке обыгрывается одно из изречений Августина, цитируемых наиболее часто и на разные лады: «люби Бога и делай, что хочешь». Источник цитаты следующий: комментируя Второе послание апостола Иоанна, Августин написал: «Люби – и делай что хочешь. Если молчишь, молчи из любви; если говоришь, говори из любви; если порицаешь, порицай из любви; если щадишь, щади из любви». Как мы видим логическое ударение здесь стоит не на «делай что хочешь», а на «люби». Это не позволение, а требование: «Намерен что-то сделать, – загляни в себя, что тобой движет? Любовь ли? Если твоим мотивом является истинная любовь, то действуй и не бойся: всё, что ты будешь делать, будет добром! А вот если нет… Если даже ты нашёл в обоснование своего намеренья кучу цитат из Священного писания, из нравоучительных, философских и правовых сочинений, но НЕ ЛЮБОВЬ тобою движет, – остановись, ты не туда идёшь!»
И это означает, во-первых, что готовых рецептов нет: «промолчать или высказать, наказать или простить?» – «действуй по любви!» Это очень трудно вынести, это означает – каждый раз брать на себя ответственность.
А во-вторых, это проясняет основания и смысл заповеди «Не суди!», – ты не можешь знать, что двигало человеком, ты видишь только наружность и последствия поступка, а его истинное достоинство определяется только мотивом любви. Поступок может иметь благообразный вид и иметь благие последствия, но – не из любви это сделано (а по другим мотивам), и это вовсе не добро! Поступок может выглядеть странно и даже возмутительно и неприятности кому-то принести, но, если он из любви совершён, то это чистое и святое добро!
Ансéльм Кентербери́йский
1033 – 1109
Ансельм навек рассеял тьму
Логическим заклятием:
Не быть не может Тот, Кому
Не быть не по понятиям!
Само намерение как-то доказывать бытие Бога может рассматриваться как проявление недостатка веры и прочей духовной ущербности, но всё-таки доказательства бытия Бога существуют, и их много, а доказательств небытия Бога в истории философии не предложено ни одного. «Доказательства» бытия Бога являются, по сути, демонстрацией того факта, что вера вполне согласуется с разумом и даёт логичное завершение системной картине мира. Как правило, эти доказательства являются космологическими, то есть из определённых качеств окружающего нас мира предлагается сделать вывод о наличии Творца. Епископ Кентерберийский Ансельм предложил доказательство онтологическое (скорее, просто логическое), в котором вывод о необходимом существовании Бога делается на основе логического анализа самого понятия о Боге. Этот проект вызвал много критики, в том числе со стороны богословов, но он имел и большое продолжение в истории мысли. Доказательство Ансельма строится на том, что понятие Бога предполагает высшую степень всех возможных совершенств. Любой предмет чего-то лишён и тем отличается от других, которые это свойство могут иметь. В Боге же невозможно предположить недостаток хоть чего-нибудь, он есть предельная полнота бытия. Да, вот именно – бытия! Может ли такая совершенная полнота всего быть лишена бытия? Если бы это было так, то возможна была бы большая полнота, где ко всем имеющимся в ней качествам прибавлялось бы ещё и бытие. И тогда как раз эта полнота всего, обладающая ещё и бытием, и была бы – Бог! Это рассуждение недаром названо «логическим заклятием»: возразить на него вроде бы и нечего, но привести кого-то к вере оно вряд ли способно.
Пьер Абеля́р
1079 – 1142
Абеляру очень сложно
Отношенья сохранять:
Бабам верить невозможно,
Потому что не понять!
По вопросу о соотношении разума и веры богословами высказывались разные позиции, начиная с полного отказа от попыток рационально понять веру («верую, ибо абсурдно», Тертуллиан). Была популярна, например, формула Августина: «верить, чтобы понимать». Абеляр сформулировал свою позицию наоборот: «понимать, чтобы верить» (по духу это восходит к словам апостола Павла: «Я знаю, в Кого уверовал»). Позиция Абеляра заключается в том, что ни один человек не свободен от ошибок, любой авторитет не абсолютен, – кроме самого Бога и того разума, который нам Богом дан. А потому единственными основаниями истины являются Священное Писание (где прямо от Бога дано откровение) и диалектика (от Бога данная способность правильно мыслить). Прежде чем верить, нужно логически-рационально построить понимание разбираемых вопросов, отталкиваясь от священного текста.
«Как же так? – скажут некоторые. – Вера ведь как раз и означает отсутствие разумных оснований!» Но различие знания и веры – вовсе не в степени обоснованности. Вера – тоже вид знания, но знание, являющееся руководящим жизненным убеждением. Знаем мы много чего, но это часто никак не влияет на нашу жизнь. А есть убеждения, на которых всё в нашей жизни строится, – вот их-то и будет правильно назвать нашей верой. Важная подробность заключается в том, что человек способен строить свою жизнь даже на ничем не доказанных убеждениях. Вера человека, действительно, бывает порой не основана ни на чём, кроме самой себя. Но вера может иметь и глубоко аргументированную рациональную проработку, и фактическую базу, и основываться на понимании. Абеляр – за это!
Аверро́эс (Ибн Рушд)
1126 – 1198
Аверрóэс в голове
Всё легко уложит,
Потому что истин две
Про одно и то же!
Арабский философ, живший в Испании, Ибн Рушд (латинизированное имя Аверроэс) решает проблему соотношения разума и веры чрезвычайно радикально: у веры своя истина, а у разума своя, и если они друг другу противоречат, – ну, и ничего страшного. Прямо как в том анекдоте, где мудрец говорит каждому из спорящих: «Ты прав. И ты прав», а на возмущение случайного зрителя: «Так ведь не бывает!» отвечает: «И ты тоже прав».
Когда я читаю Коран или молюсь, – говорит Аверроэс, – для меня актуальны истины веры: сотворённость мира, ангелы, джинны и шайтаны, и прямая воля Всевышнего является причиной каждого события, и конец мира и Судный день, и воздаяние за дела в раю и в аду. Это для меня – воистину истина (религиозная).
А когда я читаю и толкую Аристотеля, – продолжает Аверроэс, – то я следую истинам разума: мир несотворён и вечен, не было у него начала и не будет конца, все причины всех событий находятся внутри мира, индивидуальная душа не вечна и умирает вместе с телом. Какая-то божественная душа бессмертна, но это, скорее, разум, общий всем людям и являющийся частью Божественного разума. И Бог личностью не является, и правит он миром, исполняя закон необходимости, а не по произволу. То есть то, что люди (неграмотные) называют Богом, правильно и грамотно было бы назвать Мировой необходимостью, Законом Природы, – как-то так. Это для меня – воистину истина (философская).
Видимо, сам лично Аверроэс предпочтение отдавал разуму и его истинам, – клятвенно заверяя, что религия тоже говорит истину. Свою.
Фома́ Акви́нский
(То́мас Акви́нат)
1225 – 1274
Веру с разумом Фома
Рассудил по моде:
Выдал равные права
Справкой о разводе!
Очень взвешенное решение вопроса о разуме и вере предложил Фома Аквинский. Истина, конечно, одна, но пути к ней могут быть разные (такие формулировки, впрочем, можно встретить и у Аверроэса). Можно идти к Истине путём веры, а можно путём разума, и те знания, которые на этих разных путях обретаются, друг другу противоречить не могут. Просто путём веры обретается больше. И вот есть такие знания (истины с маленькой буквы), которые могут быть познаны и разумом, и верой, а есть такие, которые – только верой. Эти истины, познаваемые только верой, разуму не противоречат, просто разум по этому поводу вообще ничего сказать не может. К этому второму виду истин относятся специфические истины Откровения: что Бог един по сущности, но троичен в Лицах, и эти Три суть один Бог, что второе Лицо этой Троицы воплотилось и вочеловечилось в Иисусе Христе, что Христос своей смертью и воскресением исцелил грех и спас людей от власти смерти. Всё это – только верой (христианской).
А первый вид истин, которые и верой утверждаются, и разумом могут быть доказаны, – это, например, несамобытность мира (что он сам собою существовать не может), бессмертие души, бытие Бога. То, что мир имел начало во времени, сотворён из ничего, – это истина только веры, разум это доказать не может. А вот то, что мир сам собою не может существовать, что он нуждается в разумном действии извне – это доказуемо. Как доказуемо и бессмертие души. Что с душою будет в вечности, этого разум сказать не может, тут только вера, но бессмертие души – это доказуемо. Как доказуемо и бытие Бога. То, что Бог есть Любовь, разум доказать не может, а вот то, что он есть, – это Фома доказывает пятью способами.
Уи́льям О́ккам
(Уи́льям О́ккамский)
1285 – 1347
О́ккаму всё станет просто
Так или иначе:
Лишних сущностей наросты
Бритвой отпорсачит!
Да, ударение именно на первом слоге. Более того, использовать слово «О́ккам» в качестве имени этого мыслителя («бритва О́ккама»), видимо, не совсем грамотно (хотя всем уже привычно), – это название городка в южной Англии, где он родился. Правильнее было бы «Оккамит» или «Оккамат» («Фома из Аквина» именуется «Томас Аквинат»). Наверное, сыграло свою роль то, что был он англичанином и именовался на родном языке William of Ockham. Вот на латыни (на которой писал) он и стал Gulielmus Occamus, а после отпадения латинских «–us» обрёл имя, привычное всем.
Был он крайне жёстким номиналистом, то есть признавал реальное существование только за единичными, индивидуальными вещами. Любые общие понятия – это только имена (nomina), которым в реальности ничего не соответствует. Звучит разумно, но со времён Платона идеалистическая философия (а другой практически не было) исходила из реального существования общих идей, – может быть, только не в отдельном, как у Платона, мире. Общим понятиям и абстрактным идеям соответствует духовная реальность, как раз и осмысляемая философией. А вот Оккам эту реальность общих понятий (универсалий) отрицает. Общие понятия в уме есть, но соответствует им множество индивидуальных вещей, произвольно объединённых под этим ярлычком. Принцип «бритвы Оккама», вошедший с историю мысли имеет, прежде всего, этот смысл: не следует умножать сущности без надобности, не следует предполагать наряду с единичными коровами какую-то «коровность», а ещё отдельно «рогатость» и т.д. А в методологическом (чаще вспоминаемом) смысле этот принцип требует не вводить лишних объяснений, когда хватает более простых.
Никола́й Куза́нский
(Николай Кузанец)
1401 – 1464
Мне Кузанец по уму
Больше всех понравился:
Ведь как минимум ему
Максимум представился!
Спустя восемнадцать веков после сократического «я знаю только то, что ничего не знаю» Николай Кребс, сын лодочника из немецкой деревеньки Кус, написал трактат «Об учёном незнании». К тому времени он, правда, был уже доктором канонического права, признанным богословом и священником, а впоследствии стал кардиналом и епископом. В трактате констатировалось, что «не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудрённость в собственном незнании», а осознал это автор, по его словам, через божественное откровение. Слова Сократа порой понимают достаточно просто: уверенность в своих знаниях бывает от их недостатка, а чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как много ещё непознанного. Но и Сократ говорит о чём-то большем, и уж тем более нельзя не видеть этого у Кузанца. Он показывает, что полнота истины не вмещается в человеческий разум без противоречия (привет через века Курту Гёделю!) и вряд ли может быть выражена человеческим языком, который приспособлен только для речи об ограниченных вещах этого мира.
Бог – это, безусловно, абсолютный максимум. Но, логически рассуждая, Кузанец показывает, что он совпадает с абсолютным минимумом. Бог, безусловно, – Творец мира. Но в то же время Бог и мир – одно и то же, поскольку мир – это «развёртывание» Бога. Вообще познание проходит через четыре ступени: чувственную, когда ещё не очень ясно воспринимается внешность вещей, рассудочную, где осознаются противоположности, разумную, где противоположности объединяются, и интуитивную, где просто созерцается полное совпадение всех противоположностей в абсолютном их единстве: «Бог во всём и всё в Боге».
Никколо́ ди Берна́рдо Макиаве́лли
1469 – 1527
Для Макиавелли скотство –
Средство арсенальное,
А осанка благородства –
Вещь опциональная!
Когда Пушкин написал: «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства!», он имел в виду, что, даже поступая не очень хорошо, хотя бы остатки совести надо сохранять. Для Макиавелли речь о другом. Сохранение «осанки благородства» нужно только потому, что это, как правило, бывает выгодно для дел правления, а если практической пользы от этого не получишь, то нечего и притворяться. Цель оправдывает средства, а обеспечение единства государства, его внешней безопасности и порядка в нём – это такая цель, которая может оправдать любые действия правителя: и насилие, и произвол, и коварство, и лицемерие, и предательство. Справедливости ради надо сказать, что трактат «Государь», написан в тяжёлое для родины Макиавелли время, когда она была раздроблена на десятки враждующих и воюющих государств. Ради объединения Италии он – республиканец – был согласен даже на деспотизм.
«Когда речь идет о спасении родины, должны быть отброшены все соображения о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что похвально и что позорно. Нужно забыть обо всем и действовать лишь так, чтобы было спасено её существование и осталась неприкосновенна её свобода», – писал Макиавелли в другом сочинении. Это означает глубокий мировоззренческий переворот. Для традиционных христианских философов вопрос решался в другую сторону, исходя из евангельских слов: «Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» И если спасение родины требует отречения от справедливости и милосердия, задумайся, – действительно ли это Родина? Настоящая Родина имеет духовное измерение и неотделима от справедливости и милосердия, – так считали все философы предшествующих эпох.
Эра́зм Роттерда́мский
1466 – 1536
Я с Эразмом до рассвета
Танцевала на балу,
А он, гад такой, за это
Написал мне похвалу!
Как Макиавелли написал много книг, а знают его как автора маленькой книжки «Государь», так и Эразм Ротердамский, когда от нечего делать в дорожной скуке сочинял «Похвалу глупости», не мог предполагать, что не его многотомные учёные труды, а именно эта литературная безделица войдёт в золотой фонд мировой литературы. Впрочем, прижизненную всеевропейскую славу, высочайший авторитет и огромное влияние на современников Эразм приобрел, конечно, не только и не столько этим произведением. Его деятельность пришлась на поистине революционную эпоху в истории Европы: было изобретено книгопечатание (в Китае – минимум на полтысячелетия раньше). А печатная книга – это принципиально другой уровень культуры. Для издания древних текстов требуется предварительно их научно проанализировать и исправить ошибки, накопившиеся при многовековом переписывании от руки. Этим и занимались деятели ренессансного гуманизма, Эразм в том числе. Критическое издание текстов Нового Завета, отцов Церкви, античных авторов – это огромная задача, которую начали решать гуманисты. Эразм переводил классические тексты с греческого на более распространённую тогда латынь и заложил основания греческой филологии. Он же впервые применяет научные методы и в области богословия, что дало почву для возникновения и развития протестантизма. При этом сам Эразм не поддержал протестантизм и остался католиком, хотя критических и сатирических выступлений в адрес церковного начальства делал немало. Парадоксально, но он, сохранивший верность папскому престолу, отстаивает принцип свободы воли в полемике с реформатором и «революционером» Лютером, который свободу отрицает.
Фрэ́нсис Бэ́кон
1561 – 1626
Не был Бэкон со мной горд,
И признаюсь шепотом:
Жаден, девки, этот лорд
До любого опыта!
С именем Бэкона традиционно связывают проект «опытной науки» и «опытной философии». Не он, конечно, первый заговорил о значимости опыта в познании, но он впервые сделал это программным требованием: «только знание, основанное на опыте, достойно называться настоящим знанием!» Умозрительные рассуждения ничего нового добавить к знаниям не могут, – новое обретается только через опыт. Умозрительные построения не гарантируют истины, – только проверка опытом может что-то подтвердить или опровергнуть. Причём опыты могут быть «плодоносные», дающие прямо полезные знания, и «светоносные», проливающие свет на законы природы. В противовес дедуктивной логике Аристотеля и схоластов он предлагает разработать логику индуктивную, позволяющую на основе единичных фактов формулировать общие закономерности. Тут, конечно, возникает большая трудность: обобщение никогда не бывает на 100 % достоверным, но Бэкон надеется через разработку «правил истинной индукции» повысить точность обобщений до приемлемого уровня. Другого-то выхода нет, – потому что нет другого источника настоящих знаний, кроме опыта, дающего только единичные факты.
Насколько далеко простиралась у Бэкона упомянутая в частушке «жадность до любого опыта» сказать трудно. Но рассказывают, что умер он, простудившись, набивая снегом тушку курицы и опытно выясняя влияние холода на её сохранность (как будто замораживание продуктов не применялось многие века истории даже и неграмотными крестьянами). Есть, впрочем, и другая версия, – что он ставил опыты на себе, пытаясь поправить здоровье при помощи опиатов и других интересных веществ.
Рене́ Дека́рт
1596 – 1650
Не дождешься от Декарта
Поздравленья с восьмым марта,
И карьера не волнует:
Мыслит, значит существует!
Философский проект Декарта начался с того, что его категорически не удовлетворило то образование, которое он получил. А получал он его в ведущих университетах Европы. Суть его претензий состояла в том, что он хотел истины, а ему предлагали мнения. Мнения были очень учёные и авторитетные, но… истина-то где?! Вот Декарт и решил взять дело в свои руки. Первым делом он решил поставить всё под сомнение. «Всё» – это не только чужие мнения и взгляды, но и собственные мнения и убеждения. Сделать это нужно не для того, чтобы вслед за скептиками сказать: «Ничему верить нельзя», – и на этом успокоиться. Поставить всё под сомнение нужно, чтобы найти что-то несомненное, нечто такое, в чём сомневаться вообще невозможно. Потому что, если сомнение в чём-то возможно, то это ещё не точно истина. Таких истин, в которых усомниться невозможно, даже если сильно этого захочешь, Декарт нашёл всего две. Но ему хватило.
Во-первых, я не могу сомневаться в том, что я сомневаюсь. «Я мыслю», – очевидная истинность этого факта не может быть мной поставлена под сомнение, поскольку это сомнение как раз и является моей мыслью. А во-вторых, истиной, сомнение в которой логически невозможно, Декарт считает бытие Бога. Вот я мыслю, и в моём мышлении есть понятие Бога. В моём разуме оно есть, но понять это понятие мой разум не способен. Чем больше и глубже я вникаю в понятие Бога, чем лучше я его понимаю, тем меньше я его понимаю. Это факт. Можно предположить, что все иные свои понятия мой разум выработал сам (потому что они ему понятны), но ЭТО понятие превышает возможности моего разума. Тогда откуда оно? Единственный вариант: оно отражает реальный опыт непостижимого Бога.
Рене́ Дека́рт
1596 – 1650
Обещал Декарт мне смело:
«Будем до рассвета-де!»
Но всю ночь он вместо дела
Рассуждал о методе!
Обретя две упомянутые несомненные истины, Декарт считает возможным строить процесс познания. Только маленькое примечание: по мнению Декарта, тот Бог, который, несомненно, есть, – ещё и «правдив», он не будет делать так, чтобы истина была совершенно недоступна. Только с учётом этой оговорки мысль может доверять ощущениям: они не обманывают, потому что не обманывает Бог, во власти которого и я, и весь мир.
Если ощущения нас не обманывают, то откуда заблуждения? А мы сами виноваты, мыслим неправильно, метода нам не хватает. Надо определённые правила соблюдать. Во-первых, нельзя поспешно принимать за истину что попало, надо дойти до полной очевидности, убедиться, что никакие сомнения невозможны, вот тогда можно будет в дальнейшем на это опираться. Во-вторых, сложное надо делить на столько частей, сколько потребуется, чтобы дойти до очевидности. В-третьих, спешить не надо, надо идти от простого к сложному, нельзя приступать к десятому этажу, не возведя сначала первые девять. И, наконец, в-четвёртых, классификации, перечни шагов, учёт различных вариантов и гипотез нужно делать такими полными, чтобы гарантировать: «ничего не пропущено». Ни одна, даже слабая версия не может быть сброшена со счетов без проверки. Ни один аспект вопроса не может быть проигнорирован. Никакой самый экзотический расклад не должен уйти от анализа. Медленно и скучно, а что делать?
Эта программа рационального познания изложена Декартом в целом ряде сочинений, наиболее известным из которых является «Рассуждение о методе». Его-то и ставит в упрёк лирическая героиня приведённой частушки. В чём-то она права: так подходя к делу, и с места не сдвинешься!