Психология обиды и вины. Вина как допуск к человечности Том 2 Миронова М.Р. Шишалова К.А.
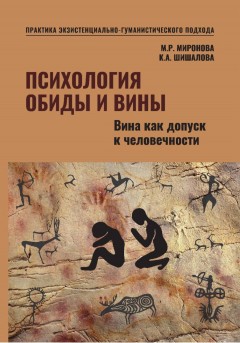
ВВЕДЕНИЕ
«Как так вышло?! Это же не я! Теперь все. Все пропало. Мне лучше уйти и жить в одиночестве. Люди так не поступают. Со мной все кончено. Это ужасно. Я чудовище. Я не знаю, что мне делать. Мне с этим не справиться. Со мной никто никогда теперь не будет общаться».
Почти каждому из нас знакомо отчаянье, когда не удается ничего сделать с вязким, изматывающим, навязчивым чувством вины, которое пропитывает все существование и не дает забыть не только о провалах, проступках, преступлениях, но и о совсем невинных промахах, неудачах, неловкостях, которые и виной-то назвать сложно. Воспоминания о них мучают, мешают спать и есть, не дают дышать, работать, добиваться успеха, чувствовать себя человеком. Они почти не тускнеют с годами, а если и блекнут, то мгновенно возвращаются во всей мучительной полноте, как только что-то напоминает нам о них. Хочется вообще никогда не испытывать этого чувства. Но, встречаясь с человеком, который не ощущает вины, мы приходим в ужас. Ведь это означает, что он может сделать все. Совсем все. Осознав это, мы перестаем считать его человеком. Значит, способность ощущать вину за сделанное – возможно, признак человечности.
Учитывая все выше сказанное, очевидно, что работа с переживанием чувства вины является существенной частью работы психолога-консультанта. Соответственно, чрезвычайно важно понять природу этого явления и определить его с практической точки зрения.
Психологические концепции нынче недолговечны – они являются отражением нашей очень быстро меняющейся реальности и требуют постоянного пересмотра. Мы предлагаем собственную концепцию вины как феномена психики в широком смысле.
Мы полагаем, что вина при нормальном течении жизни возникает у всех людей, независимо от их веры, идеологии, социального положения и возраста (начиная примерно с трех лет). Но мы живем в странное время: сейчас люди пытаются отменить собственную природу, причем успешно это делают даже для таких безусловно биологических феноменов, как пол и возраст. Что уж говорить про такой эфемерный предмет, как переживания. Как и обида, вина – очень многогранный феномен. С одной стороны, мы все понимаем, что переживание вины человеком очень выгодно обществу – без чувства вины как внутреннего регулятора поведения социум практически невозможен, потому что сложные системы не могут существовать без механизмов саморегуляции. С другой стороны, именно автоматический регуляторный характер чувства вины и вызывает резкое неприятие со стороны части современного общества. Нам неприятно чувствовать в себе встроенные механизмы, делающие нас социальными существами. В момент написания этого текста (2018–2023 год) стало модно воспринимать вину исключительно как средство манипуляции человеком со стороны других людей или со стороны общественных институтов. Соответственно, постепенно складывается отношение к вине как к проявлению несвободы и слабости человека. Многочисленные тренинги[1] учат избавляться от вины, несчетные гуру дают советы как воспитывать детей так, чтобы они никогда не чувствовали вины. Более того, в некоторых случаях мы уже можем наблюдать, к чему приводит следование таким рекомендациям. Результаты получаются разные, но независимо от этого нам кажется, что прежде, чем отказываться и навсегда изымать механизмы, существовавшие и служившие нам миллионы лет, стоит сначала получше в них разобраться. Именно этому посвящена эта часть книги.
Наша концепция является сугубо практической, основанной на анализе опыта переживания вины нашими клиентами и аналогичного собственного. Концепция создавалась с учетом уверенности в безусловной полезности и функциональности любого устойчивого и общего для всех людей психического явления.
POU STO Итак, авторы понимают вину как комплекс познавательных, эмоциональных, поведенческих, соционормативных, личностных реакций и действий, указывающих на то, что наше поведение, мысли или чувства вошли в противоречие с нормами поведения и представлениями о подобающих человеку поведении, чувствах и мыслях. Чувства, вызванные виной, и действия, которые сопровождают вину, имеют частично врожденный, частично приобретенный характер, но относятся именно к жизни человека среди других людей и к его ощущению себя человеком. Вина может проявляться на разных уровнях – в зависимости от того, какого рода нормы нарушены. Это может быть как нарушение внутренней, усвоенной, собственной нормы – тогда возникает вина перед собой, так и нарушение норм, принятых в той или иной группе (как институциональных, проявленных, так и неявных, неписаных). Во втором случае мы будем чувствовать вину перед членами нашей группы или перед группой в целом.
Вина является неотъемлемой частью механизма определения «свой-чужой», собственно состоящего из вины и обиды, и отвечает за образ человеческого внутри нас. Мы раздельно описываем вину и обиду только для того, чтобы было легче анализировать. В реальности вина и обида почти всегда «мерцают», попеременно выходя на первый план или уходя в фон. Когда мы говорим об отдельном переживании чувства вины, мы обязательно подразумеваем, что обида присутствует наряду с ней тоже. Кстати, в первой части мы упоминали, что обидчика невозможно простить и разрешить обиду, не простив себя за то, что обиделся. То есть невозможно разрешить обиду, не поработав с чувством вины, соответственно, и вину разрешить невозможно, не простив обиду.
ЧАСТЬ I. БАЗОВОЕ ОПИСАНИЕ ФЕНОМЕНА ВИНЫ
POU STO Мы отчетливо понимаем, что текст, который собираемся предложить вниманию читателей, категорически не соответствует нормам, которым, в принципе, должен соответствовать научный текст. Он никак не претендует на истинность, доказательность или просто объективность. Для этого есть несколько причин. Во-первых, вина переживается еще более неявно и скрытно, чем обида. Во-вторых, вина, на наш взгляд, гораздо более неприятна, чем обида, так как переживать ее сложнее – в ней нет того моря энергии и силы, которое есть в обиде. Соответственно, в-третьих, писать про нее существенно сложнее, а описание получается менее узнаваемым. И, наконец, в-четвертых, читать про вину будет тоже неприятно, потому что неотъемлемым свойством вины являются колебания субъектности и идентичности человека, который ее переживает, в том числе – частичная утрата того и другого. Это тяжело и страшно. Поэтому мы постараемся несколько ослабить этот эффект, увеличив количество примеров.
Схема описания вины в целом совпадает со схемой описания обиды в первой части книги:
Часть I. Базовое описание феномена
Часть II. Описание нарушения течения
Часть III. Порядок работы с виной в психологическом консультировании
Часть IV. Выход из вины
Глава 1. РАЗНОВИДНОСТИ ВИНЫ
Мы считаем, что существует несколько основных разновидностей обычной вины. Мы постараемся коротко описать каждую из них и привести примеры.
• вина за целенаправленное действие или отказ от действия;
• вина за невольное действие, ошибку;
• вина за неподобающие мысли, чувства и желания;
• родительская и детская вина;
• вина перед собой.
Мы сознательно берем достаточно нейтральные примеры и стараемся избегать описаний жестокостей и трагедий, потому что работа с такими переживаниями трудно поддается описанию и восприятию. На корректное, технически достоверное и многогранное описание каждого из таких случаев потребуется целая книга, а воспринимать концепции, стратегию, тактику и техники работы будет трудно из-за эмоций.
Мы имеем в виду классическую ситуацию, когда человек совершает действие или отказывается от его совершения, имея на то осознанные, обдуманные причины. И в результате испытывает чувство вины.
Диалог «ИВЛ»
Клиентка, 22 года, медсестра.
Психолог: Ты что такая грустная?
Клиентка: Да неуютно как-то мне, нехорошо я поступила со Славиком.
Психолог: А что сделала?
Клиентка: Я сказала ему, что мы не пара, что нам надо расстаться, что мы друг другу не подходим.
Психолог: Ооо, решилась? Ты же вроде давно собиралась?
Клиентка (задумчиво): Собиралась. Но все равно нехорошо. Чувствую, что поступила с ним плохо.
Психолог: Ну расскажи подробнее, в чем плохо?
Клиентка: Ну он обиделся, не ожидал, расстроился ужасно. Я прямо себя каким-то чудовищем почувствовала. Но не могу я с ним жить. Скучно мне! Тоскливо!
Психолог: Да, мы с тобой много про это говорили, имеешь право.
Клиентка (сердито): Что мне с этого права? От этого не легче.
Психолог: Ты злишься, что ли, на кого-то?
Клиентка (сникая): Да нет, но прямо больно как-то. Как вспомню, как он весь поник… Я себя такой виноватой ощущаю. Но я же сделать все равно ничего не могу? Мы же оба несчастливы… Все время ссоримся… У нас так мало общего, мы хотим разного…
Психолог (сочувственно): Тебе легче от этих объяснений и оправданий?
Клиентка: Да не особо.
Психолог: Ну да. Получается – его горе против твоей тоски. Выбор – так себе. Но кто-то ж должен был его сделать.
Клиентка (горячо): Да понимаю я. Но я как будто человеку кислород перекрыла, собственной рукой.
Психолог: Слушай, ну ты же не ИВЛ[2]!
Клиентка: Я знаю! А чувствую себя… как… аппарат… еще и неисправный (всхлипывает).
Диалог «Плохая хозяйка»
Клиентка (энергично): В доме шаром покати. Я вообще расслабилась. Как одна жить стала – вообще не готовлю.
Психолог: Ну и что?
Клиентка: Да нехорошо это.
Психолог: Ты голодная ходишь?
Клиентка: Нет. В кафешках перекусываю, готовое покупаю.
Психолог: В проверенных местах? Со здоровьем все в порядке?
Клиентка: Конечно, в проверенных. Что я, враг себе, что ли?
Психолог: Тогда что нехорошо?
Клиентка: Ну… нехорошо для женщины вообще не готовить. В доме должна быть еда. Иначе это не дом. А так, гостиница.
Психолог: Ты виноватой себя чувствуешь?
Клиентка: Да, похоже. Получается, что, если я не готовлю, – я в доме не хозяйка.
Психолог: Интересно…
Клиентка: Вот именно. Мне эта еда домашняя – не нужна. А на ночь вообще есть вредно. Но все равно – как вижу пустые полки в холодильнике, как-то тоскливо становится, и кажется, что живу неправильно. Как будто предаю кого-то.
Психолог: Да, очень на вину похоже. Тяжело!
В описанных двух примерах все достаточно ясно. Человек совершает осознанные целенаправленные действия – сообщает своему парню, что хочет разорвать отношения, или отказывается от бессмысленных трудозатрат по приготовлению пищи – и ощущает вину, потому что эти действия кажутся ему плохими. И в том, и в другом случае действия выглядят вполне обоснованными, оправданными. Но люди все равно чувствуют себя виноватыми. Исходя из нашей концепции, это свидетельствует о том, что эти действия нарушают какие-то нормы, которые герои диалогов не вполне осознают.
ВВЧ: Как вам кажется, какие нормы могли быть нарушены героями диалогов?[3]
Этот вид вины знаком нам всем, он не требует особого представления. В памяти каждого из нас хранятся десятки и сотни таких случаев. Некоторые из них служат нам предостережением, позволяют изменить свое поведение, опираясь на знание об ошибке. Но большинство таких воспоминаний повисают грузом, вспоминаясь разом при каждой новой ошибке или неловкости.
Иногда количество переходит в качество и мы закрепляем в своем образе «я» характеристики «неловкий», «нелепый», «невнимательный», что, безусловно, влияет на наше поведение и самочувствие.
Диалог «Груз вины» (подслушано в метро)
Двое мужчин разговаривают в вагоне метро. Один слегка спотыкается о сумку другого, которая стоит на полу.
Первый: Ты что, блины от штанги домой из зала тащишь? Что там у тебя?
Второй: Консервы собаке купил.
Первый: А чего сам возишь? Доставку чего не заказал?
Второй: Да нет там доставки, это супер-пупер магазин, самые дорогие консервы, там больше двух банок обычно не покупают.
Первый: Балуешь ты своего барбоса!
Второй: Да… Это я вину загладить пытаюсь. Представляешь, тут мы с ним играли, я как-то так неудачно кольцо резко из пасти дернул, он аж заскулил… Видать, не рассчитал я силы. Он потом до вечера еще поскуливал, есть отказывался, я его к ветеринару свозил – тот сказал, что ничего страшного, чуть потянул связки, видимо, но я себе простить не могу. Вот же ж.…! Вот теперь везу вкусняхи, извиняюсь. С потянутыми связками их есть легче.
Первый: Даа, собачник – это диагноз!
ВВЧ: Как, по вашему мнению, изменилось состояние хозяина собаки после его рассказа? И почему вы так думаете?
Эта разновидность вины обычно очень смешивается со стыдом (existedu.ru) [1]. Иногда единственным признаком вины является желание извиниться за неподобающие, никому не видимые мысли, чувства и желания, покаяться в них и даже искупить вину.
Диалог «Лего-ярость»
Психолог: Ты что такой замученный?
Клиент: Плохо спал сегодня.
Психолог: А что так, случилось что-то?
Клиент (мрачно): Нет, не успело. Но осадок все равно остался.
Надолго замолкает.
Психолог (после паузы): Расскажи подробнее, так непонятно.
Пауза.
Клиент (решившись, говорит сначала быстро и громко): Представляешь, вчера прихожу домой, уставший, в прихожей все разбросано, у малого одежда на полу лежит, ступить некуда. Я стал ботинки снимать, тапки искать и наступил на кусок лего. Видимо, малой своего очередного робота в прихожей бросил. Боль такая, что в глазах потемнело. Я аж заорал! И мысль такая – найду, убью!!! (Почти кричит.) Весь лего в окно выкину, к чертям, к… … …!!!
Психолог: Ну понятно, в ярости был.
Клиент (с горечью): Да ничего тебе не понятно, я реально его убить хотел. А если не убить, то так больно сделать! Мне хотелось, чтобы его проняло. Я прямо представлял себе, как я весь этот лего собираю и в мусоропровод! А он орет, рыдает и за ноги хватает… Вот тогда бы он понял.
Психолог сочувственно молчит.
Клиент: Аж в жар бросает, даже от одних воспоминаний.
Психолог (сочувственно): Да… И как же ты сдержался-то?
Клиент (усмехаясь): Слушай, повезло – телефон зазвонил… Если б не звонок этот дурацкий, точно бы что-то плохое сделал.
Психолог (грустно): Ну хоть на что-то телефон сгодился. А дальше что было?
Клиент (тяжело вздыхает): Да ничего особенного. Позвал малого, наорал на него. Но как вспомню это ощущение … так вздрогну. Когда хотелось, чтобы ему больно было. Его ж реально только телефон спас. Я на него потом глаз поднять не мог весь вечер. Мне казалось, он знает, что я только что его убить готов был. Не знаю, что делать теперь. Может еще лего купить?
Психолог: Ты виноватым себя чувствуешь? За то, что разозлился так? Искупить вину хочешь?
Клиент: Похоже на то. Я ведь понимаю, что ничего не сделал. Но не сделал по чистой же случайности!
Психолог: Хорошо, что повезло. Погоди лего покупать. Давай сначала разберемся, почему ты так в ярость впадаешь.
Диалог «Осадочек» (подслушано в кафе)
– Ты знаешь, я так себя неловко чувствую. Такая неприятная история в офисе была.
– А что случилось?
– Да ты понимаешь, зарядка для телефонов пропала, ну такая, с кучей выходов и проводов. На ней вечно все висели, никто свои зарядки уже и не носит в офис.
– И что, у всех гаджеты сели?
– Ну конечно. Дома ночью врачи теперь не разрешают заряжаться, говорят, вредно это. В какой-то момент все начали подходить со своими телефонами. А тут – нету зарядки. И никто не признается, куда подевалась. Мы уже к соседям сбегали – тоже нет. Я, грешным делом, на новенькую сотрудницу подумала. Девчонка – молоденькая совсем. Кто эту молодежь знает! Может домой взяла и не вернула. И она как раз в тот день не пришла. Мысленно я уже ее всю изругала, спасибо, что не вслух. Потому что потом приходит начальник к обеду и приносит эту зарядку. Это он ее, оказывается, вчера к себе домой забрал – что-то там случилось у него. И мне так неловко стало перед этой девчонкой.
– Вот! Я всегда говорила: хорошая привычка – не ругать человека за глаза вслух!
– Да, если бы вслух, так вообще бы сквозь землю провалиться! И так не знаю, какими глазами на нее смотреть буду, когда она с больничного выйдет.
Несмотря на то, что в обоих случаях ничего плохого не случилось, никаких действий, за которые можно было бы испытывать вину не произошло, люди все равно чувствуют себя виноватыми. И в данном случае мы еще выбрали достаточно безобидные примеры. Чувство вины, которое возникает у нас, когда мы хотим чего-то запретного – чужого партнера, чужую собственность, желаем смерти родственникам, которые могут оставить нам наследство или просто мешают жить, – может быть очень сильным, даже если мы никак не проявляем свои запретные желания. Такие мысли приходят к большинству из нас довольно часто, соответственно регулярно становятся темой обсуждения с психологом. К тому же получить поддержку и сочувствие окружающих с такой виной маловероятно, потому что таким чувством вины очень сложно делиться с другими – его сложно объяснить, и в нем очень тяжело признаваться.
ВВЧ: Случалось ли вам ощущать себя виноватым за осознанные, но не осуществленные, желания, мысли или чувства? Как вам кажется, нарушением какой нормы были ваши неподобающие внутренние действия?
Вина перед близким человеком почти всегда отличается особой силой и глубиной, а также запутанностью и сложностью. В близких отношениях четких норм поведения мало, а те, что есть, постоянно подвергаются проверке и изменениям, потому что близкие отношения растут и развиваются. В детско-родительских отношениях это особенно заметно. Правила поведения между детьми и родителями пересматриваются очень часто в силу того, что дети растут, быстро и сильно меняются, а также потому, что в родительско-детские отношения естественным образом включено все общество, со всеми своими институтами. В наше время семья фактически перестает быть закрытой, замкнутой. Государство и общественные институты все серьезнее вмешиваются в жизнь семьи. При этом не существует сколько-нибудь ясных подходов к воспитанию и даже к образованию детей. Многообразие взглядов на цели и способы воспитания детей в семье, на роль родителей в этом процессе, на должное и недолжное в отношениях детей и родителей дезориентирует и родителей, и детей. А возможность реализовать фактически любой подход приводит к возникновению самых разных ситуаций и большому количеству вины с обеих сторон.
Диалог: «Доверяй, но проверяй»
Психолог: Ну что, наладили вы систему поощрений-наказаний за оценки?
Клиент (мнется): Слушай, да не нравится мне что-то эта система.
Психолог: А что так?
Клиент (ерзает в кресле): Да как-то как будто я ему не доверяю, и вообще как-то неудобно.
Психолог: Что-то ты темнишь…
Клиент (вздыхая, не поднимая глаз): Ну вот смотри, мы договорились, что если у него пятерки всю неделю, то в субботу мы идем в веревочный парк. Ну вот, он принес все пятерки в дневнике, мы пошли в веревочный парк, а потом я смотрю по электронному журналу, что у него там и тройки есть, и пятерок не столько, сколько в бумажном дневнике. В общем, путаница какая-то подозрительная.
Психолог: То есть воспользовался ситуацией, обманул?
Клиент (вздыхая): Ну да, так получается.
Психолог: И как ты среагировал?
Клиент: Да вот тут странно как-то. Я так растерялся. И говорю: «Как же ты так? Я же тебе верил!» А он говорит: «Ты ж хотел, чтобы в дневнике были все пятерки, вот я и принес в дневнике – все пятерки». Я себя таким идиотом почувствовал! Мне даже не разозлиться, я себя чувствую виноватым, что поставил его в такие условия, которые он мог выполнить только таким образом.
Психолог: Притормози, притормози! Уже и я теряюсь. Почему это он мог выполнить их только так?
Клиент (упрямо): Я понимаю, что все это выглядит странным, но я себя чувствую виноватым. (Пауза.)
Психолог: Ну еще что-нибудь скажи, а?
Клиент (с болью): Я сам его поставил в такие условия, что он меня обманул. Как мне теперь ему доверять? (С внезапной яростью.) А все ты! Все штучки твои психологические!
Психолог: На него злиться не можешь, а на меня можешь?
Клиент (отвернувшись): Я тебе деньги плачу, ты меня не бросишь.
Психолог (твердо): Не брошу.
Клиент: Ну вот! А он обидится и меня возненавидит. Я его потеряю. А он у меня один. И я буду виноват.
Психолог: Ну наверное будешь, но не ты один. Скажи, пожалуйста, а если бы ты не узнал, что он тебя обманул, все нормально бы было?
Клиент (неуверенно): Ну да, если бы я не узнал, то он один бы был виноват. А теперь я знаю, и тоже должен что-то сделать, и буду виноват.
Психолог: Да, вот странно. Если мы что-то теряем, то сразу нужно что-то делать. В данном случае слепую веру потеряли и сразу надо что-то делать. Или все уже сделано? Поэтому виноват?
Клиент (неуверенно, с нарастающей горечью): Ну да, все же хорошо было, я считал, что он мне не врет, а теперь что? Я что, теперь должен ему не верить? Я вруна воспитал?
Психолог (со вздохом): Разберемся.
ВВЧ: Как вам кажется, нарушение какой нормы вызывает у отца чувство вины?
Мы не будем опять отсылать читателей к приложению за нашим мнением и сразу признаемся, что считаем, что родитель нарушил внутреннюю норму «совершенного родительства»: «Всегда и во всем доверяй ребенку». Большинство родителей обнаруживает в себе эту норму – кто раньше, кто позже. Разрушаясь, эта норма оставляет нам глубокое чувство вины, а потом еще и стыд, и нарушение самооценки. Не доверяя ребенку, мы довольно часто чувствуем себя «плохими родителями». А иногда в стремлении искупить эту страшную вину действуем еще более неосмотрительно.
Родительская вина довольно часто выглядит иррациональной, если не сказать глупой – родителю трудно не только ее подробно описать, но даже и осознать. Работать с ней непросто, в частности, потому что очень сложно добраться до правил, нарушение которых вызывает родительскую вину. Эти правила составляют, по сути, ядро субличности «родитель» (Э. Берн, К. Юнг) [14, 64], которая, в свою очередь, является одним из столпов системы самоидентификации, фактически одной из важнейших опор в жизни человека.
Понятно, что даже просто попытки осознать, описать, объяснить такие глубинные структуры уже вызывают сильнейшее сопротивление и массу эмоций. А если предполагается изменение взглядов родителей на то, что, когда и зачем необходимо делать в отношении детей, то можно ожидать самой резкой реакции родителя – от агрессивного нападения на советчика до депрессивного эпизода – в результате глубочайшего чувства вины и растерянности. Дело осложняется тем, что «Родитель» есть у каждого из нас лет с пяти, соответственно собственным мнением относительно любого действия реального родителя обязательно обладает буквально каждый человек.
Диалог «Двойка» (воспоминания из нулевых)
Психолог: Слушай, ты можешь объяснить, чего ты из дома ушел?
Клиент (мальчик, 14 лет): Нуу… так… не захотелось домой идти…
Психолог: А чего не захотелось?
Клиент: Не захотелось и все.
Психолог: И куда пошел?
Клиент: За гаражи.
Психолог: А потом?
Клиент: Ну там, покантовался до вечера, потом в подъезде ночевал.
Психолог: В своем?
Клиент: Не, вы что! В соседнем доме.
Психолог: А слышал, что родители тебя искали?
Клиент: Ну слышал.
Психолог: А чего не вышел?
Клиент: Ну боялся.
Психолог: Родителей боялся?
Клиент: Ну да.
Психолог: Они что-то плохое тебе обещали?
Клиент: Ну да. Батя обещал прибить на месте, если контрольную не сдам. А я пару получил.
Психолог: Тебя отец часто бьет?
Клиент: Нуу… не знаю.
Психолог: Когда в последний раз это было?
Клиент: Да не знаю, в классе в третьем, наверное.
Психолог: То есть нечасто? Ты сейчас в седьмом?
Клиент: Не знаю, в каком. Был в восьмом.
Психолог: То есть отец тебя уже несколько лет не трогал?
Клиент: Ну да. Но за контрольную точно убил бы. А потом еще и за то, что я дома не ночевал.
Психолог: Почему за эту контрольную убил бы?
Клиент: Он сказал, что в репетитора столько денег ввалил, что только дебил не сможет написать. А ему сын-дебил не нужен. А я двойку получил. Ну и зачем ему такой сын?
Психолог: Ты обиделся на него?
Клиент: Нет.
Психолог: Слушай, ты четыре месяца на улице жил, сам мне рассказывал, как в мусорных баках ночевал и от панков бегал. Неужели все оттого, что боялся отца?
Клиент: Вы что, не понимаете? Я его подвел! Зачем ему такой сын…
Психолог: А когда родители тебя нашли, что он сказал?
Клиент: Ничего, плакал только.
ВВЧ: Чем, на ваш взгляд, отличается детская вина от вины родителя? Чем похожа?
Эта разновидность вины вовсе не является признаком принадлежности к исключительно высокоинтеллектуальным и высокодуховным людям. Она встречается сплошь и рядом, независимо от уровня образования, счета в банке и даже возраста, проявляясь чаще всего в виде самонаказания. Говоря о самонаказании, мы имеем в виду не только очевидные его формы, такие как самоповреждение, нанесение себе увечий, ран, жестких ограничений в еде, лишение себя отдыха, бесконечная ругань в свой адрес. К самонаказанию можно отнести и гораздо менее заметные самоограничения, которые можно описать словами «лишение себя радости».
Диалог «Сон о крыльях»
Психолог: Ну что ты делал в выходные?
Клиент (вяло): Ну что, ну поработал, дом убрал, продукты заказал и принял. Все по местам расставил, кино посмотрел.
Психолог: Какое?
Клиент: Да не помню я. Я вообще кино не люблю.
Психолог: А зачем смотрел?
Клиент: Ну чем-то надо было себя занять, не «Дом-2» же смотреть! Иначе такая тоска навалится.
Психолог: Да, впечатление такое, что выходные удовольствия тебе никакого не доставили.
Клиент (понуро): Какое уж тут удовольствие. Вискарь в субботу вечером, и то не знаю, зачем. Оглушает только.
Психолог: Слушай, а что, в этой жизни вообще тебе ничего удовольствия не доставляет?
Клиент (вяло): Ну работа.
Психолог: Просто море энтузиазма у тебя по поводу работы.
Клиент (несколько собираясь): Ну знаешь, еще ты издеваться будешь. Работа меня хоть как-то удерживает от того, чтобы каждый день пить.
Психолог: Хорошо, что удерживает. Но всю жизнь на привязи ты же не сдюжишь. Кроме страха спиться у человека должно быть хоть что-нибудь, чтобы жить. Жизнеутверждающее, причем.
Клиент (раздраженно): Глупости это все.
Психолог: Да и пусть глупости. Для разнообразия поговорим и о пустяках. Тебе когда-нибудь что-нибудь удовольствие в жизни доставляло?
Клиент (долгая пауза): Когда-то спортом занимался. Подавал большие надежды. Чемпион, блин.
Психолог: Расскажи.
Клиент: Да нечего рассказывать, обычная история. Я боксом занимался. На городских соревнованиях побеждал. Мне нравилось, я прям летел туда. Родители спокойно к этому относились – побеждаешь – и молодец, по улицам не бегаешь, и хорошо! А потом меня тренер на первенство России повез. Я там место занял. И мне предложили переехать в Москву и там в спортивной школе учиться. А я отказался. Я даже родителям не сказал.
Пауза.
Психолог: А дальше что было?
Клиент: Да забросил… Как-то неинтересно стало. Как посмотрю на перчатки, даже противно становится. Ну просто бросил. (Пауза.) Но мне иногда до сих пор снится, что я на соревнованиях, и передо мной соперник… И меня переполняет азарт, я чувствую, что я все могу, как будто крылья за спиной разворачиваются. (Пауза.) Я же говорю – глупости это все…
Психолог: Это не глупости. Это вдохновение.
Клиент (со злостью): Глупости! В нормальной жизни вдохновения никакого нет! Работа есть, обязательства, на крайняк – интернет, чтобы отвлечься. (Пауза. Закрывает лицо руками, с болью говорит): Вот зараза, всю душу разбередил!
ВВЧ: Как вам кажется, какую норму нарушил человек из этого диалога? За что он винит себя?
Наверное, разновидностей вины больше. Мы описали те, с которыми сталкиваемся чаще всего. По мере того как будет меняться наш мир, нормы поведения, а главное – правила объединения людей в группы своих, – будут меняться и наши переживания. Какие-то разновидности вины будут угасать и исчезать, какие-то появляться. Но, как нам кажется, они все же будут похожи на описанные выше.
В первой части, описывая феноменологию вины, мы постараемся дать базовое описание «простой» вины, связанной с вольными или невольными действиями (бездействием), нарушающими нормы общежития. Более сложные, неочевидные разновидности вины мы подробнее опишем тогда, когда разберемся с простыми. В главе «Особые виды вины» мы представим вину за утрату, вину выжившего, вину за отсутствие всемогущества, вину за существование, вину за особую телесность, вину за чужое страдание.
Глава 2. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИНЫ
В отличие от обиды, ситуации вины издавна обдумывались людьми и даже описывались в документах. Первый дошедший до нас письменный документ, фиксирующий вину и санкции за нее (Кодекс Хаммурапи), был написан почти 4000 лет назад. Обиды люди так подробно не описывали. Мы считаем необходимым упомянуть здесь не только условия возникновения, но и основные ситуации вины. Именно вследствие скрытого характера протекания вины, иногда ее можно опознать только по ситуации, в которой возникают неприятные тяжелые переживания, странное поведение или необъяснимые эмоции, сопутствующие вине (гнев, обида, страх, и т. д.).
1. Ситуации осознанной вины:
• Причинение ущерба или вреда «своим» (тем, кому присвоен этот статус).
• Нарушение договоренностей.
• Нарушение законов, правил или этикета (писаных, неписаных, существующих не для всех).
• Ошибка, в том числе, ошибка ожиданий.
2. Ситуации, вызывающие вину автоматически:
• Обвинотрицание конение комфортной, привычной или приличной дистанции взаимодействия.
Вольное или невольное причинение ущерба, нанесение вреда своим – тем, кто наделен этим статусом
В этой простой формулировке содержится целый ряд достаточно неочевидных моментов.
Начнем с определения, что такое ущерб или вред. Иногда это сделать просто – если ущерб явный. Но иногда для определения ущерба требуется экспертиза.
Возьмем, к примеру, всем известную ситуацию: мы поцарапали чужую машину. Вина возникнет в любом случае. Она будет с оттенком досады, если мы сделали это невольно, она может сопровождаться обидой или гневом, если мы сделали это в отместку или от злости. А вот размер ущерба и, соответственно, сила переживания вины зависит от того, была ли машина застрахована. Осознание того, что ремонт оплатит страховая компания, обычно существенно облегчает наши переживания (если вред был нанесен случайно).
Как правило, у нас не возникает вины в отношении тех, кто не является «своими». Но часто само определение «своих» расширяется, и мы причисляем сюда не только людей, но и животных, растения, любимые предметы, объекты природы, исторические памятники, целые города и страны, а также исторические события – и в этом смысле, это все «наше». Вина за то, что мы потоптали красивую клумбу или вовремя не накормили собаку, может быть ничуть не меньше, чем вина перед человеком, которому мы вольно или невольно навредили.
В данном случае нарушенная норма чаще всего формулируется так: «Человек не должен причинять ущерба своему окружению».
Нарушение договоренностей
Нас всех учат, что слово человека должно быть нерушимо, и это понятно, потому что кооперация и вообще любое взаимодействия невозможны в социуме, где договоренности ничего не стоят. Для того, чтобы жить, мы должны строить планы. Совместные планы требуют определенных долгосрочных договоренностей между людьми. Мы так устроены, что спланированное, но еще не наступившее будущее, мы ощущаем уже принадлежащим нам. Когда кто-то нарушает договоренности и разрушает наши планы и представляемое будущее, мы переживаем существенную утрату, как если бы потеряли часть собственности или себя. План ощущается частью личности, являясь феноменом веры как общепсихического явления. (existedu.ru) [1]. Поэтому у нас у всех огромный опыт переживания горя и обиды от разрушенных планов. Каждый родитель с содроганием вспоминает многочисленные детские «ты же обещал!» Каждый ребенок (включая давно выросших) помнит свои горькие слезы, когда родители не держали обещания.
Поэтому нарушение договоренностей обоснованно считается серьезным нарушением правил общежития и является одновременно ситуацией и осознанной, и автоматической вины. Нарушая данное слово, мы ощущаем вину, даже если у нас были железобетонные основания, чтобы его нарушить. В данном случае норма, запрещающая нарушать договоры, зафиксирована даже в поговорках: «Уговор дороже денег», «Назвался груздем – полезай в кузов» и так далее, и так далее.
Нарушение законов, этикета или правил (писаных, неписаных, существующих для всех и не для всех)
Законы, этикет, протоколы поведения, правила – это все зафиксированные договоренности. В нашем обществе все эти правила обычно записаны и ознакомление с этими правилами считается ответственностью каждого зрелого члена общества. Но это не всегда одинаково просто. Некоторые законы и правила описаны в книгах и подлежат изучению. Например, уголовный и гражданский кодекс или правила движения.
Другие такие фиксированные договоренности передаются в устной форме, например, правила поведения за столом или правила игры в пятнашки. Хотя в теперешней ситуации существует огромное количество видеоматериалов, иллюстрирующих то или иное правило. У неписаных правил есть огромное количество нюансов относительно ситуаций, где они применимы, и строгости их соблюдения. Например, известно, что воспитанный человек не облизывает тарелку, но даже самый воспитанный человек делает это в одиночестве (или если ему лень мыть посуду). Самые большие сложности возникают в отношении правил, которые принимаются не всеми. Обычно это относится к разного рода этикетам. Возьмем, к примеру, правила прохода в дверь, существующие в разных культурах. Еще совсем недавно везде в Европе было принято, чтобы мужчина открывал перед женщиной дверь, даже если они не знакомы. Сейчас это правило в России соблюдается уже не очень жестко, хотя все же приветствуется[4], а, например, во Франции от этого правила отказались уже достаточно давно. И мужчина-француз, приехавший в Россию, может выглядеть невежливым, выполняя правила своего французского этикета. Если ему сообщить, что он нарушает правила этикета, то он будет удивлен, возмущен и, скорее всего, почувствует вину.
В нашей практике была работа с супружеской парой, в которой вопрос, кто первый проходит в дверь, был причиной постоянных ссор. Люди часто очень серьезно относятся к усвоенным правилам поведения и считают их не только верными, но и лучшими из возможных. Иногда правила поведения становятся опознавательными знаками, свидетельствующие о том, что имеем дело со своими или чужими. Довольно часто манера держать столовые приборы, здороваться при встрече, оплачивать покупки становится непреодолимым препятствием между людьми. Чувствовать себя чужаком никому не хочется, поэтому чаще всего, нарушив даже чужое, совершенно неизвестное нам правило, мы ощущаем вину, которой часто сопутствует стыд. Например, если в спортзале, мы, ни о чем не подозревая, простодушно перешагнули через лежащую штангу, на нас обернутся все присутствующие здесь тяжелоатлеты, а тренер скажет: «Не делай так, так не принято, это – плохая примета». Мы знать не знаем, что это за примета и какое правило мы нарушили, но после этого инцидента некоторое время будем чувствовать себя виновато и неудобно. Если мы хотим быть «своим» среди этих внушительных спортсменов, то не забудем об этом странном правиле. Но если мы отнесемся к нему несерьезно – как к глупости, суеверию, то с нами, скорее всего, не будут общаться в этом сообществе, посчитав это признаком неуважения. Норма, фиксирующая необходимость соблюдать правила и уважать правила, тоже закреплена в поговорках. Например, «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», «Перед законом все равны», «Гость хозяину не указчик», «Безобычному человеку с людьми не жить» и так далее. Интересно, что мы будем переживать вину даже в том случае, если не согласны с правилом, которое нарушили. Правила – настолько важная вещь для человека, что, обнаружив чужое правило, с которым мы не согласны, мы довольно часто стараемся его уничтожить и заменить на свое. Совершить эту замену нам почему-то представляется делом более легким, чем постоянное переживание вины.
Диалог «Бабушкина чашка»
Хозяин (гостю): Пойдем чай пить.
Гость: О, какая чашка! Как раз мой размерчик!
Хозяин: Возьми, пожалуйста, себе чашку вон из того шкафчика.
Гость: Да я уже взял, не беспокойся.
Хозяин: Слушай, это бабушкина, она не любит, когда ее берут. Возьми лучше там.
Гость: Да ладно, я потом вымою и на место поставлю, она и не заметит.
Хозяин: Слушай, не надо брать бабушкину чашку, если она заметит, она расстроится.
Гость: Так не заметит же!
Хозяин молча берет бабушкину чашку и убирает глубоко в шкафчик. Достает гостю другую.
Гость: Вот же люди себе проблемы выдумывают, какая разница, из чего пить!
Хозяин (резко): Если тебе без разницы – пей из этой!
Гость: А чего я такого сказал? (Продолжает бубнить) Напридумывали тут всяких дурацких правил…
ВВЧ: Чем, на ваш взгляд, вызвано странное упорство гостя? Что испытывают хозяин и гость?
Ошибка, в том числе ошибка ожиданий
Значение слова «ошибка» достаточно многообразно. Мы остановились на следующих:
• непреднамеренное случайное отклонение от правильных действий, поступков и мыслей;
• разница между ожидаемой (или измеренной) и реальной величиной.
Практически всегда мы говорим «ошибка», когда получилось не совсем то, что мы задумывали. Или совсем не то. Или, когда последствия наших действий оказались не теми, которые мы планировали.
Никому не нравится ошибаться. Хотя ведь это странно – каждая наша ошибка является источником знаний, добавляет что-то к реальной картине мира. Но все же нам очень неприятно сталкиваться с тем, что мы ошиблись в расчетах, чего-то не учли, невовремя отвлеклись или выбрали неверный источник информации. В тех случаях, когда мы считаем, что ошибок быть не должно, – мы испытываем вину за ошибку. К сожалению или счастью, мы почти всегда считаем, что ошибок быть не должно, и при этом почти всегда допускаем ошибки. На этот счет тоже существует множество поговорок. Самая известная – латинское изречение «Errare humanum est» («Человеку свойственно ошибаться»). Ошибка – в природе человека. Не ошибаться – это фактически идти против своей природы. Сила переживания вины прямо пропорциональна нашей уверенности в том, что мы были правы, фактически прямо пропорциональна силе ожидания. Видимо, в данном случае переживание вины связано с тем, насколько мы полагаемся на верность своей картины мира. Возможно, где-то глубоко внутри мы считаем, что очень опасно иметь неверные представления о том, каков мир вокруг. Вина в данном случае есть наказание за беспечность, за недостаточно тщательное исследование мира вокруг и нашего взаимодействия с ним. Вина за ошибку напоминает, что продумывать, просчитывать, планировать действия, а потом тщательно и внимательно их выполнять – важно для выживания. Недаром самостоятельно найденная ошибка вызывает не только вину, но и победный восторг. Некоторым это настолько нравится, что они занимаются поиском ошибок профессионально (аудиторы, например, или контроллеры газового оборудования).
Если бы у нас не было страха совершить ошибку, мы бы все делали небрежно и, наверное, не выживали бы. Люди, совсем не боящиеся ошибок, редко делают свою работу хорошо. Но те, что постоянно чувствуют вину за любую, даже самую незначительную ошибку или за ту, что невозможно предвидеть, часто вообще ничего не делают, потому что знают, что все равно ошибутся и будут страдать от вины. И так нехорошо, и так плохо. С этой разновидностью вины, испытывать которую мы обречены каждый раз, когда что-то делаем (выступаем в качестве субъекта), приходится сживаться и дружить.
ВВЧ: Как вам кажется, какую цель имеет смысл ставить, пытаясь избавиться от вины за ошибку?
Обвинение явное и неявное
Обвинение является более частным случаем гораздо более общего социального действия – осуждения и вообще оценки. Автоматический характер реакции на осуждение и на оценку люди заметили достаточно давно. Призыв «не судить» закреплен даже в библейских заповедях. Собственно, автоматическая реакция на оценку, которая ярче всего описана в концепции ненасильственной коммуникации М. Розенберга [48], и навела нас когда-то на мысль о неизбежности возникновения вины, обиды и об их несомненной важности, более того – об их регуляторной функции в общении людей.
Обвинением мы будем считать негативную оценку действий человека, его поведения, последствий его действий, в которой содержится указание на неправильность, незаконность этих действий и в которой причиной всего происходящего объявляется человек, в полной мере обладающий субъектностью. Субъектность в данном случае предполагает возможность и способность человека влиять на происходящее.
Обвинения всегда опираются на некую норму, общую для обвиняемого и обвинителя. Если у обвиняемого нет понятия об этой норме, он с ней не согласен или не считает обвиняющего «своим» – чувство вины не возникает.
Явное и неявное обвинение автоматически вызывает у человека, которого обвиняют, переживание вины. Это переживание возникает даже в том случае, если мы точно знаем, что не виноваты. Более того, иногда абсурдное обвинение может оставить глубокий след в жизни человека, вызвав иррациональную вину на долгие годы. Можно даже сказать (со всеми возможными оговорками), что чем более абсурдно и расплывчато обвинение, тем дольше и глобальнее переживание вины. Потому что очень трудно оправдаться, когда обвинения непонятны, сложно получить поддержку у группы, потому что стыдно делиться такими «глупыми» переживаниями, их трудно объяснить и невозможно забыть, по закону незавершенного гештальта.
Диалог «Друзья» (телефонный разговор)
Первый: Привет! Слушай, ты завтра за рулем? Мне надо материалы для ремонта с базы забрать, а у меня машина в сервисе. Можешь выручить?
Второй: Привет, слушай, завтра у меня день вообще сумасшедший, боюсь, что не получится. Давай в другой день? Или Серегу попроси.
Первый: Я Серегу уже просил. Он тещу на дачу везет.
Второй: Ну я даже не знаю, может, тебе доставку заказать?
Первый (расстроенно): Ты что, меня за идиота держишь? Я про доставку все понимаю, но это лишние деньги, а главное, весь день на привязи сидеть, в ожидании. Вот же елки-палки, друзья называются, никого ни о чем нельзя попросить!
Второй (виновато): Ну что ты сразу? Ну не получается у меня, ты б хоть раньше позвонил, я бы поменял что-то.
Первый: Ну как Серега отказался, так сразу и позвонил. Ладно, позвоню брату, если с друзьями не получается, то, может, хоть родственники помогут.
Второй (расстроенно и виновато): Ну извини, ну никак!
Первый: Да ладно оправдываться-то. Толку от твоих оправданий…
Очевидно, что тому, кого попросили помочь, не в чем оправдываться. Он действительно не может, и обвинения в том, что он плохой друг – в данном случае абсурдны: он не отказывался помочь, он искал варианты, проблема была не очень серьезная, и т. д. Тем не менее обвинение в том, что он плохой друг, автоматически вызвало чувство вины и соответствующее поведение. Возможно, это переживание скоро растворится, а, может быть, подвигнет его на какие-то действия компенсирующего характера. Например, в следующий раз, когда этот друг его попросит о помощи, он бросит все свои дела и кинется помогать или сразу возьмет на себя его расходы. А может быть, как-то по-другому будет доказывать, что он хороший друг.
В данном случае мы имели дело с явным обвинением, хотя и не очень жестким. Существует достаточно много разновидностей неявных обвинений, которые порождают еще более токсичные виды переживаний, потому что они уже практически полностью отрываются от уровня реальности и действий. Часто эти обвинения начинаются со слов «всегда» или «никогда», или содержат какие-то обобщенные характеристики личности или поведения: плохая мать, непорядочный человек, нечестный поступок и т. п. Эти характеристики, как правило, существуют отдельно от реальности, только в сфере сознания человека и людей. Соединять их с реальностью приходится посредством долгой и нудной конкретизации. Изжить такую обобщенную вину очень сложно, потому что сложно определить, в чем именно состоит неправильное действие, каковы его последствия и кто пострадал.
Описывать отдельно виды неявного обвинения бессмысленно, потому что в этой роли может выступить любое отстраняющее действие с неявным мотивом (игнорирование, бойкот и т. п.) или оценочное высказывание. Главное, чтобы там содержалось негативная оценка действия человека с указанием на незаконность его поведения.
ВВЧ: На нарушении какой нормы было основано обвинение в диалоге «Друзья»? Есть ли различие в понимании этой нормы участниками диалога?
Вольное или невольное «незаконное» влияние на других людей или события
Термин «влияние» пояснений не требует. Он и так понятен в своей абсолютной неопределенности. Более того, если немного подумать, нам становится ясно, что мы постоянно влияем друг на друга и избежать влияния невозможно, это очевидно. Но вслед за признанием факта влияния друг на друга возникает вопрос о последствиях и ответственности за это влияние. И здесь сразу все становится запутанно, неясно и зыбко. Возникают десятки вопросов: За что мы отвечаем? Только ли за осознанные и целенаправленные действия? Или последствия невольных действий тоже является нашей ответственностью? Что такое «невольное действие»? Является ли действительным оправданием вечный возглас «я нечаянно!» и верен ли самый частый ответ «за нечаянно бьют отчаянно»?
Мы не знаем ответов. Но опыт психологического консультирования говорит, что осознание влияния на других людей может вызывать у человека переживание вины, если кто-то другой или он сам считает это влияние незаконным. Речь идет не только о совершенно ясных случаях, когда наши действия портят чью-то работу («смотри, сколько грязи с тебя натекло!») или уменьшают чей-то ресурс («ну вот, а на меня времени не хватило!»). Вина возникает даже тогда, когда влияние не имеет знака или допускает множественное толкование.
Диалог «Подружки»
Девочки, лет по 14.
Первая: Слушай, а давай ты будешь на автобусе ездить, а не на троллейбусе.
Вторая: С какой стати?
Первая: Тебе же все равно, и автобусы, и троллейбусы идут, и ехать тебе всего несколько остановок.
Вторая: Ну и что! На троллейбусе почти все едут, а на автобусе только девчонки из другой группы.
Первая: Ну в том-то и дело, что все! И парни все на тебя пялятся!
Вторая: Но я ж не виновата!
Первая: Ну знаешь ли, ты с ними разговариваешь! Нам с Витькой ехать шесть остановок всего. А тебе четыре! Как ты выходишь, с ним потом разговаривать невозможно – он зависает! И времени не хватает, всего две остановки остается. А если за шесть остановок, может, что-то и получится.
Вторая: Слушай, я с твоим Витькой вообще не разговариваю. Нужен он мне!
Первая: Ты со всеми разговариваешь!
Вторая (примирительно): Ну давай я молчать буду.
Первая: Они все равно на тебя пялиться будут.
Вторая (с отчаяньем): Ну я же не специально! Ну что мне, паранджу надевать что ли?!
Первая: О, маску наденешь, тогда можно и с нами. Скажешь – заболеть боишься[5].
Вторая: Да не буду я никакую маску надевать, что ты придумываешь!
ВВЧ: На какую норму опираются девочки?
Пример выглядит анекдотичным, особенно для взрослого человека. Но такое происходит довольно часто на протяжении всей нашей жизни. Многие могут вспомнить просьбы окружающих – идти последним на экзамен, потому что «после тебя всем занижают». Или одеваться поскромнее, или говорить поменьше, или «не выпячивать свою образованность» и так далее и тому подобное. Случается, что люди сильные и яркие сталкиваются с совершенно реальным одиночеством и чувствуют себя неуместными именно потому, что им вменяют в вину «слишком сильное» влияние на окружающих.
Причем это влияние связано просто с наличием силы, красоты, ума, образованности и т. д. Если к такому влиянию личности добавляется еще и влияние должности, или количество ресурсов, которыми может оперировать этот человека (власть, деньги, авторитет и т. п.), то вопрос об ответственности, а соответственно, о переживании вины становится все более и более острым. Вина в данном случае является индикатором наличия факта влияния и ответственности. Справиться с такими чувствами возможно, только пережив экзистенциальный кризис (existedu.ru) [1] и приняв на себя ответственность за собственные силы, яркость, талант, богатство, опыт и прочие «инструменты влияния». Утешением за трудности и муки может служить то, что принятая ответственность и осознанные силы становятся основанием для законной гордости.
ВВЧ: Случалось ли вам сталкиваться с подобными обвинениями или предъявлять их кому-то? Как такие неявные обвинения повлияли на вашу жизнь?
Изменение комфортной, привычной или приличной дистанции взаимодействия
По сравнению с вышеперечисленными ситуациями, эта выглядит мелко и странно. Но мы считаем, что ее необходимо упомянуть, потому что она очень плохо опознается, а вину вызывает довольно часто. Мы считаем, что здесь дело в той роли, которую играет в нашем взаимодействии сама по себе дистанция. В нашей культуре (Россия, Северо-Запад) дистанция во взаимодействии редко описывается словами или закрепляется законодательством[6]. При этом Российская Федерация включает в себя чрезвычайно разные культуры: в Санкт-Петербурге принято разговаривать на расстоянии вытянутой руки, в Краснодарском крае разговаривают на существенно меньшей дистанции. Где-нибудь в Сибири разговор может вестись с расстояния полутора-двух метров. Кроме культурных различий, сама по себе дистанция – это признак качества отношений. Близкие и родные могут общаться вообще без дистанции, обнявшись. Между друзьями обычно происходит негласное определение комфортной дистанции. На ее комфортность влияют десятки факторов – начиная от пола и возраста беседующих и заканчивая предметом беседы (разговор об интимном обычно ведется с более близкой дистанции, чем разговор о пустяках, даже если собеседники – отнюдь не друзья). Разговор о дистанции еще более усложнится, если вспомнить, что понятие дистанции и правила ее соблюдения запечатлены в наших генах. Наши неговорящие предки (стайные животные) дистанцию блюдут неукоснительно и границы нарушают только намеренно, а нарушитель чаще всего проигрывает схватку с хозяином территории или изгоняется группой за нарушение правил (К.З. Лоренц) [33]. И даже безо всяких отсылок к невербальным правилам понятно, что сокращение дистанции может быть банально опасно для жизни – не успеешь отскочить и убежать, если что.
Короче, мы так устроены, что нарушение дистанции переживается как серьезное нарушение правил. Прямое указание со стороны на то, что мы нарушили дистанцию, вызывает очень острое чувство вины, смешанное со стыдом. Но такие прямые указания встречаются в современной действительности редко (по крайне мере, в приличной форме). Понятия о приличиях стали совсем расплывчатыми, но не исчезли и исчезнуть не могут, потому что все еще регулируют взаимодействие между людьми. Нарушение расплывчатых правил все равно остается нарушением и вызывает вину.
Диалог «Юг против Севера»
Психолог: Ты что такая встрепанная?
Клиентка (со слезами): Блин, город у вас дурацкий, и люди у вас дурацкие, и все здесь по-дурацки.
Психолог: Эээ…
Клиентка: Да, елки, я не понимаю, как можно так общаться?! Чтобы с вами разговаривать, надо слуховой аппарат надевать или всем микрофоны раздавать.
Психолог: И бинокль брать? (Улыбается.)
Клиентка: Да! Подзорную трубу!
Психолог: Ну что, опять юг с севером не сошлись, что ли?
Клиентка: Какой юг-север? Все дебилы вокруг – и все! (Вдруг заливается слезами.) Ну чего они ко мне пристали? Все время «отойди», «отойди», что я могу с собой сделать, если мне так не видно и не слышно?
Психолог: Что случилось-то, объясни!
Клиентка: С подружками встречалась… Курицы замороженные… Тоже мне, коренные петербурженки…
Психолог: Обидели опять?
Клиентка (успокаиваясь): Да если б все так просто. Мы с тобой про этих куриц уже несколько раз говорили. Ты мне можешь объяснить, почему я себя виноватой чувствую?
Психолог: Поподробнее расскажи?
Клиентка (всхлипывая): Ну вот смотри, мы давно не виделись, я очень обрадовалась, что мы наконец встретились. Ну конечно, полезла обниматься! А рыжая мне так: «Ой, ну все, все!». Ну я, естественно, отошла. Потом разговариваем, а она мне через каждое слово: «Что ты надо мной нависаешь, отодвинься». Я сначала злиться начинаю, потом обижаться, а потом извиняться начинаю. И остановиться не могу. Представляешь? А эта кура мне потом говорит: «Что ты все время извиняешься?» (Опять начинает плакать.) А как мне объяснить? Что я себя чувствую совсем неуместной? Что они привязались к этому? Неужели так важно?
Психолог: Что тебе хочется им объяснить?
Клиентка: Я себя такой одинокой чувствую, когда они меня начинают отпихивать. Мне кажется, я в чем-то провинилась, что-то не так сделала. Неужели им так важно сохранять эту дистанцию?
Психолог: Ну тебе же важно подойти к ним поближе?
Клиентка: Да мне не важно, я просто подхожу, я так привыкла, у нас на юге все еще хуже. (Пауза.) Когда разговариваем, друг друга за плечо или за руку держим на улице.
Психолог: Хуже?
Клиентка: Ну да, я себя так глупо чувствовала, когда на каникулы на родину приехала. Вроде как и хорошо, наконец меня никто не отталкивает. Но зато уже мне хочется отодвинуться. Ну вот… Я теперь и там, и там чужая.
Психолог: Погоди расстраиваться, внутреннюю личную дистанцию можно переключать. Поехала на Север – увеличила, поехала на Юг – уменьшила.
Клиентка: Правда? Ну тогда ладно, давай переключать.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить ситуации, в которых вы чувствуете себя виноватыми, хотя не сделали ничего плохого?
Скорее всего, мы перечислили не все ситуации «автоматической» вины, более того, по ходу того, как изменяется наша жизнь, условия и правила, список этих ситуаций тоже меняется. Какие-то становятся не актуальными (как стали неактуальными десятки и сотни обстоятельств вины и обвинений, описанные в художественных произведениях, созданных до середины XX века). А какие-то, наоборот, появляются. Возникают в связи с изменениями в нашей жизни. Например, совсем недавно вопросы «собираешься ли ты замуж» или «когда собираетесь заводить детей» были совершенно обычными вопросами, характерными для холодной вежливой светской беседы. В настоящее время человек, задающий такой вопрос, сокращает дистанцию общения практически до интимной. И если отношения не предполагают такого уровня близости, то реакция на подобные вопросы, скорее всего, заставит вопрошающего почувствовать себя виноватым. Наша задача состоит не в создании исчерпывающего списка ситуаций, а просто в указании, что такие ситуации есть, и в установлении логической связи между ситуациями общения и возникновения вины.
Глава 3. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИНЫ
Обязательные условия:
• Наличие взаимодействия (реального, виртуального или символического).
• Принадлежность к одной группе.
• Наличие норм, регулирующих взаимодействие.
• Наличие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» человека, осуществляющего действие.
• Дополнительные условия:
• Дефицит ресурсов (сил, пространства, времени, понимания, опыта).
• Степень жесткости ожиданий в отношении человека, осуществляющего действие.
• Степень определенности границ ответственности в отношении соблюдения норм.
• Степень определенности границ личной ответственности у человека, осуществляющего действия.
• Присутствие в ситуации высших авторитетов (социальных или мировоззренческих) и возможность передачи им части ответственности
Условия возникновения вины очень похожи на условия возникновения обиды (См. Обида, Гл. 1). Но есть некоторые важные различия. Вина всегда возникает постфактум – после того, как мы что-то уже сделали, поэтому вина обращена в прошлое, всегда связана с анализом того, что уже произошло. В будущее обращен только страх быть виноватым. Поэтому вина существенно более мучительна, чем обида, и гораздо менее ресурсна. Обида же связана с поступками других людей и с нашими ожиданиями извинений. Поэтому обида больше обращена в будущее и часто связана с ожиданием хорошего – отсюда, в частности, ее ресурсность.
Наличие взаимодействия (реального, виртуального или символического), выраженного в феноменах, приравненных к реальным действиям
Понятно, что вина не возникает, если люди никак друг с другом не соприкасаются. Правда, помимо явных всем, вольных или невольных действий, произошедших в реальности между двумя или более людьми, которые анализировать легко, потому что их легко вспомнить и описать, есть еще поступки, приравненные к реальным действиям. Это все, что относится к помыслам, желаниям, потребностям, которые сам человек или общество приравнивает к реальным действиям. Например, в христианстве дурные помыслы или незаконные желания считаются вполне реальными грехами, требующими покаяния (Библия) [6]. В настоящее время люди более внимательно относятся к тому, что они считают для себя допустимым или недопустимым, меньше полагаются на предписания культуры или государства. Мы вполне осознаем, какое огромное количество литературы написано по поводу вины за символические действия или помыслы и желания – достаточно обратиться к трудам великих психоаналитиков Фрейда и Юнга или современным авторам того же направления (а также к философии и русской классической литературе). Наша задача – лишь напомнить, что приравненные к реальным действия любой степени виртуальности вызывают совершенно реальную вину, которую иногда трудно заподозрить и очень сложно анализировать.
Нужно сказать, что современные реалии предоставляют нам еще большие возможности вызывать или испытывать вину. Мы имеем в виду игровое поведение: одиночные и командные игры в виртуальной реальности. Как решить, по каким параметрам оцениваются действия человека в игре, в виртуальном мире? Если предательство эффективно в игре или встроено в правила – как к этому относиться?
В нашей практике встречались случаи работы с игроками, к которым в игровом пространстве применялись санкции за слишком жестокое, или за слишком «эффективное» поведение. Переживания и состояния, которые у них возникали (вина, обида, безысходность, жизненный крах, суицидальные мысли и намерения, и т. д.) были совершенно реальными и никак не отличались от тех, что возникают вне игрового пространства. Урон, причиненный игровому аватару нередко воспринимается как урон самому игроку.
В наше время игра стала слишком серьезной и важной частью нашей жизни. В истории человечества такое уже бывало[7]. Это необходимо учитывать в практике психологического консультирования.
Принадлежность провинившегося и того, перед кем провинились, к одной группе, что позволяет им ощущать себя «своими»
Мы все знаем случаи из истории, литературы, когда отнесение человека к чужим позволяло людям вести себя в отношении этого человека самым грубым и страшным образом, не испытывая вины.
В первой части мы уже писали про то, что разделение на своих и чужих может происходить по множеству признаков: по национальности, социальному положению, имущественному состоянию, образованию, цвету волос и кожи. Но в психологическом консультировании мы чаще имеем дело с еще более тонкими разделениями. Например, по возрасту или по семейным ролям. Психологи, да и просто опытные родители знают, что подростки очень часто обманывают взрослых. Причем делают это автоматически, без всяких причин. На мамин вопрос: «Где ты находишься?» большинство подростков 13–15 лет ответят ложью, даже если раскрытие местоположения ничем им не грозит. Возможно, это связано с основной задачей возраста – сепарацией от родителей. А возможно, с постоянным раздражением, которое часто испытывают подростки. Причина в данном случае неважна. Главное, что подросток чаще всего не испытывает чувства вины, если лжет взрослому. При этом, соврав сверстнику, он вполне нормально чувствует себя виноватым. Более того, став взрослым и вспоминая свою ложь, бывший подросток вполне может почувствовать себя виноватым, потому что родители теперь для него более «свои». Многие взрослые, особенно молодые, не могут объяснить себе взрослым, почему они так себя вели, когда были подростками. Таким образом, вина как непереносимое переживание иногда отсекает от человека часть его прошлого, если «нынешнее я» не может согласиться считать «прошлое я» принадлежащим себе, то есть «своим» для себя.
Наличие норм, регулирующих взаимодействие
Может показаться, что это лишнее условие, что нормы есть всегда. С этим можно было бы согласиться, если бы нормы взаимодействия не менялись вместе с ситуацией взаимодействия. Например, одно дело вести себя вежливо и корректно в очереди за продуктами, если вы знаете, что продуктов достаточно и время не поджимает. В этой ситуации можно и нужно пропустить вперед слабого, позаботиться о том, чтобы всем хватило и все было справедливо. Совершенно другая ситуация возникает, если продуктов мало или время, отведенное для их покупки, катастрофически заканчивается. В этой ситуации большинство людей будет думать об интересах своей семьи, а не об интересах незнакомых стариков и детей, соответственно, нормы, которыми они руководствуются в своем поведении, могут измениться. Чем быстрее меняются нормы, чем более неопределенными и многочисленными они становятся, тем сложнее уловить, нарушение какой из норм вызывает чувство вины. В этой ситуации довольно часто происходит то же самое, что и в ситуации с гипотетическим подростком-вруном. Действуя в критической ситуации согласно нормам кризисного взаимодействия, человек потом не может объяснить себе, как он мог творить такое. Соответственно не может пережить вину и простить ее себе. Поэтому, разбираясь с виной, необходимо обращать внимание на то, какими нормами регулировалась ситуация, в которой вина возникла.
Важно учитывать, что мы живем в эпоху, когда часто возникают ситуации до сей поры невиданные, которые никакими правилами до сих пор не регулировались по причине отсутствия самих понятий, которые требовалось регулировать. Самый простой пример – это общение в интернете. На момент написания этого текста общение в интернете не имеет жестких и понятных всем правил и единственный, кто может регулировать его, – это владелец конкретной сети, причем он делает это исходя из одному ему понятных резонов. Видимо, эта ситуация скоро изменится, но до понятных всем правил здесь еще очень далеко. Скорее всего, такие вопросы будут возникать все чаще, т. к. все чаще будут возникать ситуации нового взаимодействия, в которых на первых порах правил вообще не будет, а соответственно не будет и вины. Но она вполне может появиться в момент, когда правила будут установлены. В XX веке тоже было несколько ситуаций, когда какое-то поведение вполне респектабельное и нормативное в одной ситуации при изменении обстановки вменялось людям в вину. Например, после Октябрьской революции 1917 года все богатые были обвинены в эксплуатации трудящихся и признаны виноватыми просто в силу того, что они обладали собственностью. В наше время похожие ситуации возникают все чаще и чаще (например, в сфере межрасового или межнационального взаимодействия). То, что сегодня считается нормальным и респектабельным, завтра может быть вменено в вину любому человеку. В связи с этим, психологическая работа с чувством вины приобретает поистине глобальные масштабы и значение.
Наличие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» человека, осуществляющего действие
Безусловно, полное отсутствие концепта «вина» в системе конструктов «я-и-мир» – это редчайший случай, и нам не очень ясно, можно ли такого человека называть человеком в полном смысле слова. Для того, чтобы у личности не было никакого представления о вине, у нее должно полностью отсутствовать преставление о том, что она способна что-то кому-то дать, как-то на кого-то влиять и вообще что-то делать. Можно сказать, что у человека должно отсутствовать понятие «я» и представление о себе как о субъекте. Но отсутствие концепта вины в системе конструктов «я-и-мир» в рамках какой-либо деятельности или отказ от способности быть виноватым встречается не так уж редко.
Нам известны по крайней мере три причины, по которым может отсутствовать концепт «вина» в системе конструктов «я-и-мир». Все три предполагают отказ от ответственности за свою жизнь, от авторства в целом и даже от субъектности.
1) Передача авторства другим людям или организации
Такого рода передача – вполне обычное дело, средство разделения обязанностей в группе. Лидер решает, что делать, исполнители просто выполняют его распоряжение. Но все же довольно редко случается, чтобы современный человек вообще не имел никакой свободы воли, а значит, и ответственности. Если это случается, то в рамках особых организаций – или военных, или религиозных, или других с жесткой вертикальной структурой. Если это связано с выполнением социальной функции (военный, чиновник), человек может не применять данный конструкт в рамках своей роли и своих обязанностей. Примеров такого перекладывания вины на начальников, на государство, на «систему» мы знаем множество, начиная от тех, кого обвиняют в военных преступлениях и заканчивая теми, кто берет взятки, потому что «все так делают». Самое интересное для нас состоит в том, что эти люди в самом деле не испытывают вины относительно действий, совершенных в рамках своего положения и своих обязанностей. При этом в других областях являются вполне совестливыми и ощущают вину в полном размере. Неполное авторство и неполная ответственность закреплены даже в уголовном праве, которое частично или полностью снимает ответственность за действие с исполнителей и возлагает ее на организаторов, отдающих приказы. Примером может служить то, что большинство рядовых гитлеровской армии было освобождено от обвинений в военных преступлениях.
Диалог «Курьер»
Начальник: Ты почему документы не отвез продажнику нашему? Там же на пакете было написано!
Курьер: А вы не сказали, что я должен везти.
Начальник: Это твоя обязанность! Ты сам должен спрашивать, чего и кому нести.
Курьер: А вы в прошлый раз сказали, чтоб я не отсвечивал.
Начальник: Ты понимаешь, что из-за тебя человек на переговорах без документов остался?!
Курьер: Я человек маленький. Если бы вы сказали, я бы отвез.
Начальник: Ты же знаешь, что если это лежит в ящике для доставки, то это тебе.
Курьер: А пакет не в ящике лежал, а рядом.
Начальник: Да упал просто, почему ты не спросил?
Курьер: Не мое это дело спрашивать, мое дело носить.
Начальник: Вот ведь..!
В строго иерархичных организациях (религиозных, военизированных) вопрос личной ответственности, авторства и свободы воли решается по-разному, но, как правило, принадлежность к такому сообществу предполагает добровольное лишение части личной свободы и передачу ее вместе с ответственностью и авторством лицу, осуществляющему руководство общиной (духовному иерарху, начальнику, командиру), или собственно тому, чьим именем или властью создана организация (высшие силы, бог, организация, государство). Примеры отсутствия вины за действия, совершенные «по приказу» «во исполнение воли …» или «именем божьим» можно найти в литературе, как классической, так и современной. А также в новостях.
2) Выученная беспомощность
Вторым случаем отказа от ответственности и авторства можно считать вариант ситуации, которая в психологии называется выученной беспомощностью. Если человеку по какой-либо причине внушили, что он ничего не может, ни на что не влияет, то он автоматически будет чувствовать себя ни в чем не виноватым, что бы он ни делал.
Диалог «Страшная школа»
Психолог: Слушайте, а почему вы дочку в художественную школу не перевели? У нее же способности, ей это нравится. Она туда на мастер-классы ходит.
Клиентка: Ну не знаю. Это все так сложно, кучу документов переоформлять, дальше ездить.
Психолог: Да ладно, кучу! Вы же говорили, вам завуч той школы говорила, что нужно сделать, чтобы девочку перевести.
Клиентка: Ну говорила. Но это все равно очень сложно.
Психолог: Девчонке же нравится. И ей в математической школе тяжело, она больше к творчеству тянется. И с друзьями там у нее не складывается, того и гляди, школу бросит!
Клиентка: А что я-то могу сделать?
Психолог: Перевести!
Клиентка: Так я ей говорила, пусть она с учителями договорится.
Психолог: Думаете, у нее лучше, чем у вас, получится?
Клиентка: Ну а что я могу? Пусть сама свои проблемы решает.
Психолог: Ей помощь нужна. Она без вас не справляется. Она маленькая. Ей тяжело.
Клиентка: Да? А я что? Мне бы кто помог. Я и так зашиваюсь.
Психолог: Она у вас и так прогуливает, если ей сейчас не помочь, она школу бросит. Вам от этого легче не станет точно.
Клиентка (угрюмо): Я как подумаю, что в школу надо будет идти, с директором разговаривать, так у меня у самой поджилки трясутся.
Психолог: Ну да, непросто. Вам, взрослому человеку, и то непросто.
Клиентка: Да, я как туда попадаю, так перестаю соображать: куда идти, чего говорить! Я сама-то школу еле закончила, после 9 класса в ПТУ ушла. Моя мама и не настаивала никогда на продолжении обучения. Мне тогда и в голову не приходило, что мне кто-то помочь может. Потому я и сбежала, как только смогла.
Психолог: Да, вам тогда нелегко пришлось. Подростку против школы одному не выстоять. Вам тогда 15 было? А вашей дочке сейчас 13. Ей совсем не справиться.
Клиентка: Ну что вы на меня давите! Я справилась, и она справится.
Психолог: Я вас не могу заставить что-то делать, и надавить мне на вас нечем. Мое дело вам всю картину обрисовать.
Клиентка (агрессивно): Какую такую картину?!
Психолог: Девчонке трудно в школе, и вы это видите. Вам тоже плохо, потому что за нее переживаете и потому что считаете, что ничего сделать нельзя.
Клиентка: Вот вы все поворачиваете, чтобы я себя виноватой почувствовала. А я просто на заводе работаю. Мое дело маленькое.
Психолог: Зато для дочки вы – самая большая. Больше вас для нее никого нет. И для школы вы тоже человек значимый, у родителей прав много, гораздо больше, чем у учеников. Вы же теперь не ученица, а родитель. Это тогда вы ничего не могли, а сейчас сможете.
Клиентка: Вот ведь пристали! А если у меня ничего не получится?
Психолог: Сделаем так, чтобы получилось.
3) Всем известное оправдание: «я был не в себе»
Это не я, это – водка, героин, химия, болезнь и т. д. Человек, совершивший что-либо в измененном состоянии сознания (в алкогольном или наркотическом опьянении, в психотическом состоянии, под гипнозом, под влиянием высокой температуры и т. д.), тоже не обладает в полной мере субъектностью, не может взять на себя ответственность за то, что он совершил, и, соответственно, не может почувствовать себя в полной мере виновным в своих действиях. Случается, что ни рассказы свидетелей, ни даже видеосъемка не убеждают человека, что действия действительно совершил он сам, не заставляет взять на себя ответственность и не вызывает чувства вины. Для очень многих людей концепт «я был не в себе» полностью выключает концепт «я виноват». В таких случаях люди могут вообще не рассматривать свои поступки с позиции вины и ответственности.
Вина тесно связана с нашей субъектностью. Нет субъектности – нет вины.
ВВЧ: Как вам кажется, чем мы платим за отсутствие концепта вины в системе конструктов «я-и-мир»?
Дополнительные условия возникновения вины похожи на такие же условия возникновения обиды, поскольку являются общими для описания процесса взаимодействия людей.
Дефицит ресурсов (сил, пространства, времени)
Мы не будем детально останавливаться на этом условии, потому что подробно описали его для возникновения обиды. Упомянем только, что дефицит ресурсов, видимо, делает человека более уязвимым, заставляет его автоматически больше полагаться на окружающих, больше надеяться на соблюдение правил, на помощь и поддержку «своих». Мы предполагаем, что при дефиците ресурсов такие ожидания возникают автоматически. Похоже, в стесненных обстоятельствах, в отсутствие сил и времени мы вынужденно упрощаем восприятие ситуации, в которой находимся и, возможно, склонны переоценивать собственные силы и собственную субъектность – брать на себя больше, чем можем вынести, больше, чем предполагает наша роль в ситуации. Вина, возникающая в ситуации дефицита ресурсов, чаще всего вызывает варианты «вины за отсутствие всемогущества».
Диалог «Плохой преподаватель»
Психолог: Ты что такая расстроенная?
Клиентка: Да вот, опять студенты жалуются, что я плохо объясняю.
Психолог: Поподробнее расскажи, пожалуйста.
Клиентка: Ну чего тут рассказывать… Проклятое дистанционное обучение! Я им лекцию читаю, и что, я вижу, что ли, что кто-то там рукой машет? И лиц не вижу. А потом выясняется, что половина ничего не поняла с самой середины лекции. И что я сделаю?
Психолог: Оправдываешься?
Клиентка: Да я уже не знаю. Обидно, что плохо получается. Я себя виноватой чувствую. Потому что я привыкла, что у меня студенты все понимают, по крайней мере, большая часть. А тут полгруппы сидит, глазами хлопает. А потом еще говорят: мы вам в чат пишем, что мы не понимаем. А мне ж не разорваться! И лекцию читать, и в чат смотреть!
Психолог: Очень трудная задача!
Клиентка: Да вообще невозможная.
Психолог: Ну если невозможная, что тогда винишь себя?
Клиентка: Я ж преподаватель. Я должна в любой ситуации быть понятной!
Психолог: А ты думаешь, что обычное преподавание и дистанционное – это одно и то же?
Клиентка: Мысль интересная.
Этот диалог может служить примером и для следующего дополнительного условия.
Степень жесткости ожиданий в отношении человека, осуществляющего действие
Преподавательница из нашего диалога привыкла считать, что должна работать с высоким качеством в любых условиях. И дефицит ресурсов, обусловленный изменившейся формой обучения, и, соответственно, влияющий на качество работы, автоматически вызывает у нее вину за недостаточно хороший результат. Она однозначно ждет от себя и требует привычно высокого результата. Если уровень ожиданий сделать менее однозначным и более реалистичным, вина автоматически снизится.
Степень определенности границ ответственности в отношении соблюдения норм
Диалог «За оградой – тоже школа»
Завуч: Григорий Петрович, вы почему курите на территории школы? Какой вы пример подаете ребятам?
Учитель: Я? На территории школы? Да что вы!
Завуч: Григорий Петрович, аллея за школой – это тоже территория школы!
Учитель: Марь Иванна, меня же там никто не видит!
Завуч: Я вижу, и этого достаточно! Если я вижу – значит, и дети могут.
Учитель: Марь Иванна, я же за оградой!
Завуч: Но дети-то видят! Двадцать сантиметров роли не играют!
Учитель: Ну тогда приказ издайте, что двадцать сантиметров за оградой тоже являются территорией школы! А если они меня на Невском увидят курящим? Я тоже буду виноват?!
Завуч: Если в этот момент вы будете исполнять функцию учителя, то тоже будете виноваты. Если у вас школьная экскурсия, то вокруг вас – сразу территория школы. Получается, что территория школы там, где есть ученики, и вы – учитель.
Учитель: Я вас услышал.
Завуч: Я очень на это надеюсь!
В данном случае мы наблюдаем процесс возникновения вины, которой во время совершения поступка не было и быть не могло, потому что учитель искренне считал, что правил не нарушает. Как выяснилось, он был не в курсе, или, точнее, его понимание нормы, определяющей запрет на курение, было неполным. Еще совсем недавно учителя имели право курить в учительской или в специально отведенном месте на территории школы. Запрет на курение вводился поэтапно: сначала внутри школы, потом на территории. И не все за ним успевали. Сейчас мы наблюдаем, как запрет на курение приклеивается к роли учителя и перестает быть территориальным ограничением, превращаясь в ролевую норму. Соответственно меняются нормы и условия возникновения вины у того, кто их нарушает.
Степень определенности границ личной ответственности у человека, осуществляющего действия
Диалог «Куда бежать?»
Учитель: Ты представляешь, она мне говорит, что за оградой тоже курить нельзя, меня, видите ли, дети видят!
Коллега: Да, курить стало негде.
Учитель: Можно подумать, меня никогда курящим не видели!
Коллега: Да видели, конечно! И даже обоняли после каждой перемены.
Учитель: Ну не после каждой…
Коллега: Ну через раз.
Учитель: Что мне теперь, курить, что ли, бросать, если я в школе работаю?!
Коллега: Слушай, а что ты им отвечаешь, когда тебя спрашивают, мол, «вы что, курить ходили?»
Учитель: Я с пятыми классами работаю, они еще пока не спрашивают.
Коллега: Спросят! У меня как стали спрашивать – так я и бросил. Неудобно.
Учитель: Ну знаешь, это твое личное дело. Мне – все удобно.
Коллега: Ну да, только быстро бегать придется, чтобы за дом забежать.
Учитель: За домом все старшеклассники курят, мне туда нельзя!
Коллега: Да, задачка! Придется теперь карту микрорайона специально изучать, чтобы времени на ориентирование не тратить…
В данном случае люди, осуществляющие одно и то же действие (курение) и обладающие одним и тем же статусом (учитель), по-разному понимают свою личную ответственность и, соответственно, по-разному переживают возникающую вину. Один ее отрицает, другой принимает и осознает.
ВВЧ: Как вам кажется, чем различаются правила, которыми руководствуются участники диалога? Почему один испытывает вину, а второй нет?
Присутствие в ситуации высших авторитетов (социальных или мировоззренческих)
Присутствие в ситуации высших авторитетов – личное, в качестве участников ситуации либо судей, или виртуальное – в качестве портретов, книги на полке, популярного автора в соцсетях, или друга, – безусловно, меняет восприятие собственного поведения у участников ситуации. Этот феномен в психологии давно известен, был когда-то описан А.В. Петровским [43]. Соответственно, если бы в предыдущем диалоге в ситуации возникла фигура директора, который либо курит, либо нет, то это бы влияло на степень переживания вины.
Присутствие авторитета может воздействовать на вину двояко:
• Может уменьшить или даже полностью снять, если у человека есть возможность переложить на авторитетную фигуру ответственность за свое поведение, лишив себя авторства и вины. Мы все знаем достаточно таких примеров: «мне сказали, они лучше разбираются», «он начальник», «он сказал, что лучше знает».
• Может вызвать вину, если авторитет воплощает собой норму, поддерживает ее или просто напоминает о ней.
ВВЧ: Вспомните ситуацию, в которой вы сначала не испытывали чувства вины, а потом появился важный для вас человек и вы почувствовали себя виноватым. За счет чего, как вам кажется?
Глава 4. РЕАКЦИЯ ОКРУЖАЮЩИХ НА ПЕРЕЖИВАНИЕ ВИНЫ
POU STO Реакция окружающих – это один из основных компонентов любого переживания человека. Потому что любое переживание, несмотря на его врожденный характер, возникает и протекает согласно законам и нормам, принятым в данном сообществе. И разрешается только после того, как человек делится своим переживанием с окружающими, а они «правильно» на него реагируют. Человек, получивший «правильную» реакцию на свои переживания:
• чувствует себя услышанным;
• чувствует, что другой понял его переживания и их причины;
• ощущает сочувствие со стороны окружающих;
• ощущает свои переживания законными (то есть имеющими право на существование в данной ситуации); или наоборот, ему объясняют, что в такой ситуации «правильно» чувствовать нечто другое.
При всем при этом переживающий ощущает себя «своим», независимо от «законности» и «правильности» собственных переживаний.
Получивший такую реакцию человек прекращает переживать актуальную ситуацию, и его переживание становится опытом, к которому он может обращаться, который встраивается в его систему конструктов «я-и-мир». Если человек не получает такой реакции, то его переживания остаются незавершенными и либо ждут своего завершения (иногда десятилетиями), поглощая ресурсы, либо «превращаются» и завершаются, становясь компонентом какого-то психического феномена. Например, сценарного решения, или аттитюда, или установки, или сотни других возможных феноменов, описывающих отношение человека к себе, миру и другим людям с точки зрения незавершенного переживания.
В практике авторов был такой случай: девочка-второклассница, которой учеба давалась нелегко, однажды заглянула в тетрадку по математике старшей сестры и не поняла вообще ничего. Ужаснулась собственной глупости, разочаровалась в себе и решила, что она к математике категорически неспособна. Никому не рассказала, потому что было стыдно, и считала себя глупой вплоть до момента поступления в ПТУ. В ПТУ училась настолько успешно, что как-то забыла о своих решениях. К психологу она попала, уже будучи взрослым человеком и, несмотря на оконченный технический ВУЗ и работу, связанную с техникой и математикой, очень невысокого мнения о своих способностях. В процессе работы женщина вспомнила этот эпизод и рассказала о нем психологу. Рассказ позволил переживаниям разочарования, растерянности, смятения и ужаса завершиться, что принципиально изменило представление этой женщины о своем умственном потенциале (и не только умственном), в результате чего изменилась и вся ее жизнь.
Итак, реакция окружающих на вину возникает в реальности только в том случае, если вина как-то предъявляется вовне. Если виноватый ничего о ней не рассказывает, то реакция тоже есть, но воображаемая. Она существует только в сознании виноватого. В норме, чтобы чувство вины завершилось, нашло себе выход, оно должно быть, как минимум, признано законным и понято окружающими. Если это происходит, виноватый перестает переживать вину, и начинает искать возможность действовать, чтобы искупить вину, получить прощение или изменяет свой взгляд на ситуацию, на свое участие в ней и на свою долю ответственности. С этой точки зрения, реакция окружающих – это главный компонент разрешения вины и выхода из вины.
Нам кажется важным отдельно упомянуть следующие виды реакции окружающих на предъявление вины:
• реакция обиженного на выражение вины обидчиком сразу в процессе ситуации;
• реакция обиженного на выражение вины обидчиком спустя какое-то время;
• реакция свидетелей ситуации на переживание вины обидчиком;
• реакция на рассказ о вине;
• воображаемая реакция окружающих на переживание вины.
Все мы знаем, что чем быстрее извиниться, тем больше вероятность получить прощение. Быстрое выражение вины, особенно в форме «правильного» извинения (См. Вина, Гл. 18), как правило, полностью снимает обиду. Быстрое и адекватное извинение помогает обиженному ответно высказать свою обиду, лучше ее понять, частично пережить и выразить эмоции, сопровождающие обиду, и сделать еще много важного и нужного, не оставляя на потом, не давая обиде разрастись и зафиксироваться. Извиняющийся обидчик тоже может высказать свои чувства, объяснить свои мотивы, посочувствовать обиженному и совершить еще много полезного. В этом процессе взаимного высказывания и обсуждения переживаний последние благополучно принимаются и завершаются. Этому способствует единый (или очень схожий) контекст, в котором в этот момент существуют обиженный и обидчик – они почти одинаково видят и помнят ситуацию, хотя и с разных сторон.
К сожалению, это удается не всегда. Быстрые извинения не воспринимаются обиженным:
• если они сформулированы или принесены неправильно;
• если ситуация к моменту извинения уже повторялась неоднократно;
• если у обиженного накопился большой потенциал обид и любая обида переполняет чашу его терпения, делая его нечувствительным к извинениям.
Примером неоднократной обиды может служить всем нам знакомый диалог:
– Убери, пожалуйста, чашку за собой.
– Ах, да, прости, я забыл.
– Слушай, сколько раз можно повторять? Я тебя который раз прошу!
– Ну извини, пожалуйста, я забыл, задумался.
– Ты это повторяешь каждый день по четыре раза!
– Слушай, ну извини, пожалуйста, я знаю, что для тебя это важно, но я забыл, извини.
– Я не могу тебе больше напоминать!
В этом диалоге и извинения «неправильные», и ситуация повторяющаяся.
В качестве примера накопленной обиды мы можем вспомнить описание ситуации про подарки в офисе (См. Обида, Гл. 9). Но можем представить себе и более часто встречающуюся ситуацию.
– Ох, извините, девушка, я вас не заметил.
– Да как же вы могли меня не заметить! По ногам, как по асфальту ходят!
– Извините, пожалуйста, я задумался.
– Да что мне с ваших извинений, вы мне колготки порвали своим портфелем, а я на деловую встречу иду!
– Ну извините, я нечаянно!
– Да толку-то мне от ваших извинений, я и так опаздывала, маршрутка сломалась, а теперь еще и это! Как я в таком виде пойду!?
ВВЧ: Как вам кажется, что испытывает обидчик в приведенных диалогах в связи с такой реакцией на извинения?
Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что реакция обиженного может быть разной. Она зависит от сотен факторов. Прежде всего, от того, во что превратилась его первоначальная обида в течение времени, которое прошло между обидой и выражением вины.
Наверное, не стоит пересказывать все написанное о динамике обиды в первой части. Совершенно очевидно, что по прошествии времени обидчик и обиженный могут не совпадать в фазах развития переживания, могут приобретать разное понимание, разные интерпретации, помнить уже разные ситуации. Все это время событие, вызывающее у одного обиду, а у другого вину, существует в разных внутренних контекстах. Обычно чем больше времени проходит, тем сильнее различаются контексты. Если проходит очень много времени, то обиженный и обидчик могут вообще не договориться, что же тогда произошло, соответственно, их чувства могут остаться незавершенными. В качестве примера можно привести старый французский фильм «Мужчина и женщина», в котором история рассказана сначала от лица женщины, а потом от лица мужчины. Без специальных условий (семейной психотерапии) шансов договориться у них явно не было. Подобную же ситуацию разного понимания произошедшего можно увидеть в книге «Хроники исцеления» Ирвина Ялома [67].
Наблюдать вину тяжело и неприятно, даже если ты был свидетелем ситуации и более или менее понимаешь, в чем дело. Для сочувствия требуются значительные ресурсы – надо понять, разобраться, выслушать, посочувствовать, рассказать о своем видении ситуации и быть очень терпеливым в процессе. Если мы хорошо относимся к человеку и нам хочется его поддержать и успокоить, то мы чаще всего присоединяемся к нему и пытаемся убедить его, что он прав, что не виноват, чтобы он «не парился», «забил», так как ситуация того не стоит, то есть стараемся как-то облегчить его переживания. Если относимся плохо, то часто возникает злорадство. Вина – один из редких случаев в современной жизни, когда можно так явно наблюдать мучение другого человека в безопасной для себя ситуации[8]. Если мы не понимаем, почему виноватый мучается, не сочувствуем ему, стараемся отгородиться, то чаще всего у наблюдателей возникает смех как реакция обезболивания, направленная на защиту от чужих страданий.
Но ни попытки успокоить, ни злорадство, ни смех – не помогают переживающему вину человеку. Ситуация усугубляется тем, что, скорее всего, эти реакции являются автоматическими и, следовательно, с трудом поддаются изменению. Для того, чтобы действительно помочь человеку, переживающему вину, свидетелям и наблюдателям требуется пережить автоматическую реакцию, отстраниться от нее и перейти к осознанному и целенаправленному поведению. Мы имеем в виду – к развернутому сочувствию и пониманию. Или хотя бы к развернутому пониманию и осуждению. Главное – к осознанному и ответственному.
Здесь реакция слушателя, безусловно, зависит от того, с кем из участников ситуации он идентифицируется, кого считает своим. Рассказу близкого мы сочувствуем или хотя бы стараемся понять; слушая условно «своего», но более далекого – злорадствуем и осуждаем; а рассказ совсем чужого оставляет нас равнодушным. Рассказы о вине нам слушать все-таки легче, чем об обиде, потому что такой рассказ не требует вмешательства в ситуацию и немедленной защиты пострадавшего. Когда мы слушаем, как человек рассказывает о своем переживании вины, у нас есть выбор, к кому присоединиться, на какой позиции остаться. Рассказом о вине сложнее заразиться, чем рассказом об обиде, зато гораздо легче примерить на себя мантию судьи и ощутить себя на высоте – безгрешным праведником или хотя бы более ловким прохиндеем. Соответственно, человеку, которому рассказывают о переживании вины, необходимо внимательно следить за своими чувствами и реакциями, особенно если он хочет помочь виноватому. Сочувствие к тому, против кого было совершено неправильное действие, сопереживание виноватому, стремление осудить его и тем самым провести черту между собой и им, исключить его из своих являются биологически-автоматическими реакциями. Они, как почти каждый автоматизм, не превращаются в опыт, в то, что мы можем использовать осознанно и целенаправленно. Особенно важно следить за такими реакциями тем, для кого выслушивание рассказов о вине является частью профессиональной деятельности: судьям, адвокатам, священникам, психологам, социальным работникам. Их реакции на рассказы о вине во многом обусловлены профессиональными задачами и должны быть осознанными и даже, в какой-то степени стандартизированными – безоценочными. Но даже выполняя профессиональные задачи, мы не перестаем быть людьми, отвечающими автоматическими реакциями на рассказ о нарушениях правил бытия и о внутренних последствиях этих нарушений для нарушителей. Поэтому так важно знать об автоматизмах, уметь их опознавать, проживать и переходить к осознанным выбираемым действиям.
ВВЧ: Вспомните ситуацию, когда автоматическая реакция присоединения, злорадства или осуждения помешала вам выслушать рассказ о вине. Если не получается, то вспомните обратную ситуацию: когда вам не дали договорить про вину и разобраться в своих чувствах.
По-видимому, стоит различать воображаемую реакцию на переживание вины и на выражение вины.
Как правило, когда мы пытаемся представить, как окружающие могли бы откликнуться на чувства, о которых мы им собираемся рассказать, мы представляем себе негативную реакцию. Очень часто мы мучаемся, пытаясь решить, рассказывать ли нам, что мы чувствуем себя виноватыми, или не рассказывать. Как правило, нам кажется, что рассказывать – глупо, по-детски, опасно, в общем, не стоит. Вероятнее всего, дело в том, что рассказ о переживании вины нас не красит, ведь это рассказ о поступке, который мы сами считаем неблаговидным, соответственно, и другие могут счесть его плохим. К тому же, когда мы рассказываем о вине, то, безусловно, к переживанию собственно вины прибавляется переживание стыда.
Возможно поэтому часто мы уделяем этой ситуации много времени и стараемся как-то так скорректировать свой рассказ, чтобы наше неправедное деяние показалось не таким плохим. А еще – мы все знаем, что повинную голову меч не сечет. Правда, реальность не всегда организована так, как обещает нам пословица, но она все же дает надеяться на то, что если мы «правильно» себя поведем, расскажем о своей вине «правильным» образом, то окружающие все-таки смягчатся. И опасность подвергнуться осуждению и наказанию будет не такой большой. Потребность выглядеть в глазах других получше, страх перед невыносимым стыдом и тяжелыми переживаниями вины заставляют нас проявлять чудеса творческого мышления, изощренности и изворотливости, побуждает развивать эмпатию, буквально конструировать чужие реакции, короче говоря, служит нашему развитию. Есть подозрение, что социальный интеллект, в том числе, развивается в попытках избежать наказания за вину, а главное, в стремлении выглядеть получше – в глазах других людей и в собственных глазах.
Фактически воображаемая реакция окружающих служит одновременно и встроенной дубинкой, обеспечивающей наказание, и, главное, внутренним камертоном того, что хорошо и что плохо. Довольно часто бывает, что мы не чувствуем особенной вины, но почему-то не можем рассказать о своем поступке людям, которых уважаем. Пытаясь представить себе, как они отреагируют на наш рассказ, мы, собственно, и начинаем ощущать себя виноватыми.
Диалог «Жалобщица»
Психолог: Ты что такая смурная?
Клиентка: Да вот как-то мне не по себе с самого утра.
Психолог: А что такое случилось утром?
Клиентка: Да мне из МФЦ позвонили (пауза). Представляешь, я у них справку заказывала, мне документы надо подавать по моим делам, я все по времени рассчитала, а справки нет и нет. Мне уже весь пакет подавать, а справки нет. Вот меня приятель и надоумил жалобу написать. Представляешь, в пятницу вечером отправили, а в понедельник утром они мне звонят и говорят, что справка готова, что же вы на нас жалуетесь, все давно готово, лежит, ждет вас. Мне так неприятно стало. Я себя такой виноватой почувствовала.
Психолог: В чем виноватой?
Клиентка: Да не знаю я, в чем. Мне кажется, что я эту историю никому рассказать не могу. Хотя и тебе рассказывать противно.
Психолог: Почему это?
Клиентка: Ну скажи честно, ты же меня осуждаешь, правда?
Психолог: Я тебя осуждаю? Ты это серьезно?
Клиентка: Ну ты, да, наверное, думаешь про себя, что это мелочно, что дура-баба из-за мелочей людям жизнь портит, они премии лишатся и вообще…
Психолог: Это я-то так думаю?
Клиентка: А что, нет, что ли?!
Психолог: Слушай, у нас вроде и не было такого никогда, чтобы я тебя осуждал. Что-то я такого не помню, может, я ошибаюсь?
Клиентка задумывается, отрицательно мотает головой.
Психолог: Да нам вроде и не положено судить, осуждать. Психологи по другому ведомству проходят.
Клиентка: И все-таки я виноватой себя чувствую. Вот мне кажется, что если я эту историю папе расскажу, то он, наверное, тоже ничего не скажет, но так посмотрит: типа, что ж ты.
Психолог: И о чем это будет?
Клиентка: А он мне всегда говорил, что ябедничать нехорошо. Надо самой справляться.
Психолог: Ну знаешь ли, сама себе справку ты бы точно не сделала.
Клиентка: Да? Ой, и правда. Тут я без них бы не справилась. И все равно как-то неприятно.
Психолог: А что бы еще папа мог сказать?
Клиентка: Ну он бы, может, и не сказал, но подумал бы, что люди делом занимаются, важным, государственным, а тут я со своей справкой вылезла. И вообще, мелко это как-то.
Психолог: То есть ты со своей мелкой проблемой вылезла, людей отвлекаешь, жалобы пишешь, внимание на себя обращаешь.
Клиентка: Ага, во-во, именно так.
Психолог: Слушай, ты действительно считаешь, что папа так про тебя подумает? Или я?
Клиентка: Ну-у, уж теперь не знаю. Вроде глупо звучит. Но все равно стремно как-то.
Психолог: Непривычно, что ли?
Клиентка: Мысль о том, что я правильно жалобу написала – очень непривычная. Это что получается, мои мелочи важнее, что ли?
Психолог: Получается, да. Непривычно, конечно. Но ничего, угнездится.
ВВЧ: Как вам кажется, какие внутренние правила нарушила клиентка? И что ей было так непривычно?
Диапазон реакций окружающих на предъявляемую вину может быть гораздо шире, мы описали только самые основные. И наша цель состояла в том, чтобы привлечь внимание к самому факту важности реакции окружающих на демонстрацию вины.
Глава 5. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ВИНЫ
Факторы, влияющие на тяжесть переживания * Ощущения, чувства и эмоции, возникающие при непосредственной вине * Экспрессия: мимика и пантомимика * Восприятие времени и мысли, возникающие в переживании вины * Действия и поведение, связанные с возникновением вины
POU STO Еще раз напоминаем, что переживание вины является скрытым и очень индивидуализированным феноменом. Поэтому описывать его сложно, и вовсе не все читатели сразу узнают себя. Наше описание переживания вины основано на нескольких десятках вдумчивых, подробных профессиональных описаний переживания вины, которые были сделаны психологами – участниками практических семинаров на протяжении десяти лет. Мы им за это очень благодарны.
Насколько возможно мы постараемся подробно описать феномены переживания. Предполагаем, что базовое описание поможет не только понять себя, но и понять других, которые могут быть на нас не очень похожи вследствие иных пола, возраста, опыта, индивидуальных особенностей. Читателям, чье понимание и переживание вины отличается от нашего, возможно, придется нам кое в чем поверить, а потом дополнить наше базовое описание собственными наблюдениями. Наша общая задача осложняется еще и тем, что основная тяжесть социального давления на данный момент приходится именно на экспрессию вины, на ее видимую, диагностичную часть. Демонстрировать свою вину сейчас не модно и даже иногда опасно, так как такая демонстрация может восприниматься как невежливость и даже манипуляция. В наше время вполне возможен такой разговор:
– Мне кажется, я тебя обидел, извини, пожалуйста.
– Нечего извиняться. Если ты думаешь, что ты можешь этим меня обидеть, то ты сильно ошибаешься.
– Мне очень жаль, что так получилось. Я себя чувствую виноватым.
– Это твои проблемы. К психологу сходи, значит. А сейчас давай закончим этот разговор.
А мы продолжим – нам можно.
На наш взгляд, непосредственное переживание вины (в момент возникновения) – сложный комплекс психических феноменов, который включает в себя эмоции, чувства, мысли, мимические и пантомимические комплексы и стереотипные действия, часть которых одинакова для всех людей, а часть зависит от культурных норм.
Центральным, корневым моментом в ситуациях возникновения вины является переживание катастрофы. Скорее всего, катастрофическое ощущение вызывает мысль «Люди так не поступают, значит, я не человек». Видимо, эта мысль невыносима, поскольку она тут же подавляется, и переживание отрывается от непосредственной причины (мысли). Возможно, именно поэтому вина часто считается «иррациональным переживанием»– его психологическая причина неочевидна и глобальна. Чувствуя себя виноватыми непосредственно после совершения поступка, мы каждый раз неосознанно пытаемся решить, можно ли еще считать себя человеком или уже нельзя.
Тяжесть (интенсивность) переживания вины в нашей культуре чаще всего зависит от следующих факторов:
Намеренность-ненамеренность действий
Злонамеренное действие, как правило, вызывает меньше непосредственной вины (обида, гнев, злость и ярость мешают ее проявлению), но больше переживаний впоследствии. Страх перед такими переживаниями мы описывали в разделе «Месть» (См. Обида, Гл. 20). Вина от ошибки или нечаянного причинения вреда тяжелее непосредственно в момент совершения и легче уходит в процессе осознания.
Тяжесть причиненного вреда
Обычно чем обширнее и долговременнее последствия нашего действия, чем больше людей осознают его последствия как вред, – тем сильнее чувство вины. Мы не рассматриваем ситуации причинения вреда, описанные в уголовном кодексе, они безусловно не учитывают всех тонкостей жизни человека в современном обществе. Заметим только, что причиненный вред часто бывает неявным и осознать его не только тяжело, но и сложно.
Возможная реакция сообщества
Сила переживаемой вины очевидно зависит от того, считают ли нас виноватыми окружающие, и насколько. Если все вокруг очевидно демонстрируют свое осуждение, мы невольно задумываемся над своим поведением. И наоборот – нам легче простить себе ошибку или даже прегрешение, если все вокруг всячески показывают, что наш поступок не нанес ощутимого вреда.
Сила воображения виноватого
Этот фактор практически не нуждается в пояснении, нам и так понятно, что чем больше мы склонны воображать себе всякие ужасы и отдаленные последствия нашего действия, тем сильнее будет ощущение катастрофы. В девяностые и нулевые специалистам кризисных служб довольно часто встречались дети, ушедшие на улицу, сбежавшие из дома от страха столкнуться с реакцией родителей на двойку или на вызов в школу. В большинстве случаев детям не грозило ничего серьезнее, чем скандал, но сила воображения подростка практически не поддается измерению, а подростково-негативный взгляд на жизнь успешно довершает картины грядущей катастрофы (родительского гнева), перед лицом которой жизнь в мусорном баке представляется вполне приемлемым выходом.
То, насколько прегрешение не вписывается в личный образ «я хороший человек»
Нам всем знакомы ситуации, когда окружающие вообще не понимают, почему мы чувствуем себя виноватыми. Например, когда, будучи занятыми, не отвечаем на звонок близкого, или когда в рассеянности берем чужое пирожное, или когда перебиваем, не дослушиваем. С этой точки зрения переживание вины очень диагностично – чувство вины выявляет нормы, составляющие образ «идеального я». Иногда чувство вины возникает исключительно в ответ на нарушение внутренней нормы, личного правила, о существовании которых мы могли ранее и не догадываться.
Степень осознанности всей ситуации
Осознанность влияет на переживание вины неоднозначно и нелинейно. Как правило, осознание факта нарушения правил является началом переживания вины и далее влияет на переживание вины на всем протяжении его существования с учетом всех вышеперечисленных факторов, то увеличивая его интенсивность, то уменьшая. Например, осознав, что в незнакомой ситуации мы вопиющим образом нарушили правила этикета (на официальном мероприятии первыми попытались пожать руку человеку, который очевидно старше нас и обладает более высоким статусом), мы сначала ужасаемся и чувствуем себя очень виноватыми. А затем, когда начинаем осознавать произошедшее, в дело вступают другие характеристики:
• степень намеренности («Я не знал!»);
• последствия (никто не умер, скандала не случилось);
• реакция окружающих (поморщились, но не убили, не уволили);
• место этого события в нашей жизни («На следующий официальный прием я пойду через год» или «Слава богу, мамы там не было!»);
• сила удара по я-концепции («Я плохо разбираюсь в этикете, надо бы поправить это» или «Как же я не заметил, что он отпрянул?! Мог бы смягчить конфуз»).
В результате всех этих действий и осознания наше чувство вины будет колебаться, становясь то меньше, то больше, в зависимости от того, какие факторы на нас больше влияют, что важнее в данный момент.
Сочетание описанных выше (а может быть, еще и множества других) факторов в каждом конкретном случае создает уникальный рисунок переживания вины.
Корневое переживание – ощущение катастрофического отрыва от других: «Я сделал что-то такое ужасное, что все от меня отвернутся и я уже никогда не буду человеком». В зависимости от индивидуальных особенностей оно может формулироваться по-разному: «со мной больше никто не будет общаться», «я умру», «пусть все идут к черту».
Катастрофическое ощущение не может быть долгим, поэтому оно сменяется чередой эмоций, чувств, переживаний и ощущений, таких как:
• шок,
• стыд,
• злость,
• страх,
• ужас,
• горе,
• обида,
• безысходность,
• беспомощность,
• растерянность,
• одиночество,
• обреченность,
• жалость к себе и другим,
• ощущение запредельности переживания,
• желание исчезнуть,
• часто заторможенность,
• ощущение падения,
• отрыва.
Отделить эмоции от чувств, ощущения от эмоций, чувства от желаний в таком вихре довольно трудно, но и не нужно, наверное. Достаточно предполагать, что такой вихрь при вине возникает обязательно. Процентное соотношение чувств и рисунок их проявления может быть индивидуальным – это зависит от культуры и воспитания человека. От того, как трактуются разные эмоции в актуальном менталитете, настолько разрешено и насколько ритуализировано проявление вины в культуре. Где-то допустимо лишь покраснеть и опустить голову – при такой культуре выражения вины самые активные эмоции подавляются. Где-то необходимо падать в пыль и драть на себе одежду и волосы – в этом случае приходиться усиливать свои переживания стыда и страха.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить какую-нибудь свою вину, погрузитесь в переживание и обратите внимание на то, как оно представлено в теле. Попробуйте связать ощущения с эмоциями, которые испытываете.
Для мимики вины характерно застывшее выражение боли. Взгляд двигается снизу вверх, обязательны вегетососудистые реакции (побледнение, покраснение кожных покровов). Характерны глубокие вздохи, вся мимика в основном обращена внутрь себя, взгляд на собеседника мимолетный, даже если виноватый осмеливается смотреть на собеседника.
Телесно вина переживается как сильное напряжение пресса, спазм живота, сдавленное дыхание и шейный зажим. Это автоматические реакции, близкие к пассивной стрессовой реакции – дорсальному состоянию (С. Порджес) [45], – формирующие пантомимику вины.
Пантомимические проявления: закрывание лица руками, растирание шеи, голова уходит в плечи или опускается, возможны различные защитные жесты и позы, обнимание себя руками, покачивание корпусом с поиском опоры, мелкие бесцельные движения, кручение головой с целью расслабить шею, часто незаконченные жесты, причинение себя боли (удары кулаком, пощечины, царапанье ногтями) поза подчинения – с открытым «подставленным под удар» затылком (К.З. Лоренц) [33].
Здесь необходимо очень коротко разделить пантомимику стыда и вины. При переживании вины вся фигура человека скручивается как будто вперед в направлении к животу, открывая шею. Эта поза рассчитана на реакцию партнера (демонстрация оголенности уязвимых мест). При переживании стыда без вины, поза и движения отражают только внутренние переживания – человек может метаться, закрывать лицо руками, но не подставлять шею под удар.
При переживании хронического чувства вины возможно закрепление различного рода спазмов и зажимов в теле, затрудненное дыхание. Привычная сдавленная поза может порождать застойные проблемы с пищеварением, запор, камни в желчном пузыре, спазмы поджелудочной железы, проблемы с дыханием, сколиоз, мигрень.
Как и при любом шоковом переживании, в момент острого переживания вины меняется восприятие времени. Человек лихорадочно мечется между настоящим, прошлым и будущим. Ему кажется, что вина обесценивает прошлое, ставит крест на будущем и делает невыносимым настоящее. В результате самонаблюдение становится практически невозможным, но и со стороны наблюдать вину из-за этого довольно тяжело. В отличие от обиды, у которой есть довольно статичные моменты, переживание вины представляет собой бешеные скачки между самыми разными воспоминаниями, мыслями и состояниями. Актуальная вина заставляет человека вспоминать и прежние свои прегрешения, добавляя переживанию глобальности и фатальности.
В момент острого переживания вины человек испытывает гнев, злость, страх и ужас. Поэтому в самом начале основным содержанием мыслей становятся слова, оформляющие катастрофу, и ругательства в свой адрес.
На бешеной скорости в сознании проносятся, кружатся и скачут обрывочные фразы:
– «Катастрофа! Это все…»;
– «Нет-нет, пусть этого не будет…»;
– «Что ж я такой дурак, идиот и т. п.…»;
– «Лучше умереть…».
А через некоторое время эти мысли начинают перемежаться самообвинениями и горестными размышлениями:
– «Со мной всегда так»;
– «Я должен был это предусмотреть и предотвратить»;
– «Я все потерял, я сам виноват».
Естественно, содержание мыслей очень сильно зависит от культурного контекста, в котором сформирован человек.
POU STO Небольшое отступление: ругань может быть полезной! Или вредной. С точки зрения эффективности переживания вины хотелось бы, чтобы мысли в этот момент содержали не только обсценную лексику, которая помогает лишь сбрасывать энергию, но практически не проясняет ситуацию, не помогает пониманию. Перейти от матерных ругательств к содержательному самообвинению (от «какой же я!..» к «зачем же я так торопился?!») очень сложно – и когнитивно, и эмоционально. Чем дольше мы ругаем себя матом, тем меньше пользы и больше вреда приносит этот процесс. Матерные ругательства слишком обобщенные, слишком ритуальные, реакция на них слишком автоматическая, даже если мы ругаем себя сами. Поэтому приемлемые и понятные в самом начале процесса, когда нужно сбросить энергию ужаса и гнева, матерные ругательства и чудовищные обвинения становятся вредоносными, если используются долго, или если у человека нет других определений для себя. Иногда работа психолога состоит в том, чтобы расширить словарь ругательств клиента.
Диалог «Дура – не ворона»
Клиентка: Ну вот ты скажи, как можно было быть такой идиоткой?
Психолог: Не знаю. А ты что имеешь в виду?
Клиентка: Я имею в виду, что я дура, идиотка, тупая!
Психолог: Ты что, задачу не решила?
Клиентка: Нет, я деньги потеряла.
Психолог: Ну расскажи.
Клиентка: Два месяца назад мне босс велел билеты заказать и гостиницу. Он должен лететь в Эмираты на деловую встречу. Я заказала, все сделала. Идеальные варианты нашла, гордилась собой. А сегодня босс полез, смотрит, а там – вместо июня июль. Я билеты заказала на другой месяц. Теперь за свой счет все покупать, представляешь? И шефа жалко – так расстроился! (Плачет.)
Психолог: Да, засада.
Клиентка (со слезами, колотя себя по коленям кулаками): Вот же дура, дура!
Психолог: Я понимаю, что очень неловко. Но почему дура-то? Невнимательная просто.
Клиентка (зло): Хорошо – ворона!
Психолог: Вот «ворона» звучит немного лучше.
В этом примере замена одного слова на другое позволила клиентке перестать себя бессмысленно обижать и усугублять свое состояние, но если бы на месте обидных, но локальных и в данной ситуации применимых «дуры» и «идиотки» стояли бы матерные ругательства, к естественной обиде в результате самообзывания добавился бы стыд, неизбежный в сексуальном контексте[9]. И это усугубило бы ситуацию. Кроме того, матерные ругательства являются еще более обобщенными и непонятными, чем «дура» и «идиотка» и могут вызывать ощущение собственной монструозности, чудовищности, которое тоже не помогает пережить шок и горе от вины. (Подробнее о мате можно посмотреть у Л.А. Китаева-Смыка [29].) «Ворона» – все же более осмысленное и значащее обзывание.
Непосредственно после осознания собственной виноватости человек делает лихорадочные попытки вернуть все как было: мечется, старается оправдаться или застывает в состоянии дезориентации, демонстрируя основные стрессовые реакции, что еще раз доказывает шоковую природу вины (С. Порджес) [45].
– «Я сейчас все исправлю, все будет, как раньше, ты даже не заметишь разницы»;
– «Это не я, я случайно»;
– «Нужно позвонить, нет, лучше никому не звонить и подождать, нет, ждать нельзя, надо действовать…»;
– «Все пропало, ничего не исправить».
Когда первый шок проходит, лихорадочные действия сменяются более-менее осознанными и направленными на прекращение переживания (выход из вины), и далее все зависит от того, как человек привык действовать, как принято действовать в его окружении, и от того, какие цели ставит перед собой человек. Это могут быть:
• отказ от ответственности (не я, оно само);
• вытеснение события – отстранение, забывание;
• лишение его значимости, обесценивание («не обеднеет!»);
• самооправдание («у меня не было другого выхода»);
• перекладывание вины и ответственности на другого («это они меня подставили, не объяснили, толкнули…»);
• самонаказание («куда тебе в отпуск после такого»);
• принесение извинений;
• предложение возмещения;
• расчеловечивание того, кто пострадал от действий («они боли не чувствуют»);
• расчеловечивание себя («я генератор неприятностей»).
ВВЧ: Знакомы ли вам эти проявления переживания? И в чем ваши переживания отличаются от написанного здесь?
Глава 6. ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ
POU STO Вина появляется в момент столкновения с реальностью, отчасти созданной и нашими действиями. Примем за рабочее следующее определение реальности, актуальное для того, к чему мы обращаемся в этой книге: реальность – это процесс и результат постоянного тестирования взаимодействия внешнего и внутреннего. Под внутренним в данном случае мы понимаем субъектное действующее начало в человеке, включающее и сознание, и бессознательное, и тело. Эта реальность всегда переживается как относящаяся к людям или к тому, кто ее переживает (осознает), т. е. к «человеческому», к «своим». Если виноватый склонен расширять понятия «свои» и «человеческое», то эта реальность возникновения вины может включать и все живое – животных, растения, весь живой мир вокруг; неживое – произведения искусства, механизмы (машина, которую долго не мыли), камни, старые вещи (игрушки, «счастливая одежда») и т. п.; идеи (прежние убеждения и т. п.) и даже трансцендентное (духи, божества, небесные покровители и т. п.).
Необходимо небольшое отступление об экзистенциальных данностях. Наше понимание экзистенциальных данностей основано на взглядах Дж. Ф.Т. Бьюджентала, изложенных, в частности, в книге «Искусство психотерапевта» [19]. Мы понимаем экзистенциальные данности скорее как константы, определяющие наше бытие в мире, а не как проблемы, требующие решения (И. Ялом) [66]. Более подробно наш взгляд на экзистенциальные данности мы изложили во Введении.
Здесь мы не можем подробно останавливаться на природе и динамике экзистенциального кризиса. Необходимо лишь упомянуть, что экзистенциальный кризис представляет собой процесс из нескольких шагов, включающий осознаваемые и неосознаваемые действия и состояния. Экзистенциальным мы называем кризис, вызванный столкновением непосредственно с экзистенциальной данностью. Принято считать, что кризис вызывается столкновением с одной данностью. Наши наблюдения показывают, что в любом экзистенциальном кризисе мы имеем дело со всеми данностями сразу. Реальность на данности не делится, а дается нам сразу во всей своей полноте. Точно так же как не делится на конкретные характеристики (атмосферное давление, индекс солярности, сила тяжести, и так далее) среда, в которой мы существуем. Мы обращаемся к данностям по отдельности только в исследовательских целях, для удобства изложения.
В процессе жизни человек переживает не только экзистенциальные, но и обычные кризисы, связанные с недостатком ресурсов. Обычные кризисы разрешаются при добавлении ресурса (энергии, времени, действующих лиц, умений и навыков). А экзистенциальный кризис разрешается только при изменении системы конструктов «я-и-мир» конкретного человека.
Этапы (фазы) переживания вины (не всегда они есть все, и не всегда в таком порядке)
1. Собственно действие, нарушающее правила.
2. «Пребывание в невинности» – отрицание возможности собственной вредоносности, основанное на устаревшем, упрощенном образе реальности, который ощущается как несомненный. (ссылка Ролло Мэй «Сила и невинность»)
3. Оценка действия или его результатов другими людьми как нарушение правил.
4. Встреча с реальностью. Разрушение прежнего образа реальности. Удар по образу «я». Переживание первого экзистенциального кризиса от столкновения с реальностью и переживание себя субъектом. Встреча с данностью «укорененности».
5. Оформление переживания как вины.
6. Экспрессия вины, включая безотчетные первоначальные действия.
7. Осознание фатальности произошедшего. Второй экзистенциальный кризис от встречи с экзистенциальной данностью «конечность».
8. Одинокая пауза. Принятие, смирение или отказ признавать реальность. Обида. Обращение с новой реальностью (отказ или принятие). Работа механизмов психологической защиты.
9. Анализ ситуации в соответствии с результатами одинокой паузы. Выбор позиции – субъектной или объектной. Третий экзистенциальный кризис – от столкновения с данностями «возможность выбора» и «способность действовать и не действовать».
10. Вторая одинокая пауза. Четвертый экзистенциальный кризис от столкновения с данностью «отдельность-но-связанность», состоящий в необходимости определить на данный момент, насколько я человек, нужно мне соединяться с другими людьми или, наоборот, разъединяться.
11. Выход из вины – всегда действие (наказание, извинение, искупление, оправдание).
Мы решили не описывать подробно каждый из этих этапов, а показать их на примерах. Мы понимаем, что описываем очень скрытый процесс, соответственно, не каждый узнает собственные переживания в наших описаниях – и будет прав. Наша задача – создать первичное каркасное описание, которым можно будет пользоваться в работе, хотя бы по частям.
Пример «Особая сковородка»
Представим себе, что мы гостим в доме своих друзей. И как-то, проснувшись раньше хозяев, не желая их беспокоить, но испытывая сильный голод, собираемся приготовить завтрак самостоятельно. Мы не задумываемся и не сомневаемся – хозяева предоставили нам в этом смысле полную свободу. Решив приготовить себе яичницу, мы долго ищем сковородку и наконец находим. Успешно жарим себе омлет, на запах которого спускаются хозяева. И тут выясняется, что на этой сковородке готовить было нельзя, т. к. это была новая сковородка и она не прошла необходимых подготовительных процедур. И, приготовив на ней омлет, мы ее безнадежно испортили.
Рассмотрим на этом примере динамику переживания вины. В данном случае все условия возникновения вины соблюдены (см. выше).
1) Причиной всей ситуации стала ошибка коммуникации – а именно, упрощенный образ ситуации – и у нас, и у хозяев. Хозяева, предоставив нам полную свободу действий, не ограничили нас в отношении новой сковородки, решив, что она нам не понадобится. А мы, получив широкие полномочия, целиком положились на слова хозяев и на свою способность опознать неписаные ограничения. Мы посчитали, что если не собираемся бить посуду и пачкать обои, то наши действия вреда не нанесут. Такая уверенность в собственной невредоносности и благостности хорошо описывается термином «невинность», в понимании Р. Мэя[10] [37].
2) Руководствуясь своим невинным взглядом на эту ситуацию, мы совершаем действие (используем сковородку по прямому назначению).
3) И тут выясняется, что это было нарушение правил, нам об этом сообщают – что как раз эту сковородку брать было нельзя, и что мы нанесли хозяевам ущерб – то есть мы понимаем, что ошиблись в оценке себя и своих способностей, наша невинность оказалась подпорчена.
4) В результате мы испытываем шок – от ощущения лишения невинного взгляда на ситуацию наши представления о себе и окружающем мире разлетается вдребезги, мы переживаем первый экзистенциальный кризис (столкновение с данностью «укорененность» и переживание себя субъектом), связанный с тем, что мы – такие невредоносные, такие аккуратные, так тщательно соблюдающие все правила – их нарушили. Новая реальность состоит в том, что мы нарушили правила. В этот момент мы можем начать сопротивляться этой новой реальности – говорить себе, что мы не знали; что новые сковородки – это ерунда, что ими можно пренебречь, и так далее, испытывая при этом обиду, гнев, возмущение, некоторую дезориентацию.
5) Затем, будучи все же адекватными людьми, мы принимаем эту новую реальность, признаем себя субъектом нарушения правил и начинаем испытывать вину.
6) Далее, как мы описывали выше, мы судорожно пытаемся все исправить и делать «как было» – предлагаем помыть сковородку, купить новую, чувствуем себя ужасно, извиняемся, краснеем.
7) Но видя, что хозяева продолжают переживать потерю драгоценной сковородки и не готовы немедленно начать нам улыбаться и успокаивать нас, мы переживаем второй экзистенциальный кризис (от встречи с данностью «конечность»), осознавая, что ничего уже не изменить. Вред уже нанесен, «вернуть все, как было», не получится.
8) В этот момент наша активность падает. Мы перестаем суетиться и начинаем осознавать и переживать вину внутри себя.
9) Через какое-то время мы переходим к анализу ситуации, начиная размышлять, кто виноват, как так получилось и что теперь делать. Исходя из того, посчитали ли мы себя действительно виноватыми или жертвой обстоятельств, мы переживаем еще один – третий кризис, связанный с данностью «выбор» – мы выбираем свою реакцию, и свою последующую роль. Если мы сочли себя жертвой обстоятельств (выбрали объектную позицию), то переживание вины заканчивается здесь, сменяясь обидой, горем, беспомощностью и другими преимущественно «объектными» переживаниями[11]. Если же мы решили, что мы субъект и события произошли по нашей вине, то переживание вины продолжается дальше, переходя в свой пик.
10) В этот момент мы сталкиваемся с данностью «отдельность-но-связанность», фактически мы решаем вопрос о своей принадлежности к «своим». В соответствии с принятым решением мы строим стратегию и тактику разрешения ситуации. Мы можем решить вопрос в пользу связанности, и тогда дальнейшие действия будут направлены на осознанное восстановление отношений со «своими», на доказательство своей человеческой, «свояческой» природы – на извинение, искупление или совместное изменение правил. Если мы решим, что наши действия были правильными, законными, то мы направим усилия на изменение законов в свою пользу (докажем, что прежде чем пускать гостей в дом, драгоценные сковородки надо убирать в недоступное место или самим готовить гостям завтрак). Мы можем выбрать «отдельность», и тогда наши усилия будут направлены на доказательства своей правоты или на выход из общности с теми, перед кем мы виноваты.
11) Сделав этот глобальный выбор, мы, исходя из собственных особенностей, из ситуации, из того, насколько велика цена и редкость сковородки, насколько у нас близкие отношения с хозяевами, выбираем выход из вины, который всегда является действием, решением и обращен в будущее. Мы можем решить никогда больше ни к кому не ездить в гости с ночевкой – это самонаказание. Мы можем решить принести развернутые извинения хозяевам, предложить им возмещение ущерба, или искупление своей вины. В данном случае возмещением ущерба будет покупка такой же сковородки, а искупление вины будет зависеть от множества факторов, включающих погашение неурядицы, утешение хозяев и всех присутствующих. А можем все же решить, что мы – из разных «стай», а может быть, даже принадлежим к разным видам.
Описанный пример представляет собой классическую вину за ошибку. Но несколько иначе будет разворачиваться процесс переживания, если наши действия были направлены на причинение вреда.
Пример «Офисные интриги»
Предположим, мы решили организовать в выходные небольшой междусобойчик внутри тесного рабочего коллектива. Один из членов коллектива в последнее время много вредничал, конфликтовал с другими, и мы решили не посвящать его в наши планы. Мы прекрасно отдохнули, а потом выложили в соцсети фото с нашего отдыха. Счастливые, радостные лица всех членов коллектива, кроме одного. Мы прекрасно знаем, что он посмотрит эти фото и расстроится, а возможно, и обидится. Таким образом мы хотим показать нашему вредному сослуживцу, что нам не нравится его поведение. Наши ожидания вполне оправдываются: реакция коллеги вполне предсказуема. Он очень расстраивается, решает, что его унизили и отвергли и пишет заявление об уходе. Мы чувствуем себя виноватыми, осознавая, что нанесли вполне серьезный вред – и ему, и общему делу.
1) В данном случае мы исходим из того, что, во-первых, имеем право наказать нашего вредного коллегу. Возможно, потому что он нас достал своими выходками, возможно, потому что мы уже с ним разговаривали на эту тему и решили, что уже достаточно разговоров, а может быть, и не пробовали разговаривать, но очень долго копили в себе злость и раздражение. Неважно по каким причинам, но мы решили это сделать, потому что обижены. Ведь одна из составляющих переживаний обиды – это ощущение собственной праведности и борьбы за правила.
2) Во-вторых, не желая брать на себя личную ответственность обвинить коллегу в нехорошем поведении, мы привлекли к ситуации весь коллектив, усилив таким образом собственные позиции и заранее обеспечив себе поддержку. Что безусловно укрепило нашу «невинность». В-третьих, мы решили, что можем точно просчитать реакцию коллеги. Скорее всего, мы представляли себе, как он обиженно говорит нам, что хотел тоже поехать отдохнуть на выходные со всеми вместе, а возможно, даже сам признает законность наказания и обещает больше никогда не вредничать. Ожидания, описанные таким образом, выглядят глуповато, и, как минимум, самонадеянно. Но это вполне реалистичная картина. Если вдуматься, то некоторая примитивность этой картины вполне очевидна, но под воздействием эмоций, обиды и сбившись в стаю, мы ощущаем наш план как правильный, веселый и даже хитроумный.
3) Вполне возможно, что, тайком договариваясь, куда и как мы поедем, шушукаясь за спиной у коллеги, мы ощущаем еще большее воодушевление. Что-то в этом есть от приключения, вполне можно вообразить себя агентом 007. Мы с удовольствием проводим время в выбранном месте, возможно, даже обсуждаем, как у вредного коллеги вытянется физиономия, когда он узреет наши замечательные фотки. Гордые своей изобретательностью, мы выкладываем фотографии в сеть.
4) На следующее утро придя в офис на совещание, мы обнаруживаем, что нашего вредного коллеги нет, и начальник объявляет нам, что тот написал заявление об уходе, и спрашивает, что, собственно, случилось. Мы, пока еще уверенные своей правоте, объясняем, что случилось: что он в своем репертуаре, что он вел себя очень плохо, и мы решили не брать его на корпоратив, на что получаем откровенно отрицательную реакцию от начальника. Ему наша задумка не кажется уместной, и он объявляет нам, что наш коллега написал заявление об уходе, на работу не выйдет и виноваты в этом мы. Поэтому обязанности уволившегося распределяются между участниками корпоратива и не оплачиваются до тех пор, пока не будет найден новый работник.
5) Происходит встреча с реальностью. Мы понимаем, что поступили, как минимум, недальновидно. Что наши ожидания совершенно не соответствуют реальности. Что мы, такие умные, не просто ошиблись, но еще и навлекли на себя и на других существенные неприятности. Потихоньку до нас доходит, что объем работы увеличился в разы, что в ближайшее время нам не светит отдых и выходные. Мы внезапно осознаем, как зависели от нашего вредного коллеги. Мы испытываем шок от понимания того, насколько сильно повлияли на ситуацию, насколько велики ее последствия.
6) Когда шок проходит, мы начинаем понимать, что виноваты, начинаем чувствовать вину.
7) Наверное, мы попытаемся обзвонить знакомых, пожаловаться на самодура-начальника, на вредного коллегу, который «неизвестно на что обиделся». Возможно, даже попытаемся позвонить уволившемуся коллеге, чтобы извиниться и убедить его вернуться. В нашем примере все эти действия не приносят никакого результата и постепенно мы понимаем, что действительно виноваты во всей ситуации сами.
8) Мы начинаем понимать, что вернуть все обратно не получается и не получится. И возникает новый шок от осознания того, что прежняя жизнь кончилась. В этот момент мы ощущаем вину глубже всего, потому что вместе с ней еще ощущаем очень сильное одиночество. Это очень характерно для переживания экзистенциального кризиса. Переживания могут быть настолько сильными, что ощущаются как физическая боль. Или растерянность на грани с неспособностью двигаться. Возможно, в какой-то момент мы обращаемся к коллегам за сочувствием, но они могут напомнить нам, что это была наша идея, нам же и расхлебывать последствия. Но даже если коллеги выражают сочувствие – это лишь слегка облегчает ситуацию. Мы довольно ясно осознаем, что виноваты только мы сами. По счастью, этот момент довольно короток.
9) Постепенно шок от осознания, что все уже случилось и возврата к прежнему не будет, отступает, и мы погружаемся в одинокую паузу. Одинокая пауза обеспечивается в основном переживанием обиды – на то, что ситуация так сложилась, никто нас не уберег и не удержал, ну и так далее. В этот момент наконец включаются механизмы психологической защиты: вытеснения, подавления, отрицания. Мы отвлекаемся, эмоции сменяют друг друга, становятся менее острыми, от ругательств в свой адрес и в адрес коллеги мы переходим к более мягким формулировкам: «никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», «и на старуху бывает проруха», «век живи, век учись», и так далее. Именно в этот момент формируются две позиции относительно случившегося, мы пытаемся в общих чертах определить, что же это было – невезение (объектная позиция) или вредоносное действие (субъектная позиция), за которое последовала расплата. Сначала под воздействием эмоций эти позиции быстро сменяют друг друга в сознании, потом возбуждение снижается, силы истощаются, и постепенно к нам возвращается способность размышлять.
Мы переходим к анализу ситуации. В это момент происходит осознанный выбор позиции. Он может оформляться в виде кризиса, если выбор нам незнаком или слишком противоречит опыту, ценностям, мировоззрению. В этом случае мы делаем выбор как бы нехотя, против своего желания. Внутри могут происходить такие диалоги:
– Но он же сам напросился!
– Ничего он не напрашивался, это мне отомстить хотелось. За то, что он клиента увел, а так нельзя.
– Так сказать надо было! И клиента увести! А не народ подбивать.
– Сколько раз говорили! Он все равно гад!
– Ну и что, все равно нельзя было.
И так до бесконечности. Пока мы не придем к пониманию того, что произошло: кто и что делал, кто нарушил правила, какие правила были нарушены, каковы были реакции окружающих и наши собственные. И, на основании этого, мы выбираем позицию, кто виноват: мы – и тогда мы несем ответственность, или он, или начальник, или коллектив, или стечение обстоятельств. Если мы решаем, что нашей вины нет, то переживание вины или заканчивается здесь, или уходит в «хранилище незавершенных гештальтов»[12]. Мы вполне можем решить, что не виноваты, если не были нарушены правила, существующие в коллективе, или если не был нанесен вред, например, начальник, побушевав, сменяет гнев на милость, признает, что этот работник был не нужен и он сам хотел его уволить, только не знал, как. Или если выясняется, что наш коллега вообще не видел этих фотографий и смотреть не собирался, а уволился, потому что нашел работу получше. Правда, даже в этих случаях останется переживание нарушенных ожиданий в отношении собственной способности предусмотреть все последствия. Останется шок от неожиданности результата. И возможно, мы выйдем из этой ситуации с новым образом «я», обладающим характеристиками, о которых мы раньше не знали. В нашем примере это месть и удовольствие от предполагаемых чужих страданий.
Иногда бывает, что мы по каким-то причинам не можем сразу осознать все последствия своих действий и определиться со всеми характеристиками. Тогда ситуация как бы забывается (уходит в «хранилище незавершенных гештальтов») и не всплывает до тех пор, пока мы не встречаемся с информацией, позволяющей нам переосмыслить произошедшее и окончательно определиться с виной, ответственностью и вредом. Этот процесс может длиться много лет и таких окончательных определений может быть несколько. Они зависят от опыта, от изменяющейся ситуации и меняющихся правил.
Если мы признаем себя виноватыми, нам надо определиться, в чем именно виноваты, какие правила нарушали, какой вред причинили и кому, какие мотивы у нас были, чего мы хотели и какие результаты получились. В нашем примере расклад может выглядеть следующим образом.
Вредоносные действия: организовали для коллеги ситуацию отвержения со стороны группы.
Нарушенные правила: не вступать в тайных сговор против «своего», не нападать толпой на одного, не переносить рабочие конфликты в область личных, продумывать последствия действий дальше одного шага.
Причиненный вред: коллеге (отрицательные переживания, обида), организации (лишение работника), коллегам (увеличение нагрузки), начальнику (внеплановая ситуация, нарушение субординации), нам самим (лишение «невинности» в отношении собственной порядочности и интеллекта и социальное давление в результате причиненного вреда).
10) Вторая одинокая пауза. Четвертый экзистенциальный кризис от столкновения с данностью «отдельность-но-связанность», связанный с необходимостью определиться на данный момент, насколько я человек («свой»), нужно мне соединяться с другими людьми или наоборот разъединяться.
Этот этап возникает, если мы признаем всю ситуацию новой для себя. Если мы признаем изменение реальности. В зависимости от того, признали ль мы себя виноватыми и в чем, мы по-разному ведем себя. Если мы признали себя виноватыми, то пытаемся получить мнение окружающих, но делаем это совершенно не так, как делаем это, когда обижены. Обиженный человек старается всем рассказать о том, как его обидели, и получить поддержку. Виноватый – точно знает, что он получит порицание. Поэтому взрослый (начиная с семи лет) не очень стремится рассказывать о своей вине налево и направо, а пытается сначала организовать консилиум у себя в голове: вспоминает похожие случаи, реакции значимых людей на сходные ситуации. Эта фаза переживания напоминает одинокую паузу в обиде и внешне может выглядеть как оцепенение. В этот момент нам очень нужно решить – мы вообще можем что-то кому-то рассказать или это опасно для нашей жизни (имеется в виду не только опасность физического уничтожения, вреда или изгнания, но и опасность повреждения идентичности, образа «я»). Фактически нам надо предугадать возможное решение окружающих. Если в этом процессе нам вспоминаются противоречивые случаи, то мы гораздо легче обращаемся к реальным людям за советом. В этот момент нам важно именно определить свое место в ряду «своих, совершивших нарушение правил» и решить, сможем ли мы остаться «своими» после этого. Если решаем, что «своими» остаться невозможно, то скорее всего не будем никому рассказывать о том, что совершили, или расскажем тому, кто гарантированно нас не осудит. Если же мы считаем свой поступок простительным, то вполне можем обратиться к другим за пониманием, поддержкой, разъяснениями, легким порицанием или прощением. В нашем примере это может быть беседа с одним или несколькими коллегами, которые были с нами на тусовке, или даже разговор с начальником. Возможно, мы могли бы рассказать такой случай своим близким.
В данном случае особый интерес представляет форма рассказа: наш рассказ может быть просто изложением фактов и переживаний, тогда выше шанс получить легкое порицание или понимание. Но ситуация нарушения правила всегда содержит фабулу, которую легко превратить в драматичный или смешной рассказ. В этом случае нам легче получить эмоциональную поддержку. Ирония или осмеяние, направленные на виновника (на нас), могут служить дополнительным самонаказанием, так как ирония справедливо считается одним из видов агрессии. А если рассказ получился особо красочным и смешным, то есть шанс и смягчить порицание – мы все любим и ценим тех, кто нас смешит.
11) Выход из вины – всегда действие (самонаказание, извинение, искупление, оправдание).
Мы подробно опишем выход из вины в четвертой части. В нашем примере это может быть самый широкий спектр действий, в зависимости от интерпретации нами ситуации: звонок уволившемуся коллеге, разговор и извинение перед начальником, добровольное увеличение собственной нагрузки для обучения нового сотрудника, решение о том, что уволившийся был виноват сам, или различные формы самонаказания – от внезапного решения заменить выходные на внеплановую уборку в офисе до увольнения и бессонницы. В самооправдании и самонаказании наша изобретательность не имеет границ.
ВВЧ: Замечали ль вы у себя одинокую паузу, когда вы переживаете вину? Кого вы вспоминаете в ней, на кого опираетесь?
Глава 7. ФУНКЦИИ ВИНЫ
POU STO Хотим еще раз подчеркнуть, что феномены психики не стоит рассматривать с точки зрения актуальной на данный момент этики в конкретном социуме. Когда мы описывали функции обиды, мы говорили об основных, дополнительных и индивидуализированных функциях. Поддерживать такое разделение было довольно сложно, хотя функции обиды – достаточно явные, яркие и понятные. Все равно возникает множество сомнений относительно такого разделения, потому что сложно решить, что основное, а что дополнительное, то общее, что индивидуальное. Они еще и местами поменялись, пока мы писали! Функции вины описывать таким образом еще сложнее, поэтому мы объединили их в группы. Естественно, строго их разделить не получится – они перемешаны и переплетены, но все же мы считаем, что вина важна:
Для группы (социума).
Для конкретного человека.
Для взаимодействия между человеком и социумом.
Для результативности межличностного взаимодействия.
Для результативности во внутриличностном взаимодействии.
1. Итак, основная функция вины для группы и социума и главная функция вины вообще, на наш взгляд, – камертон отклонения действий человека от общепринятых норм поведения, а также возможного несовпадения индивидуальной нормы и общегрупповой. Переживание вины безусловно поддерживается социумом, это социально одобряемое переживание, вследствие чего естественно заподозрить в нем инструмент существования социума.
Кроме основной функции, есть еще множество не таких явных, но очень важных для существования социума и группы:
• автоматическая регуляция поведения членов группы через планирование такого поведения, которое позволяет избегать чувства вины это позволяет минимизировать издержки от частых нарушений правил;
• формирование у членов группы ответственности за свое поведение, которая подталкивает их к самостоятельному разрешению проблем, возникающих вследствие их поступков;
• эффективная регуляция состава группы (социума): нарушители правил уходят сами;
• средство консолидации группы;
• автоматический ограничитель гневных и агрессивных проявлений, которые угрожают другим членам группы;
• инструмент смягчения конфликтов;
• механизм выявления скрытых несформулированных норм.
Скорее всего, у вины есть и другие функции, важные для группы. Это зависит от группы, от культуры и от скорости изменения социума.
2. Вторая группа функций вины, с точки зрения конкретного человека, нам представляется наиболее умозрительной, но это не делает ее менее важной. На наш взгляд, у такой вины есть три основные функции:
• постоянная связь с собственной человеческой природой;
• постоянная связь с человечеством и группой;
• доступ к собственной субъектности.
Уже из описания динамики процесса вины понятно, что вина представляет собой практически мгновенный лифт в переживание основных экзистенциальных данностей. В частности, поэтому ее так тяжело переживать.
3. С точки зрения взаимодействия между человеком и социумом, на наш взгляд, основная функция вины:
• обеспечение непосредственной, чувственной (неосознаваемой) связи с нормативной реальностью социума;
• а также идентификация принадлежности к одной группе, признаком чего является наличие чувства вины в ситуации нарушения групповой нормы (в отношении чего-либо, что воспринимается чуждым, чувство вины может не возникать). Примером могут служить существующие в обществе двойные стандарты в отношении людей «не своего круга», «не той национальности» (уровня образования, расы и т. п.) и вообще «не нашего муравейника».
4. С точки зрения результативности межличностного взаимодействия основными функциями вины можно считать:
• умение вызывать чувство вины в другом человеке является безотказным средством манипуляции. Тот факт, что дети очень легко и быстро овладевают такими умениями, говорит о врожденном характере феномена;
• демонстрация чувства вины является способом снизить опасность со стороны потенциального агрессора, так как вызывает импульсивное торможение агрессии, если агрессор считает виноватого «своим»;
• переживание вины накрепко связывает человека с другими, перед которыми он чувствует себя виноватым. Такую связь невозможно разорвать до тех пор, пока существует вина. Эта функция является одним из возможных объяснений иррациональной вины перед умершим близким человеком.
5. С точки зрения результативности во внутриличностном взаимодействии, то есть в деле достижения внутренней гармонии и определения самоидентичности, основными функциями вины мы считаем:
• обозначение разницы между намерением и результатом, обозначение границ ответственности, что тоже оформляется разной интенсивностью чувства вины;
• обеспечение непрерывности восприятия собственной жизни за счет прочных воспоминаний;
• побуждение стараться предвидеть последствия своих действий или, по крайней мере, задумываться о них;
• принуждение пересматривать свои ожидания и индивидуальные нормы, не соответствующие реальности, ради того, чтобы избежать катастрофического переживания вины;
• поддержание эмоциональной целостности: переживание вины иногда единственное разрешенное, «законное» переживание в жизни человека (например, в силу условий роста или личной идеологии). По своей природе оно вмещает в себя множество чувств, давая возможность к ним приблизиться, сохранить способность их переживать.
Безусловно, это не все функции вины, даже если считать самые крупные и явные. Ниже мы приведем список функций вины, составленный психологами-участниками семинаров, посвященных вине и обиде, в период с 2011 по 2020 гг. Функции очень разные, в том числе стилистически.
Список функций вины:
• Острое переживание вины (настоящей или еще только воображаемой), будучи почти непереносимым, прекрасно отвлекает от страха, позволяет преодолевать его и даже не замечать.
• Иногда само переживание вины является основанием для ощущения морального превосходства и повышения самооценки.
• Память о пережитых моментах вины вследствие необдуманных или поспешных действий формирует почти автоматический тормоз, замедляющий импульсивные действия.
• Формирование ответственности человека как личностного качества в результате опыта попадания в ситуацию «виноватого», взятия на себя вины за содеянное и успешной переработки этого опыта.
• Обозначение разницы между намерением и результатом, обозначение границ ответственности, что тоже оформляется разной интенсивностью чувства вины.
• Катастрофическое и труднопереносимое чувство вины прекрасно закрепляет память о неудачном способе поведения, нарушающем групповые нормы, и препятствует его воспроизведению.
• Стремление избежать вины, но все же добиться своего тренирует креативность.
• Стремление избежать чувства вины стимулирует человека изучать окружающих и нормы поведения.
• Большее или меньшее чувство вины соответствует более или менее ценным отношениям, более или менее важным нормам и может служить индикатором близости.
• Страдания по поводу вины могут восприниматься (и, соответственно, переживаться) человеком как индульгенция и избавление от необходимости исправлять нанесенный вред или изменять свое поведение.
• Фиксация на чувстве вины дает возможность не жить в настоящем, пребывая в утраченном прошлом.
• Небольшая вина нужна, чтобы сохранить связь с тем, кого обидел.
• Большая вина нужна, чтобы разорвать связь с тем, кого обидел.
• Небольшая вина нужна, чтобы войти в новую группу.
• Большая вина нужна, чтобы выйти из группы.
• Чтобы получить от окружающих «поглаживание» за «правильные переживания» и «правильное поведение».
• Для создания границ действий.
• Как мотиватор обучения.
• Вина обогащает взгляд, способствует децентрации.
• Вина нужна для легализации боли, если боль социально неприемлема.
• Вина нужна для придания формы переживаниям (боли, гневу, злости…).
• Выражение вины вызывает автоматические реакции: жалость, сочувствие (в том числе, в отношении себя).
• Вина – это форма признания поражения с сохранением субъектности.
• Вина нужна как замена жертвенности – я виноват, я уступаю, я делаю это сознательно, по собственному выбору, а не как жертва обстоятельств или насилия.
• Вина – как замена действия – бездействие с сохранением субъектности.
• Вина как средство почувствовать живым себя и другого.
• Выражение вины как средство избежать обвинений.
• Вина легко становится автоматической реакцией – это пригодно для создания опоры в ситуации высокой неопределенности.
• Вина – способ повысить самоуважение.
• Вина как гарантия нормальности.
• Вина – это защита от всемогущества.
По мере изменения реальности жизни людей меняются и функции переживаний, так что, скорее всего, есть еще и «региональные», и «внутригрупповые» и «семейные» функции вины. Обратите внимание, последние две функции в списке были сформулированы в 2011 году и больше ни на одном семинаре не повторялись. Возможно, это признак того, что эти функции утратили свою актуальность.
ВВЧ: Попробуйте самостоятельно распределить по группам функции в списке. Наш вариант вы найдете в приложении.
Диалог «Революционэры»
Психолог: Что-то ты неважно выглядишь.
Клиентка: Будешь тут хорошо выглядеть, когда работаешь по 12 часов.
Психолог: Что, начальник опять заставил сверхурочно работать?
Клиентка: Ага, заставил. И платить не хочет, тычет мне в договор, про форс-мажорные обстоятельства.
Психолог: А у юриста была?
Клиентка: Да не буду я ничего делать, все бесполезно.
Психолог: Совсем все?
Клиентка: А что, нет?
Психолог: Ну хоть посоветуйся с кем-нибудь, с коллегами поговори.
Клиентка: Все равно потом останусь крайней, даже если выясню, что все на моей стороне.
Психолог: Что значит «крайней»?
Клиентка: Да виноватой во всем, непонятно, что ли?
Психолог: Ну расскажи поподробнее.
Клиентка: Ты что, не знаешь, как это бывает? Когда на того, кто больше всех выступает, все и обижаются.
Психолог: Что, ситуации были?
Клиентка: Были, и не раз. Чего рассказывать-то, все равно никакого толку. Все как у всех.
Психолог: Я вижу, что тебе тяжело об этом говорить. Выглядит так, будто ты боишься повторить какую-то ситуацию. Может, расскажешь?
Клиентка: Ладно уж, расскажу. Я в провинции училась. У нас там все попроще и почти по-семейному. В школе все друг друга знали, учителя цапались между собой, но, в общем, не страшно, хорошие были, в основном. А потом у нас учительница старенькая ушла на пенсию и нам прислали какую-то грымзу из администрации города. Ей для чего-то нужен был педагогический стаж. Мы довольно быстро поняли, что она – учитель начальных классов. Она от нас требовала, чтобы мы вставали обязательно для ответа, чтобы отвечали по какой-то странной форме, в угол нас пыталась ставить. А мы в 10-м классе были уже, привыкли с учителями свободно общаться, чай лучшая гимназия в городе, все олимпиады наши были. Мы сначала даже не злились, а просто смеялись, но потом поняли, что она нам историю заваливает, по которой большинство ЕГЭ собиралось сдавать. Историю-то за день не выучишь. Ну мы и организовали протест. Демонстративно не явились всем классом на урок, составили список претензий, собрали подписи. Правда, подписи брали не у всех. У нас в классе человек шесть детей городских чиновников было. Мы понимали, что им не надо в это влезать. В принципе, можно сказать, что у нас даже получилось, нас выслушали, учителя нас поддержали. Петицию взяли, никто не умер, никого не наказали. Грымзе, правда, как с гуся вода – год у нас довела и делала вид, что ничего не произошло, только в угол нас перестала ставить. Правда, в 11-м классе уже другой, хороший учитель был (пауза).
Психолог: А дальше?
Клиентка: Вот именно, что ничего дальше. Никакой радости не было, только чувство вины почему-то и неловкости.
Психолог: Перед кем?
Клиентка: Перед грымзой и почему-то перед теми ребятами, у которых подписи не брали. Они сами себя неловко чувствовали, и мы тоже их сторонились, хотя все понимали, что это правильно было, и все равно.
Психолог: А еще перед кем?
Клиентка: Я не знаю, как сказать, только замах у нас был рублевый, а результат нулевой. Митинговали, все по-взрослому, петиция, подписи, а толку-то? Грымза все равно нам предмет завалила. Весь класс потом к репетиторам ходил. Весь материал за 10-й класс пересматривали. Так что перед собой, наверное, вина, не знаю.
Психолог: И ты теперь ни во что ввязываться не хочешь?
Клиентка: Без толку все это, только отношения испорчу и виноватой себя буду чувствовать. Даже если формально ни в чем не буду виновата.
Психолог: Да, с твоей виной явно надо разбираться, а то кто его знает, чего твой начальник еще от тебя потребует.
ВВЧ: Какие функции выполняет переживание вины для героини этого диалога? Наш вариант найдете в приложении.
Глава 8. «ОСОБЫЕ ВИНЫ», НЕ СВЯЗАННЫЕ С ДЕЙСТВИЕМ, НАРУШАЮЩИМ ПРАВИЛА
POU STO Вина – феномен не только многообразный, но и очень сложный. Наши деления вины на разновидности, виды и так далее, вполне условны. Мы описываем разные виды вины фактически только для удобства чтения и понимания. В каждой разновидности можно найти признаки другой разновидности, другого вида вины, никаких жестких границ между ними, на наш взгляд, нет. Кроме того, не будем забывать, что наше представление об эмоциях как об отдельных и даже самостоятельных феноменах относится к реальности переживания, как коробка с красками относится к картине. В реальности все перемешано и направляется смыслом, который у каждого свой.
Мы называем особой ту вину, которую принято считать и называть иррациональной. Это та вина, что сопровождает ситуации, в которых не только не было прямых вредоносных действий, но и не было возможности их совершить. Особые вины практически всегда перемешаны со стыдом. Самые известные и распространенные особые вины это:
• вина за утрату,
• вина выжившего,
• вина за отсутствие всемогущества,
• вина за существование,
• вина за чужое страдание,
• особая родительская и детская вина,
• вина за особую телесность,
• коллективная вина.
Список особых вин можно продолжать до бесконечности. Туда входят и вина свидетеля, и вина за вред, причиненный собственному телу, и вина за «неверный выбор» в ситуациях иллюзии выбора, и множество других – они возникают по мере того как меняется наша жизнь, отношения с окружающим миром и, соответственно, наша субъектность. Мы коснемся только самых распространенных.
Нет действия, но есть переживание субъектности. То есть человек, не совершивший вредоносное действие, не имевший возможности совершить правильное, хорошее действие, ощущает себя так, будто он совершил вредоносное действие или имел возможность совершить хорошее, то есть предотвратить вред, но не сделал этого.
Есть расщепление, то есть человек мучается от того, что спорят и объявляют друг друга чужими его внутренние части, как правило, представляющие разные упрощенные образы идеальной ситуации (например, «супермен» и «марионетка»).
Есть иллюзия выбора – в ситуациях, когда человек временно лишается субъектности – становится физическим объектом (падает на кого-то, например) или точкой приложения сил, несопоставимых с ним (природы, времени, уголовного права и т. п.)
По-видимому, особая вина является в том числе и действием by proxy[13], стабильным и постоянным выражением данности связанности.
В первой части книги, когда мы обсуждали обиду, мы немного касались этой темы (диалог «Кошелек-талисман»). С точки зрения рационального взгляда вина за утрату по большей части непонятна и необоснованна. «Законно» ругать и винить себя мы можем, только если что-нибудь потеряли («растяпа») или сломали («руки-крюки»). Но в большинстве ситуаций утраты мы является пострадавшей стороной и переживание чувства вины необъяснимо – «это у меня украли, у меня отобрали, меня бросили, у меня умер близкий человек». Казалось бы, в этих ситуациях естественно чувствовать обиду и горе, и их мы тоже переживаем, но вместе с ними мы почему-то переживаем вину: странную, необъяснимую и от этого еще более неприятную.
Диалог «Проданное детство»
Психолог: Ну как твои дела с наследством? Удалось?
Клиентка: Да, все продали.
Психолог: Это хорошо или плохо?
Клиентка: Сама не знаю, грустно как-то, хотя вроде все правильно (пауза). Ну не переезжать же мне туда?!
Психолог: Ты чего кричишь? Я вроде еще ничего не сказала.
Клиентка: Да не знаю я! Плохо мне почему-то. Вспоминается, как мы там жили, как мы там в прятки играли, как я стены красила, как пахло на кухне бабушкиной выпечкой… (Плачет.)
Психолог: Жалко?
Клиентка: Я даже не знаю… И жалко, и как-то плохо, какая-то тяжесть в животе, на душе неспокойно, как будто что-то плохое сделала.
Психолог: Плохое?
Клиентка: Да, вот неправильное что-то, как предательство вроде (пауза). Ну не могла я этот дом оставить! Нам деньги нужны, и наследники не только мы! Ну не могла!
Психолог: Да я не возражаю
Клиентка: Я сама себе возражаю! Чувство такое, будто собаку на улицу выгнала…
Психолог: Виноватой себя чувствуешь?
Клиентка: Да не в чем мне, а все равно чувствую. Ну все ведь правильно, ну как же так… Пустота какая-то, больно.
Психолог: Так утрата у тебя, горе.
Клиентка: Да про горе-то я понимаю, но я же сама хотела его продать, там же жить все равно нельзя, а деньги очень нужны, как раз на то, что я хочу, ты же знаешь.
Психолог: Ты что, оправдываешься?
Клиентка: Но я же ничего плохого не сделала. Но почему-то хочется объяснять и оправдываться все время, всем объяснять. Ну почему нельзя сделать так, чтобы и деньги, и ничего не продавать, чтобы не нужно было избавляться и лишаться! (Пауза.) Но мне же этот дом не нужен. Ну почему я себя такой виноватой чувствую? Как будто от того, что я его продала, все, что там было, как-то изменилось… То ли не мое стало, то ли неважное.
Психолог: Оторвалось?
Клиентка: Да (плачет). Как из-под ног выскочило… Но оно же было!
Психолог: Было. Только сейчас ты на это со стороны смотришь. На то, что было. Вспоминаешь уже как прошедшее.
Клиентка: Да, похоже. Пока не продали, все казалось – можно вернуться, все заново пережить.
Психолог: Да, действительно, вернуться уже не получится, но можно вспоминать (пауза). Чтобы не сомневаться, что было. Чтобы можно было опираться.
ВВЧ: С какими экзистенциальными данностями повстречалась, на ваш взгляд, женщина из этого примера?
Можно приводить десятки примеров такого рода вины, когда утрата чего бы то ни было или даже просто изменение каких-то важных процессов в нашей жизни вызывает чувство вины. Может быть, поэтому мы так не любим изменения. Потому что любое изменение – это утрата чего-то прежнего, что жило с нами и было нашим.
Мы не будем касаться вины, сопровождающей более обширные и тяжкие утраты, нам важно сказать только, что любая утрата сопровождается чувством вины. Рано или поздно это выходит на первый план. И очень часто, скорее поздно, чем рано – тогда, когда мы уже мы не знаем, что делать с этой виной, и откуда она пришла. Такие вины редко растворяются сами, скорее они уходят в бессознательное, чтобы в какой-то момент всплыть и послужить топливом в похожей ситуации переживания вины.
На наш взгляд, вина при утрате указывает на то, что мы потеряли что-то важное, что-то свое. Что-то, что переживается важной частью нашего существования. Иногда только переживание вины при утрате указывает на то, что мы присвоили утраченное, что оно было «своим»[14]. Видимо, при утрате нарушается правило «свое не бросать», «своих не терять». И мы испытываем вину не за действие, а за сам факт утраты. Как нам кажется, у вины при утрате есть еще одна функция – заставить нас что-нибудь сделать. Ведь выходом из вины, как правило, является действие. Действия могут помочь выйти из ступора, из пассивного переживания горя. Возможно, найдутся и другие полезные функции у этого «иррационального» переживания.
Словосочетанием «вина выжившего» мы обозначаем особую вину, которая возникает у всех нас, когда умирают наши близкие и знакомые. Такая вина тем сильнее, чем сильнее мы отождествляем себя с тем, кто ушел. Чем больше нас касается эта смерть, тем острее наше переживание вины. Эта разновидность особой вины хорошо знакома специалистам. В отличие от всех остальных видов вины – с ней начали работать довольно давно. О ней начали много говорить и даже искать способы с ней справиться после Второй мировой войны. В нашей стране такого рода переживаниям посвящено огромное количество литературных произведений, а психологи-консультанты начали с ней работать только после афганской войны (М.М. Решетников) [46]. В США эта работа началась гораздо раньше, психологи разработали специальные методики реабилитации еще для ветеранов корейской и вьетнамской войн. Вина выжившего мучает не только ветеранов войны, смерть близких случается с нами и в обычной жизни – мы теряем родителей, друзей, коллег, сверстников. Каждый раз при таких потерях мы ощущаем этот особый вид вины за то, что другой человек, такой же, как я, уходит, а я остаюсь жить. Такая вина несет в себе, помимо уже описанных экзистенциальных кризисов, еще и дополнительное столкновение с данностью «конечность». Столкновение с этой данностью, как правило, вызывает не только страх, но и пересмотр своей жизни с точки зрения осмысленности и ценности. Такая вина не дает нам забыть о конечности собственной жизни. Против вины механизм психологической защиты работает хуже, чем против страха, позволяя переживанию дольше обращать нас к реальности. Но все же в конце концов защиты срабатывают. И через некоторое время после столкновения со смертью «своих» или «таких же, как я», вина отходит в тень, довольно часто оставляя нам непонятные изменения поведения, причем иногда опасные: разного рода тревожные расстройства, цинизм, мизантропия, избегание близких отношений, и т. п, а иногда довольно безобидные.
Диалог «Балагур»
Психолог: Ну как дела?
Клиент: Да так, знаешь ли, с кондачка и не расскажешь сразу. А ты: с места – в карьер! Раз, два и – в дамки.
Психолог: Извини, я давно хотел спросить, откуда у тебя эти обороты появились? Ты в последнее время так и сыплешь этими пословицами, поговорками.
Клиент: Да? А мне кажется, я все время так говорил (пауза). И отец так говорил. Он, правда, больше матом, у него красиво выходило. Я, кстати, себя тоже на этом ловить стал. На совещании все хочется для ясности свои предложения малым шкиперским загибом подкрепить. Начальница на меня уже коситься стала… У меня отец боцманом по Волге ходил.
Психолог: Отец?
Клиент: слушай, я тебе не рассказывал… А ить правда. Мы все о работе да о работе, об жизни и поговорить не с кем. Не говоря уж об смерти.
Психолог: Ну вот опять.
Клиент: Да, это цитата. Фильм такой был «В огне брода нет». Отец его любил. Он полгода назад умер.
Психолог: Мои соболезнования. Ты не говорил об этом.
Клиент: Не говорил. Как-то к слову не пришлось…
Психолог молчит.
Клиент: Ты понимаешь, он от нас ушел, когда мне 10 лет было. Отношений у нас, считай, не было. Он жил в том городе, из которого я приехал. Я к матери когда приезжал, с ним виделся пару раз, ну выпивали, сидели, слушал я, как он говорил. Все думал, ну вот… Да не знаю, о чем я думал. Я как раз не мог себе объяснить, чего я к нему хожу. Он красиво говорил. Он с Севера был, и у него такой говорок был, и сыпал всегда пословицами, поговорками. Меня это раздражало. А сейчас я сам стал так говорить. Каждый раз, как пословицу произношу, я его вспоминаю. Не знаю, чувство такое странное… (Пауза.)
Психолог: Какое?
Клиент: Не знаю. Такое… эхо как будто.
Психолог: Пустота что ли?
Клиент: Ну как в пустой комнате. В которой, если разговариваешь, то она вроде и не пустая.
Психолог: Ты его слова повторяешь? Вместо него?
Клиент: Выходит, так. Мы ведь так и не поговорили. Он ведь не старым человеком умер. Может, ему помощь нужна была… (Пауза.) Да нет, не принял бы он помощи, не мог я ничего сделать. Но вот теперь его слова повторяю. Хоть так.
Психолог: Как искупление?
Клиент: Ну немножко.
У персонажа этого диалога чувство вины выливается в воспроизведение стиля разговора умершего отца. Феномен достаточно безобидный, но неприятный своей непонятностью, бесконтрольностью и стихийностью. Вина выжившего, безусловно, может принимать и более жесткие формы. Выжившим кажется, что они обязаны что-то сделать для умершего. Устроить самые пышные похороны, наказать врачей или соседей, или еще кого-то, кто кажется виноватым в смерти близкого, устроить музей в комнате умершего, не замечать живых вокруг себя, не радоваться, не жить. Эта вина остается с выжившим до тех пор, пока не разрешатся экзистенциальные кризисы, лежащие в основе этой вины.
ВВЧ: Знакомо ли вам понятие «долг перед умершим»? И с какими его формами вам приходилось сталкиваться?
Сама по себе формулировка «вина за отсутствие всемогущества» выглядит абсурдной, но это именно то, что мы испытываем в определенных ситуациях и обстоятельствах. Эти обстоятельства и ситуации не так уж редко встречаются. Например, с определенного момента и при определенных обстоятельствах такого рода вину испытывают почти все родители. Вспомните, как часто вы слышали или сами произносили фразу: «Мне нужно было это предвидеть», «Я ведь мог сообразить заранее», «Мне просто нужно было постараться», – в отношении болезней, травм, в общем, любых неприятностей, которые выпадают на долю детей. Родители считают, что они должны предусмотреть все. А потом терзаются виной, когда дети терпят неудачи, падают, ранятся, попадают в страшные ситуации и так далее. Переживание вины за отсутствие всемогущества составляет немалую часть родительства – в самом широком смысле этого слова. Но вину за отсутствие всемогущества переживают и дети.
Диалог «Немолодая мама»
Психолог: Ну что тебе в университете ответили?
Клиентка (уныло): Ответили, что в любой момент ждут меня на собеседовании в Москве.
Психолог (улыбаясь): Ооо, поздравляю! А ты боялась, что не пригласят.
Клиентка (так же уныло): А толку? Я все равно не поеду.
Психолог: Вот те раз! А почему?
Клиентка (вяло): Да ты что! Как я маму оставлю?
Психолог: А почему маму нельзя оставлять? Что-то случилось?
Клиентка (так же уныло): Она без меня пропадет, вообще не справится.
Психолог: Давай поподробнее, я ничего не понимаю!
Клиентка (раздражаясь): Что тут непонятного? Маме без меня будет плохо.
Психолог: Ну, наверное, ей как-то придется привыкать жить без тебя, здесь. Она же переезжать не собирается?
Клиентка (рассудительно): А я не хочу, чтобы ей было плохо. Я хочу, чтобы ей было хорошо.
Психолог: А мамино «хорошо» только от тебя зависит?
Клиентка: Ну… Может, и не только от меня.
Психолог: А мама-то что говорит по поводу твоего переезда?
Клиентка: Да мама, конечно, скажет: «Езжай!» Но я же знаю, что ей плохо будет.
Психолог: Слушай, ты меня запутала. Если мама скажет: «Езжай», – значит, она как-то представляет, как она будет без тебя жить?
Клиентка (горячо): Ну конечно, она вообще себя забросит, и будет только работать! Если бы не я, она бы вообще с работы не уходила. А это вредно, в ее-то возрасте. Она уже немолодая!
Психолог: Сколько лет маме-то?
Клиентка: 43!
Психолог закашливается.
Клиентка: Да! Ей гулять надо, спортом заниматься. А если я с ней в фитнес-клуб не пойду, то она и пропускает.
Психолог: Может, она другую какую-то компанию найдет?
Клиентка: Ой, я сколько раз уже ее знакомила! Вот если бы она замуж вышла, я бы спокойно уехала.
Психолог: Ну что, по-быстрому выдаем ее замуж, и ты едешь учиться?
Клиентка смеется. Пауза.
Клиентка: Ты понимаешь, мне очень хочется, чтобы ей хорошо было, она столько намаялась с отцом – и с его пьянством, и с его болезнью, и со смертью, в конце концов. Мне так хочется, чтобы у нее все хорошо было, чтобы она счастливая была.
Психолог: Я понимаю. Только это не всегда в наших силах – сделать счастливыми тех, кого мы любим.
Клиентка: Вот это-то и страшно. Я не смогу в Москве счастливой быть, потому что буду чувствовать себя все время виноватой.
Психолог: Из-за того, что мама несчастна?
Клиентка: Да.
Психолог: Ну не в твоих же силах такие вещи устраивать.
Клиентка: Я понимаю, и все равно чувствую себя виноватой.
Психолог: Слушай, ну если ты кого-то любишь, ты всегда хочешь, чтобы этот человек был счастлив, но не всегда можешь это обеспечить. Просто потому, что силы твои ограничены.
Клиентка (обиженно): Это твои ограничены! А я все равно ее не оставлю! Иначе загрызу себя! (Плачет.) Что же мне делать?!
ВВЧ: Как формулируется внутренняя норма у нашей клиентки из этого примера, которую она нарушила бы, уехав учиться в Москву?
Каждый из нас может вспомнить десятки случаев переживания вины за то что не успел, не смог, не получилось: не побежал быстрее, не мог сообразить, не мог вовремя подставить руку, плечо, не смог сдержаться. Во многих таких случаях речь идет чаще всего о вине за отсутствие всемогущества, и переживается такая вина довольно тяжело. Подробнее об этом ниже.
Можно сказать, что этот вид вины относится к системообразующим факторам, т. е. к тем, что формируют саму личность человека. Человек, обладающий таким складом личности, не чувствует вины. Но все время ведет себя так, будто он виноват. Можно даже сказать, что вина и связанные с ней действия составляют основное содержание его жизни. Здесь мы только проиллюстрируем этот феномен.
Диалог «Извините, пожалуйста»
Клиентка: Извини, пожалуйста, задержалась! Там человек так машину поставил, что мне не выехать было. Пока я ему говорила отъехать, пока там всех остальных успокоила – время прошло.
Психолог: Ты ж предупредила, все нормально. Садись.
Клиентка: Ой, извини, я сначала руки вымою (выходит, возвращается). Ну извини, пожалуйста, за все хваталась, пока с машиной разбиралась, руки вроде вытерла, но хотелось вымыть.
Психолог: Ну понятно, все нормально.
Клиентка: Как нехорошо получилось, опять опоздала, такой виноватой себя чувствую.
Психолог: Ты же уже извинилась.
Клиентка: Но мне кажется, что ты на меня сердишься, я прямо даже уже не знаю, как сказать.
Психолог: О чем?
Клиентка: Да мне кажется, что вот всю эту историю с парковкой моей дурацкой ты считаешь глупостью, что я не должна была так поступать.
Психолог: Слушай, я еще ничего не понял и еще ничего не считаю!
Клиентка: Ну вот опять я заторопилась, я всегда так тороплюсь, это так плохо…
Психолог: Слушай, хорош себя обвинять!
Клиентка: А я что, себя обвиняю?
Психолог: Ну смотри, ты уже минут 15 беспрерывно извиняешься!
Клиентка: Ну да, это глупо, извини.
Психолог: Да что ж такое!
Клиентка: А, что, опять? Ну я больше не буду.
Психолог: Ты все время чувствуешь себя виноватой?
Клиентка: Да нет! Но мне все время кажется, что все на меня сердятся, что всем неудобно со мной, я такая неловкая, несуразная.
Психолог: Что-то я не замечал.
Клиентка: Ты просто мало меня знаешь.
Психолог: Подожди, ты сейчас опять начнешь!
Клиентка: Да (вертится в кресле, поправляет прическу, переставляет ноги).
Психолог: Тебе неловко?
Клиентка: Да, мне хочется продолжать извиняться. У меня тяжелый случай, да?
Психолог (улыбается): Разберемся.
ВВЧ: Есть ли среди ваших знакомых такие люди? Легко ли с ними общаться?
По большому счету, вина за чужое страдание – это вина за беспомощность, за бездействие в ситуациях, когда никакие наши действия и не предполагаются. Случается такое, что мы оказываемся просто наблюдателями чужого страдания, не имея никакой возможности как-то его облегчить.
Безусловно, чужое страдание вызывает у нас сходные эмоции (страдание) за счет механизмов эмпатии, сопереживания и сочувствия (Р. Сапольски, С. Порджес) [49, 45]. Но возникает еще и переживание чувства вины. Эта вина является вариантом вины за отсутствие всемогущества, но осознается и переживается по-другому – как вина за неспособность прекратить все страдание в мире. При этом, переживая ее, мы вполне понимаем абсурдность такой постановки вопроса. Но вина все равно остается. Видимо, как допуск к человечности, как показатель того, что мы все связаны жизнью, планетой, мирозданием[15].
Диалог «Одинокий пес»
Психолог: Ты что такой помятый, не выспался?
Клиент: Да соседка, зараза, собаку завела, а самой целыми днями дома нет. Вот я с семи утра и слушаю, как за стеной страдает животина.
Психолог: Скулит?
Клиент: И воет, и плачет. Жалко, сил нет. И сделать ничего не могу.
Психолог: Очень тебе сочувствую, прямо очень. А соседка знает, что пес воет?
Клиент: Знает, я уже к ней ходил, разговаривал. Не помогло.
Психолог: А что она может сделать? На работу не ходить?
Клиент: Да не знаю я, что она может сделать. Ничего она не может тоже. Зачем собаку заводила? Вообще…
Психолог: А ты у нее спрашивал, не голодный ли он? Все там у него есть-то?
Клиент: Да не в этом дело. Сыт он и здоров, я его видел. Но нам вот тут все объясняют, что собаки уверены, что хозяин навсегда ушел. Тоскует. А с этим-то что сделаешь?
Психолог: Тоскует. Зато радуется потом. Может, он привыкнет? Щенок еще?
Клиент: Да, щенок. Думаете, подрастет, и это пройдет у него?
Психолог: Ну надежда есть на это.
Клиент: А мне-то что делать? Как от этого чувства вины избавиться? Что рядом со мной животина страдает, а я сделать ничего не могу.
Психолог: А ты что – хотел бы оставаться спокойным, равнодушным?
Клиент: Да нет, я же нормальный живой человек.
Психолог: Значит, будешь реагировать на чужие страдания. Другое дело, что есть разница между сочувствием и виной. Если можешь что-то сделать – погулять, или еще что – значит, надо это сделать. Если не можешь – значит, надо напоминать себе, что сделать не можешь, и просто сочувствовать.
Клиент: Небогатый выбор.
Психолог: Какой есть. А еще – посоветуй соседке котенка завести. Если поладят – выть перестанет.
ВВЧ: А как вы справляетесь с подобными ситуациями? Что вам помогает?
Надо сказать, что родительская и детская вина по определению являются особыми, потому что почти всегда содержат в себе компоненты, не связанные с действием или бездействием, нарушающим правила. Быть родителем и быть ребенком – значит принадлежать роду, то есть эти роли изначально предполагают ограничение субъектности и особую идентичность. Субъектность родителя и ребенка существует в рамках описания поведения персонажей «Хороший Родитель» и «Хороший Ребенок» (Э. Берн) [14] и регулируется прописанными там «правилами». А особая идентичность определяется внутренним ощущением совпадения своего поведения с этими описаниями – насколько я совпадаю с тем самым «Хорошим Родителем» или с «Хорошим Ребенком». Насчет происхождения этих персонажей существует несколько теорий (разные течения в психоанализе, юнгианский анализ, транзактный анализ, психосинтез, диалог голосов и другие). Соответственно теориям, поведение и функции этих персонажей (роли) и описываются по-разному. Содержание этих ролей чрезвычайно сильно зависит от культуры, субкультуры, местности и семьи, которым принадлежат люди-носители персонажей. Дискуссия по поводу того, как образуется набор правил и предписаний, описывающий поведение этих персонажей, уже занимает многие тысячи томов, в эту книгу она не поместится. Нам надо только отметить, что почти все авторы сходятся на том, что персонажи «Хороший Родитель» и «Хороший Ребенок» содержат в себе части коллективного и личного бессознательного, а также ранний детский опыт.
И все же среди особых по определению родительских и детских вин есть еще более особые. Зачастую их возникновение связано с изначальной невозможностью хорошо исполнять роль родителя и ребенка.
Диалог «Двигатель»
Психолог: Ну как, к врачу сходили?
Клиентка начинает плакать.
Психолог: Что такое? Что-то новое обнаружили!?
Клиентка: Ничего нового, все то же самое!
Психолог: (выдыхает) Слава богу! А то я уж подумала, еще что-нибудь нашли.
Клиентка: Да какая разница? Я и так ничего не успеваю. Кучу проблем просмотрела, вовремя не диагностировали, теперь все это в разы сложнее восстанавливать. Надо было на врача учиться, а не вот это все. Тогда бы могла вовремя дочке помогать.
Психолог: Ага, и переучивалась бы каждый год. Она ж у тебя орфанник[16]! На них, во-первых, никто не учит, а во-вторых, системы страдают разные, ты ж каждый раз в трех отделениях лежишь с ней. И наблюдаетесь вы в разных центрах в течение года.
Клиентка: Ты это врачу объясни нашему! Она как начнет спрашивать, что делали, а что нет – и оказывается, что только часть назначений выполнена, потому что только 24 часа в сутках и только 7 дней в неделе. А я еще работаю. И вообще, я же одна с ней.
Психолог: Ты перед кем оправдываешься?
Клиентка: Я не оправдываюсь! Но ты пойми: и массаж, и процедуры, и психолог, и нейрофизиолог, и ЛФК, и все исследования, анализы плюс комиссия по инвалидности…
Психолог: Ты оправдываешься. (Пауза.)
Клиентка: Ну так а кто виноват кроме меня? Это же мой ребенок – мне и отвечать.
Психолог: За что? В чем ты виновата?
Клиентка: В том, что такого ребенка родила. Со всеми несовершенствами и трудностями.
Психолог: Ты что, как-то специально это делала? В беременность пила, гуляла? Рожала в поле под кустом?
Клиентка: Да нет, конечно. Все было как положено.
Психолог: Тогда в чем ты виновата? Что ты плохого сделала?
Клиентка: Ты не понимаешь! Я не обеспечила ее здоровьем!
Психолог: А это что – в твоих силах? Ты лично генные комбинации перебирала? Сознательно с поломкой выбрала?
Клиентка: Что ты издеваешься?
Психолог: Я не издеваюсь, я понять хочу, в чем ты себя обвиняешь?
Клиентка: Ну не знаю я, все равно виновата. Лучше я буду виноватой, чем обиженной.
Психолог: Как это?
Клиентка: Так это! Все тебе объяснять надо. Ты что, не понимаешь? Если я буду обижена, у меня сил ни на что не хватит, ты представляешь, какая это обида? На кого мне обижаться? На Бога? На судьбу? На мир вокруг? От такой обиды и помереть можно. А кто тогда ребенка будет поднимать?
Психолог: Вина тебя двигает, получается?
Клиентка: Да, получается. Только сейчас поняла. И всякие выкрутасы дочери терпеть легче.
Психолог: Да, непростая ситуация. Вина – тоже не витамины, хоть в твоем случае и лучше обиды. И дочке границы ставить надо, нельзя все подряд терпеть. Будем разбираться.
ВВЧ: Какие еще типы особой вины присутствуют у героини этого диалога?
Диалог «На страже»
– Васек, пойдем в футбол играть!
– Нет, я пошел уже домой.
– Да рано же еще, пойдем поиграем!
– Нет, мне отца встречать надо с работы.
– А чего его встречать-то? Сам не дойдет, что ли?
– Может, и дойдет, только по пути в магазин зарулит, и все. Вон у нас на углу разливайка.
– А че, с тобой, что ли, не зарулит?
– А со мной не зарулит, я до дома доведу, отвлеку как-нибудь.
– Так рано же еще! Он еще на работе у тебя.
– Думаешь? Ну ладно, пойдем погоняем немножко.
Через некоторое время.
– Серега, посмотри, сколько времени? У меня телефон разрядился.
– Семь уже! Без десяти.
– Е-мое! Опоздал! Ну все, капец!
– Да ладно тебе! Что, теперь и не погулять, что ли? Лето, каникулы!
– Ты не понимаешь! Теперь отец пьяный придет, скандал будет, родители до вечера орать будут друг на друга, хорошо, если не подерутся. Мелкого напугают. Чертов телефон! Аккумулятор дурацкий!
– Ну про тебя, может, зато забудут, если между собой ругаться будут.
– Да никто меня ругать не будет, я сам знаю, что виноват, не доглядел. Только я отца умею уговаривать, а я в футбол играл, как дурак.
– Че как дурак-то? Нормально поиграли.
– Ничего ты не понимаешь!
– Ой, больно умный нашелся.
ВВЧ: Какие еще чувства, кроме вины, переживает, на ваш взгляд, герой диалога?
Особая вина практически неподвластна рациональному анализу, а детская особая вина не поддается этому никогда. Виноватый ребенок любого возраста может выслушать десятки умных лекций на тему нарушения ролей в дисфункциональной семье, пройти множество тестов на определение «героя семьи»[17], может даже согласиться с этим определением, но на вопрос, кто виноват в том, что в семье неблагополучно, не задумываясь, отвечает «я». Пытаться его переубедить означает подрывать саму основу его существования, самооценки, самоидентичности. Для такого человека вина является универсальным стимулятором, источником сил и гордости. Альтернативой станет глубочайшее разрушительное горе и обида. Соответственно, работать с таким человеком нужно крайне аккуратно, начиная с постепенного облегчения обид и горя, добраться до которых довольно сложно, потому что такой человек не только их не признает, но и не ощущает – они слишком глубоко.
Вина за особую телесность почти никогда не бывает дистиллированной. Чаще всего это смесь нескольких особых вин, и в первую очередь, вины за существование. Если особая телесность проявляется с рождения, то к ней добавляется особая детская вина «я плохой (некачественный) ребенок», если особая телесность возникает позже, когда у человека уже есть собственные дети, то к ней может добавиться особая родительская вина. Суть вины за особую телесность состоит в том, что человек ощущает себя «телесно неправильным», не соответствующим образу человека. По-видимому, дело в том, что наша телесность практически не поддается сокрытию. При общении, по крайней мере, при личном общении, мы оцениваем друг друга по десяткам, если не сотням физических параметров, которые совсем не всегда осознаем, но которым практически всегда доверяем даже больше, чем таким параметрам, как ум, образование, идеология и так далее. Это специфическое доверие и отношение делает работу с виной за особую телесность очень сложной и долгой.
Диалог «Все не как у людей» (телефонный разговор)
О.: Танюха, привет! Как делишки? Как материнство, освоилась?
Т.: Привет, Оль. Да так, с переменным успехом.
О.: А че так? Свекровь надоела? Ребенка, небось, отнимает, жизни учит?
Т.: Да нет, просто никак очухаться не могу после родов.
О.: Да две недели ж уже прошло, уже пора бы! Что там с тобой?
Т.: Да не заживает никак ничего, хожу еле-еле.
О.: Ну не знааааю, я уже через неделю носилась, как метеор, с младенцем-то не полежишь особо ведь.
Т. (со слезами): Думаешь, мне лежать хочется? Болит все до сих пор, кровит, вот и мучаюсь. Все не как у людей!
О.: А что врачи говорят?
Т.: То же самое говорят, что все скоро пройдет. А оно все не проходит и не проходит (рыдает). Что со мной не так? Я уже должна с коляской вовсю на улице гулять, педиатр приходил, велел, а я до стола иду 10 минут.
О.: Ну что ты плачешь? У всех по-разному бывает.
Т.: Что-то, я смотрю, у всех одинаково, только я какая-то не такая. Неловко мне. Мать со свекровью вокруг пляшут, сына на руках таскают, а мне его взять страшно, вдруг уроню. Никогда себя слабачкой не чувствовала, а тут такое…
ВВЧ: Как бы вы построили разговор с такой клиенткой, если бы она обратилась за психологической помощью? Какие бы цели ставили?
На наш взгляд, рационально утешать девушку бесполезно. Она в данный момент воспринимает себя оторванной от всего сообщества «нормальных людей» и не считает, что ей подойдут аргументы «с той стороны». Имеет смысл посочувствовать – дать место ее по-настоящему сильным, близким к шоковым переживаниям. Если принять ее переживания как нормальные, то и ощущение нормальности вернется быстрее – само, автоматически. А далее стоит ориентировать такого человека на поиск признаков нормы, на то, что объединяет его с остальными.
Коллективной мы называем вину, которая возникает у человека, когда он сам правила не нарушал, но руководство или члены группы, к которой он себя относит (семья, коллектив, сообщество, профессия, социальный слой или группа, жители определенной местности, народность, нация, государство и др.), с его точки зрения, – нарушают правила.
Возникновение этой вины, на наш взгляд, является проявлением экзистенциальных данностей «отдельности-но-связанности» и «укорененности» (Дж. Бьюджентал) [19]. Избежать возникновения такой вины можно только в случае принадлежности к другой группе и другой местности. Некоторым людям это вполне удается, можно всю жизнь прожить, скажем, в Вологде, чувствуя себя, к примеру, итальянцем. Равно как можно родиться в Лондоне, но так влюбиться в русскую литературу, что переживать себя русским. Авторам известен один такой случай. Конечно, это скорее исключение. Чаще всего мы чувствуем себя связанными с той местностью, где выросли, с теми людьми, среди которых живем. Так проявляется то, что принято называть корнями. В разных направлениях психологии этому понятию придается разное значение, но практически ни одно из направлений существования корней не отрицает. Правда, в нынешней реальности, где принято отрицать даже такие несомненные вещи, как пол и возраст, следует ожидать скорого движения категорического отрицания корней.
Попытки отрицать или дискредитировать конкретные корни случались и случаются постоянно, на разных уровнях. От индивидуального – при переезде в другую страну, до государственного – при слиянии или разделении этносов, когда один поглощается или объявляется вне закона. Случались и более широкие попытки обрезания корней, когда друг на друга ополчались представители разных религий или разных взглядов. В этой ситуации страдают все без исключения. Потому что линии раздела проходят через семьи, через дружеские связи и могут даже ощущаться как раскол внутри одного человека[18].
Мы не будем на этом подробно останавливаться, здесь нам важно подчеркнуть, что такая вина есть, она связана именно с принадлежностью человека к определенной группе и возникает автоматически, когда представители этой группы совершают что-то, что, на взгляд человека, является нарушением правил. Когда нам говорят, что представители национальности, к которой мы себя относим, совершили преступление, когда мы слышим, что представитель нашей профессии повел себя некрасиво, когда мы узнаем, что жители нашего города допустили разрушение дорогих нам мест, и так далее и тому подобное, мы переживаем вину, в первую очередь. А потом еще, конечно, гнев, стыд, обиду и горе. Переживание вины тем сильнее, чем серьезнее нарушение, чем больше отличается то, что происходит, от наших представлений о правильном и хорошем.
Особая сложность этого переживания состоит в том, что мы не можем ничего исправить, потому что ничего сами не делали. Более того, довольно часто непонятно, кого конкретно винить, и поэтому виновными или назначаются какие-то более-менее заметные люди, или становимся мы сами – автоматически. Переживание вины – это не то, что переносится легко и просто. Мы стараемся избавиться от него с помощью тоже автоматического действия, про которое мы уже говорили, – с помощью обвинения. Но обвиняем мы обычно тот самый коллектив, представителей той самой группы, к которой принадлежим сами, и, таким образом, облегчения не наступает, потому что каждое обвинение, благодаря экзистенциальным данностям «отдельности-но-связанности» и «укорененности», частично ложится на нас.
Избежать этого переживания невозможно. Но можно перестать его постоянно расширять и отягощать, стараясь не поддаваться автоматическим реакциям обвинения и оправдания. Выход из такой вины очень сложен, потому что связан с переживанием дополнительного экзистенциального кризиса (к тем четырем, которые входят в динамику нормальной вины). Для выхода человеку практически приходится сформировать себе новое представление о собственных корнях. Осознать свою по большей части неосознанную (потому что она складывается автоматически, в процессе жизни) принадлежность к группе, сделать различные выборы (относительно себя, близких, будущего, прошлого, убеждений, веры и так далее), сформировать образ нового коллективного будущего. Другими словами, приходится пережить обширную травму крушения образа мира.
С точки зрения динамики процесса в этом кризисе происходит переход от связанности к отдельности и обратно к изменившейся связанности. Первый переход связан с чувством сильнейшего одиночества, а оно, в свою очередь, с горем, утратой и ужасом перед будущим. Такое одиночество заставляет нас настойчиво (иногда лихорадочно) искать новую общность, с которой можно было бы перейти в отношения связанности. Это происходит обязательно – вплоть до конструирования новой группы в воображении – люди не могут долго пребывать в отдельности без связанности. Если при этом осознавать, что происходит, что за сила нас толкает и двигает к такому поиску, процесс может пройти без лишних потерь и утрат.
Переживание коллективной вины настолько остро и индивидуально, что мы сознательно не приводим конкретных примеров и иллюстраций. Любая конкретизация в данном случае может вызвать мощную реакцию сопротивления, которая к пониманию ничего не добавит, а сил у читателя заберет много. Более того, мы настоятельно рекомендуем любые личные беседы на эту тему вести с заботой о себе и собеседнике. Потерять близких всегда легче, чем приобрести. На это есть множество причин, и не стоит добавлять к ним нетерпимость к чувствам, которые отличаются от наших.
Безусловно, это не все виды особой вины, которые встречаются психологу-консультанту. Наличие особой вины очень зависит от того, какие качества входят в данный момент и в данной местности в определение «настоящий человек». По мере того как оно меняется, уходят одни вины и приходят другие. Например, в наше время уже почти не встречается особая вина за неумение рукодельничать, потому что развитие сферы услуг и усложнение оснащенности быта сделали это свойство неважным для жизни в обществе. Зато теперь мы начинаем себя чувствовать виноватыми за неумение водить машину или разбираться в интернете. Но суть особой вины остается прежней, это вина не за действие, а за принадлежность или непринадлежность к какой-либо общности, или образу, или даже описанию, к которым мы относимся или относим себя благодаря множеству своих действий, выборов, авторства.
На этом мы завершаем базовое феноменологическое описание вины и переходим к описанию нарушения ее течения.
ЧАСТЬ II. НАРУШЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ ВИНЫ
POU STO В отношении такого сложного явления как вина слово «патологизация» еще менее применимо, чем в отношении обиды. Погружаясь в описание вины, мы все больше проникаемся глобальностью и глубиной этого переживания. На таком уровне разговор о норме и патологии почти не имеет смысла. Фактически мы можем говорить только о большей или меньшей плате за отказ переживать вину в полной мере, брать на себя ответственность за свои действия, за отказ от авторства и другие нарушения протекания процесса вины.
В практике психологического консультирования чаще всего встречаются следующие варианты нарушений переживания реальной вины и их последствий:
1) Отрицание собственной вины:
• Отрицание конкретной вины за поступок (не виновен, не делал, не способен).
• Сохранение невинности (я не мог этого сделать).
• Отрицание вины как явления вообще (значит, так было угодно судьбе, так сложилось, я такой).
• Отрицание вины в виде самооправдания и обвинение других.
2) Нереалистичное признание вины:
• Признание вины с генерализацией переживания до вселенского масштаба.
• Признание вины с отрывом от действия и смещение действия.
• Признание вины со смещением (заменой) пострадавшего.
• Признание чужой вины своей.
• Признание вины с объявлением себя лишенным свободной воли в силу своей неспособности противостоять собственным желаниям.
• Признание вины с объявлением себя лишенным свободной воли и виновным в силу своей природы.
3) Масштабные нарушения жизнедеятельности, вызванные неразрешенной виной:
• Монструозный образ «я».
• Противоречивая самооценка.
• Автоматическое присоединение к агрессору.
• Автоматическое занятие позиции жертвы.
• Игнорирование вины в отношениях.
• Утрата способности опираться на себя и собственное мнение в определении успешности и неуспешности своих действий.
Невоодушевленность вследствие утраты субъектности или отказа от нее.
Глава 9. ОТРИЦАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ВИНЫ
Отрицание конкретной вины за поступок * Сохранение невинности * Отрицание вины как явления вообще
Когда случается что-то, что не вмещается в наши представления о реальности или о нас самих, включаются бессознательные механизмы психологической защиты – вытеснение, отрицание, подавление и другие (З. Фрейд) [55]. Вытесненная вина может жить в предсознательном или подсознательном десятилетиями – до тех пор, пока не возникнут особые условия для ее осознания (как правило, это происходит по механизму резонанса, когда человек или переживает нечто похожее, или сочувствует кому-то другому, кто переживает похожую ситуацию). Такая вина часто вспоминается в самый неподходящий (с точки зрения выживания) момент и обрушивается на человека всей своей силой совершенно неожиданно. До той поры с ней ничего нельзя сделать, она не проявляет себя прямо.
Чаще всего мы избегаем признания собственной вины в момент непосредственно после совершения поступка (непосредственная вина) двумя основными способами: отрицая само событие и отрицая его вредоносность.
Обычно отрицание события происходит очень быстро, сразу же, что позволяет почти в буквальном смысле слова подчистить реальность и изгнать воспоминания о событии из памяти и сознания. Таким образом мы убиваем сразу двух зайцев: отрицаем событие и сохраняем собственную невинность (Р. Мэй) [37].
Диалог «Ветошь»
В транспорте, в утренней толпе вдруг слышится громкий треск разрываемой ткани и горестный вскрик вслед за ним.
– Мужчина, вы мне куртку порвали!
– Не я!
– Да вот же, у вас на застежке дипломата клочок от куртки.
– Да?
– Господи, что же мне делать, посмотрите, полностью!
– Извините, я случайно.
– Какая мне разница! Куртка – в клочья!
– Ну если так порвалась – значит, ветхая уже была, туда ей и дорога. Зато новую купите.
– Она и так новая!
– Ну значит, плохая.
Если мужчина из этого диалога – человек совестливый, то досадный эпизод, скорее всего, будет портить ему настроение до вечера. И только на следующее утро он о нем полностью забудет. Если же он более легкомысленный, то уже к моменту начала рабочего дня сможет окончательно убедить себя в том, что куртке туда и дорога, она была негодная и думать об этом незачем.
На первый взгляд, совсем неплохо обладать такой способностью быстро забывать о своих неловких действиях, о небольших ошибках, не самых удачных решениях. Тем более это хорошо, если у нас нет возможности исправить их последствия. К сожалению, такие вещи накапливаются, складываются где-то в бессознательном, в сундучок неизвестной емкости. В какой-то момент такой сундучок с подавленными воспоминаниями об однотипных нарушениях правил, вину за которые мы не осознали и не приняли на себя, переполняется, и мы вспоминаем о них разом, или же очередное такое нарушение вдруг представляется нам огромным, фатальным, непростительным. Иногда эти переживания настолько сильные и глобальные, что их трудно даже опознать как вину, тем более, что, как мы уже писали выше, вина запускает целый эмоциональный шторм. Самостоятельно разобраться в такой ситуации, облегчить свое состояние, исправить положение – очень сложно.
Диалог «Забывчивый»
Психолог: Значит, договорились, во вторник в 16.00.
Клиент: Да, договорились. Ой-е!
Психолог: Что, что случилось?
Клиент: Вот я дурак, я же мелкому обещал, вот я скотина! Ой, дурааак…
Психолог: Однако!
Клиент: Вот ведь опять же забыл, что обещал!
Психолог: Слушай, ну объясни, чего ты так убиваешься?
Клиент: Ничего я не убиваюсь, просто вспомнил, что мелкому обещал с ним сходить во вторник на игру. И опять забыл.
Психолог: Бывает! А ты орал, будто что-то ужасное случилось.
Клиент: Конечно, ужасное! Который раз ребенка обманываю.
Психолог: Таким виноватым себя чувствуешь? Вроде бы вовремя вспомнил, молодец!
Клиент: Я столько раз забывал, что молодцом себя совершенно не чувствую, вовсе наоборот. Я сам не могу вспомнить, сколько раз я свои обещания не выполнял. Сейчас совершенно случайно вспомнил, такой скотиной себя ощущаю.
Психолог: Ну вспомнил же, значит, все не безнадежно!
Клиент: Да я уж сколько себя успокаиваю – не помогает! Все равно – аж до боли!
ВВЧ: Вспомните случай, когда ваша реакция на осознание мелкой вины была неадекватно сильной. Попробуйте соотнести это с идеей накопления вытесненной вины.
Описанные выше способы быстрого избавления от вины очень просты и безыскусны. Мы просто отрицаем реальность и стараемся побыстрее забыть – и о своем поступке, и о самом факте отрицания. Другой способ не ощущать вину и не брать на себя ответственность за причиненный вред столь же распространен, но гораздо более изощрен. Ролло Мэй называл этот способ «сохранением невинности». Это то самое знаменитое автоматическое «это не я», которое надежнейшим образом охраняет нашу идентичность от нежелательных изменений. «Это не я» обладает настолько волшебным действием, что его впору записывать в магические книги, присвоив статус заклинания. Вариантом этого заклинания служит еще одна автоматическая фраза: «Я не хотел», – и ее синонимы – «я не нарочно», «оно само». Удивительное дело, с точки зрения эмоций, которые плавно перетекают в позицию и полноценную внутреннюю реальность, для нас «я не хотел» означает – «я не делал», или «это безвредно», или «вред не настоящий». Возможно, здесь действует тот же закон, по которому «быстро поднятое не считается упавшим». Мгновенный отказ признавать намеренный характер нарушения правил как бы отменяет нашу субъектную природу и делает нас просто инструментом, безвольным винтиком в жерновах судьбы.
Диалог «Купание черного телефона»
Клиентка (эмоционально): …И ты представляешь, я ему рассказываю, как меня в школе на родительском собрании и так и эдак склоняли, потому что его сыночек учиться не желает, а он в телефоне сидит и, как болванчик, башкой кивает, угукает!
Психолог: Боюсь спросить, что ты сделала.
Клиентка: Что-что, выхватила телефон у него из рук – и в стакан с чаем!
Психолог: Ого!
Клиентка (запальчиво): Чай был холодный!
Психолог: Мне кажется, телефону все равно, горячий чай или холодный. И что дальше было?
Клиентка (довольно): Ну зато обратил, наконец, на меня внимание. Ругались потом до ночи. Но договорились, что в школу он пойдет, с директором поговорит.
Психолог: Молодцы! А телефон-то выжил?
Клиентка: Нет. Ему пришлось новый покупать.
Психолог: Наверное, он был не рад.
Клиентка (со смехом): Уж конечно!
Психолог: Тебе долго потом за это извиняться пришлось?
Клиентка (возмущенно): Мне?! Извиняться? Он меня сам довел. И вот результат.
Психолог: Что-то я не понимаю.
Клиентка (рассудительно): Что тут непонятного? Он меня довел своим невниманием, я обратила его внимание на свои потребности, за что тут извиняться? Тем более, это и его сын. Я считаю, что в этой ситуации виноват только он, я вообще ни за что не отвечаю. Мне было важно обратить его внимание, что под руку попалось, тем и обратила.
Психолог: Жестоко!
Клиентка (раздражаясь): Жестоко было бы, если бы я в голову ему телефон запустила, а так легкое техническое неудобство.
Психолог: То есть ты тут ни в чем не виновата?
Клиентка (твердо): Абсолютно! Я не виновата, что мне под руку попались телефон и стакан с чаем. Так получилось.
ВВЧ: Попробуйте вспомнить ситуацию, когда вы столь же твердо отрицали собственную вину. Как вам сейчас кажется, зачем?
В данном случае клиентка всеми силами старается сохранить невинность, отрицает чрезмерность своих действий, считает себя вправе действовать под влиянием чувств. Для нее, как и для многих, наличие очень сильных чувств является универсальным извинением почти любых действий. Фраза «я был в ярости» так же надежно избавляет от вины, как и заявление «так получилось». По-видимому, мы искренне считаем, что эмоции, страсть, аффект в действительности лишают нас разума, и вместе с ним – субъектности и чувства вины. Возвратить человеку субъектность в данном случае довольно сложно, тем более что он сопротивляется этому всеми силами. Ведь признание вины – шаг к изменению идентичности, образа «я», что воспринимается любым из нас как опасность, как угроза существованию. Один из немногих выходов в данном случае: изменить позицию человека, с которой он рассматривает ситуацию, и его эмоции.
Диалог «Купание черного телефона». Часть 2
Психолог: Что-то мне это напоминает…
Клиентка (недовольно): Что напоминает?
Психолог: Помнишь, ты мне недавно рассказывала, как сын в ярости рисунок порвал, который тебе подарил на день рождения?
Клиентка: Это-то тут при чем?
Психолог: А помнишь, как тебе плохо было, обидно, как ты возмущалась, что он твой подарок испортил? Как говорила, что он себя в руках должен держать, потому что уже большой?
Клиентка: Ну помню (задумывается).
Психолог: Помнишь, как требовала, чтобы он извинился? Чтобы новый нарисовал?
Клиентка (расстроенно): Все, хватит, вспомнила. (Молчит.)
Пауза.
Клиентка (неохотно): Ладно, поняла, извинюсь за телефон. Но муж все равно тоже виноват.
В данном случае клиентка смогла взять на себя ответственность за свои действия, только разглядев себя в зеркале похожего поступка сына, который ее очень возмутил и обидел. Процесс существенно облегчил тот факт, что клиентка и ее сын безусловно друг другу свои и готовы признавать свое родство. Своим мы сочувствуем гораздо легче, чем чужим.
ВВЧ: Случалось ли вам осознавать себя виноватым, глядя на вину другого человека? Что это были за ситуации?
Рассмотрим несколько разновидностей отрицания вины.
• Отрицание вины как явления в «теологическом» и социальном смысле (я лишь инструмент в руках высших сил, лишь исполнитель приказов).
• Отрицание вины с точки зрения определенного взгляда на природу человека – как изначально плохого чувства, которое делает человека уязвимым для манипуляции.
• Отрицание вины как явления с точки зрения собственной я-концепции (я изначально хороший и имею право делать все, что хочу).
• Отрицание вины в виде самооправдания и обвинения других.
Отрицание вины как явления в «теологическом» и социальном смысле
Бессовестные люди были всегда. Иначе бы слова такого не было. Всегда были люди, считающие, что «если нельзя, но очень хочется, то можно». И такие люди почти всегда находили себе оправдание в том, что они лишь служили инструментом, проводником воли высших сил – богов, судьбы, случайности. Кто во что верит, тот тем и оправдывается. А еще больше всегда было людей, которые на все обвинения отвечали: «я – лишь исполнитель», – и не чувствовали вины. Не будем обращаться к чудовищным примерам из истории[19], возьмем случай из нашей теперешней жизни.
Диалог «Хороший работник»
Дознаватель: Сколько звонков вы делали в день?
Подозреваемая: Сколько хотела, столько и делала, у меня день ненормированный. Ну… Может, 50, может, больше, может, меньше.
Дознаватель: Кому вы звонили в основном?
Подозреваемая: А по базе, подряд.
Дознаватель: Сколько людей примерно поддавались на обман и соглашались переводить деньги?
Подозреваемая: Процентов пять, то есть 5–6 человек из 100. Представляете, сколько приходилось работать? И в основном ведь по мелочи – по 500, по 1000 с человека. Ну конечно, если кто-то квартиру продавал, то там, конечно, больше. Представляете, как обидно было, когда мужик уже собрался деньги от продажи квартиры в банкомат класть и тут только заметил, что реквизиты отличаются!
Дознаватель: Не перевел?
Подозреваемая: Не перевел, гад, представляете, как обидно!
Дознаватель: Вам?!
Подозреваемая: Конечно, мне! Я ведь уже всю сумму распланировала.
Дознаватель: А вам не стыдно? Вы же людей обманывали, там же в основном старики.
Подозреваемая: Чего это? Раз есть лохи, значит, им на роду написано быть обманутыми. Не я, так другой обманет. Вон у нас целый колл-центр сидел, не я – так соседка моя заработает. Так уж лучше я! И вообще, не я эту схему придумала, я только малый процент получала. Вот кто придумал, тот пусть и виноватится. А я просто хорошо работу умею делать. И вообще – если старики, то пусть их дети за ними смотрят, а то придумали, я виновата – вот еще!
ВВЧ: Как вам кажется, что способствует попаданию в позицию «хорошего работника»?
Данный персонаж – вовсе не выдумка, это примерное воспроизведение реального разговора из одной телевизионной программы (июнь, 2021 г.). Таких людей мы встречаем довольно часто. Они считают, что не могут быть виноваты, если выполняли чью-то волю, приказ, распоряжение. Когда и если их ловят и наказывают, они очень возмущаются, потому что вполне искренне считают себя невиновными и невинными. Такие люди вполне серьезно лишают себя субъектности, передавая ее начальнику вместе с ответственностью. Деяния таких людей не всегда подвергаются уголовному наказанию, но почти всегда они осуждаются обществом, близкими и дальними людьми. Исследованию мотивации этих людей, их влиянию на других посвящено множество прекрасных произведений искусства, а также научные исследования («Тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо). Наше дело – только описать феномен, он встречается очень часто. Более всего у подростков, но нередко и у взрослых людей. Конечно, такие люди в основном разговаривают с дознавателями и следователями, а не с психологами, но случаются они и в практике психологического консультирования. Чаще всего – в семейной работе. Один из распространенных некриминальных примеров такого поведения – это поведение старшего сиблинга по отношению к младшему. Сюда же относится самого разного рода дедовщина. Вернуть такого человека к осознанию и принятию собственной вины чаще всего можно, используя уже упомянутые и описанные смену позиции и механизм резонанса. В момент, когда это происходит, такой человек переживает поистине сильные чувства. Ему бывает очень больно.
Отрицание вины с точки зрения определенного взгляда на природу человека
В наше время поголовной грамотности и интернета «популярная психология» наряду с «популярной медициной и психогигиеной» превратилась в реальную движущую силу общественного мнения. В могучий поток простых советов и рекомендаций, который сметает на своем пути любые данные исследований и робкие голоса здравого смысла. Наука и здравый смысл, к сожалению, почти всегда проигрывают битву с «общепринятым мнением», которое, как правило, представляет собой коктейль из наиболее впечатляющих и простых идей популярной науки. Сложная, неоднозначная идея чаще всего проигрывает простой, понятной, ясной и однозначной. В науке, а тем более в такой неопределенной и одновременно такой нужной людям, как психология, простых идей очень немного. Как известно, свято место пусто не бывает, и дефицит знаний в важной области восполняется догадками и выводами из господствующей идеологии. На сегодняшний день (по крайней мере, в интернете) господствует идеология индивидуализма и ценности личной свободы. Как и любая идеология, оно порождают взгляды на поведение и природу человека – что может быть для нас важнее? Не последнее место в этих взглядах занимает отношение к человеческим чувствам, в частности, к вине и обиде. Про неоднозначное отношение к обиде мы уже писали в первой части, про вину можно сказать то же самое: с одной стороны, вина поддерживается социумом, как переживание, способствующее соблюдению правил членами сообщества, с другой стороны – вина осуждается, как инструмент манипуляции свободным индивидом со стороны общества. Интернетные гуру твердят: надо избавиться от вины, и вы не будете уязвимы, никто не сможет манипулировать вами через вину, вы сможете сами решать, что вам делать. Совет простой, и многие верят.
Диалог «Свободный художник»
Олег: Але, Вань, ну ты где? До начала осталось 40 минут, уже половина гостей собралась, выступающим надо репетировать, аппаратура нужна, а тебя нет.
Иван: Да еду я, скоро буду. Не нервничай.
Олег: Мы ж договаривались за полтора часа до начала встретиться! Это все собрать надо, подключить, проверить.
Иван: Хорош меня грузить! Приеду – сделаю. Ну задержим чутка, никто не помрет.
Олег: Ну конечно! Перед гостями не ты будешь извиняться. Выступающих – не ты уже 40 минут успокаиваешь. У меня и свои обязанности есть.
Иван: Ну что ты нудишь! Это же не работа, я ничем никому не обязан. Корпоратив – дело добровольное.
Олег: Ты же обещал!
Иван: Я своему слову хозяин, хотел дал – хотел взял. Не надо на меня всех собак вешать, нашли, понимаешь ли, виноватого.
Олег: Так а кто виноват-то? Остальные вовремя пришли и сделали, что обещали. Только ты – свободный художник, елки зеленые!
Иван: Конечно, свободный, это вас всех припахали к бесплатному труду. Вы ж, если пообещаете, то будете делать, а то от вины будете мучиться, от стыда. А я никому собой манипулировать не позволю!
ВВЧ: Как вам кажется, есть ли аргументы против такой позиции? И если да, то какие?
Отрицание вины как явления с точки зрения собственной я-концепции
В наше удивительное время огромное количество людей всерьез и постоянно занято поисками себя. Раз есть спрос – найдется и предложение. Поэтому несть числа учителям, тренерам, коучам, просветленным и просветляющим на просторах интернета. Большая их часть занята просто зарабатыванием денег, поэтому продает то, что продается лучше всего – надежду, что можно делать все что хочешь и тебе за это ничего не будет. Зачем учиться, преодолевать себя, бороться с трудностями, трудиться, если можно просто объявить себя венцом творения – безгрешным, невинным, идеальным от рождения. Авторы книги не в курсе, так ли это, зато мы отлично знаем, что происходит с людьми, которые руководствуются данными верованиями в своей жизни.
Диалог «Наследница»
Психолог: Что-то ты в растрепанных чувствах?
Клиентка: Будешь тут растрепанная. С сестрой ругаюсь уже неделю, каждый день по часу на телефоне вишу, а потом еще трубку пару раз бросаю.
Психолог: В чем дело-то?
Клиентка: Да пустяки, наследство не поделили. Нам тетка отдала всякие вещи, которые от бабушки остались: скатерти льняные, посуда старинная, серебряные приборы, подсвечники, швейная машинка Зингер, книги. И сказала, чтоб мы сами делили. Вот зараза же!
Психолог: Поделить не смогли?
Клиентка: А что там делить? Там и так все ясно. У меня квартира со столовой, стол большой, сервант красивый. Мне есть куда посуду поставить и на что скатерть постелить, и народ ко мне ходит серьезный, оценить могут. А сестрица в своей живопырке едва-едва со своими-то расходится, куда ей это все. Зато она шьет, вот пусть машинку с книгами забирает, у нее дочка читать любит. А моему – все бы только на мопеде гонять. Ты представляешь, он опять…
Психолог: Погоди про сына, давай с сестрой и ссорой вашей разберемся.
Клиентка: Что тут разбираться?! По-моему, все справедливо. Не понимаю, что ей не нравится.
Психолог: А что она говорит?
Клиентка: Говорит, что я себе лучшую часть заграбастала. Вот ведь зараза! А куда она это все денет? И зачем мне эта машинка и книги? У нас все с телефона читают. И вообще, от книг только пыль. Я считаю, что я все хорошо решила и справедливо. А если не нравится – то сама дура.
Психолог: Ну не обязательно же дура, если у нее другое мнение, все же наследство, у нее прав не меньше.
Клиентка: Она, хоть и старшая, а все равно дура. Она всем этим распорядиться не сможет. Только и знает, сидит себе строчит, идеи у нее, видишь ли, коллекцию создает. А самим даже кота не завести, ему спать негде будет. Она говорит, что свою часть продать хочет и коллекцию на конкурс сделать. Продаст она! Она непрактичная, ее каждый может обмануть, а у меня все сохранится.
Психолог: Ты могла бы ее часть выкупить, раз тебе так вещи нравятся…
Клиентка: Вот еще!
Психолог: Но ей же, наверное, обидно?
Клиентка: Пообижается и перестанет! Обижаться – дело пустое. Я все равно все уже решила. Так будет для всех лучше. Она потом поймет, что мне это нужнее, и успокоится.
ВВЧ: Как вам кажется, есть ли у психолога шанс вернуть клиентке ответственность за ее решение? Как вам кажется, к каким последствиям может привести ее поведение?
Отрицание вины в виде самооправдания и обвинения других
Описанные выше типы отрицания реальности в общем не предполагают, что вина осознается. Практически все механизмы психологической защиты и собственные усилия героев диалогов направлены на недопущение осознания вины. Это встречается довольно часто, но все же реже, чем самооправдание.
Мы хотели бы сразу обозначить свою позицию по части самооправдания. Самооправдание – это автоматический процесс, противоположный автоматическому переживанию вины при обвинении человека со стороны «своих». Все слышали поговорку «я не я, и лошадь не моя». Она вполне отражает суть этого процесса. Безусловно, самооправдание – это полезный и нужный процесс. Фактически он обеспечивает встроенное критическое отношение к обвинениям. Не будь этого автоматического процесса, мы были бы беспомощной и беззащитной игрушкой в руках любого, кто посчитает, что мы нарушили правила. Интересно, что самооправдание возникает очень рано, фактически сразу за тем, как ребенок начинает говорить про себя «я». Хотя авторам случалось наблюдать самооправдание и у детей, которые все еще говорили про себя в третьем лице, мы все же считаем, что осознание себя субъектом, вина и самооправдание появляются одновременно. Просто этот процесс не всегда идет поступательно, шаг за шагом. Чаще – с возвратами и петляниями, когда переплетаются и путаются несколько потоков и направлений развития.