Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи
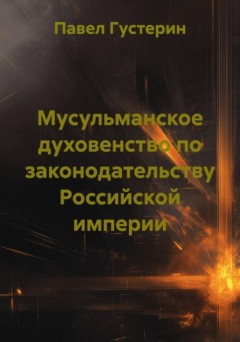
Об основах государственной политики
Российской империи
в отношении мусульманского населения
(вместо предисловия)1
Согласно политике председателя Совета Министров П.А. Столыпина2, мероприятия Правительства Российской империи не были направлены ни к ограничению религиозной свободы, ни к стеснению национальной самобытности мусульман, поскольку ими не нарушались интересы государства и права лиц, не принадлежавших к мусульманским национальностям. Напротив, прямым назначением религиозной политики являлось противодействие разрушительной антигосударственной деятельности фанатически настроенных элементов и приобщение всего населения, независимо от религии и национальности, к общей государственной и культурной жизни.
В соответствии с вышеприведенными суждениями, Правительство направляло свою работу по пути упорядочения государственно-правового положения мусульманства и усиления правительственного контроля над его общественными проявлениями.
Столыпин придерживался мнения, что деятельность государственных структур не должна носить миссионерский характер. Он обратил внимание на качественные и количественные улучшения в деятельности духовно-просветительских учебных заведений как начальных, так и учительских, и наметил для них ряд мероприятий, имевших целью приблизить их к мусульманскому населению для того, чтобы эти учебные заведения содействовали более полному удовлетворению духовных потребностей мусульман.
Правительство стремилось к окончательному разобщению конфессионального и общего образования в содержавшихся мусульманами учебных заведениях. Конфессиональное образование входило непосредственно в компетенцию соответствующих духовных властей под надзором государства. Общее же образование, в том числе воспитание юношества, затрагивая основополагающие интересы государства, составляло одно из важнейших и неотъемлемых его достояний.
Государство признало необходимым полностью изъять из программ конфессиональных мусульманских школ общеобразовательные предметы, с упразднением и так называемых классов русского языка, и, оставив эти школы в непосредственном ведении мусульманского духовенства, привести содержавшиеся мусульманами учебные заведения с общеобразовательными предметами в соответствие со всеми существующими для остальных школ этого типа общими правилами. Для обеспечения действительного проведения этого положения в жизнь Правительство уделяло особое внимание организации эффективного государственного надзора за мусульманскими учебными заведениями обоих названных типов.
Правительство принимало также меры для обеспечения широкой осведомленности в делах мусульман, что, по мнению Столыпина, было достижимо практическим изучением и научной разработкой их проблем на местах и на систематической основе, всесторонним освещением этих проблем в печати и периодическим обменом наблюдениями и мнениями между местными и центральными правительственными органами. Наиболее целесообразными в этом отношении мерами были признаны усиление существующих научных средств изучения российского мусульманского Востока должным расширением деятельности соответствующих факультетов Санкт-Петербургского и Казанского университетов и учреждение периодических межведомственных совещаний правительственных органов, как на местах, так и в столице. Не менее важным Столыпин полагал и преобразование существовавшего устройства управления мусульманскими делами в России.
Как видно из вышесказанного, Правительство Российской империи не могло и не было вправе допускать, чтобы массы населения под руководством антигосударственно настроенных людей воспитывались в том направлении, которое неминуемо привело бы их к полному культурному отчуждению от основополагающих государственных начал, к поиску каких-либо идеалов вне своего государства и к попранию идеи о его целостности.
Глава I
Об управлении духовными делами
Таврическим Мусульманским Духовным Правлением
Местное управление духовными делами всех мусульман входило в компетенцию их высшего и приходского духовенства.
В городе Симферополь было учреждено Таврическое Мусульманское Духовное Правление.3 Ему подчинялось все мусульманское приходское духовенство, находившееся в Таврической и западных губерниях4.
Мусульманское духовенство, принадлежавшее к Округу Таврического Мусульманского Духовного Правления, имело право рассматривать и решать по правилам своей веры и в указанном ниже порядке любые дела мусульман духовного рода, в том числе о порядке богослужения, об обрядах, об отправлении духовных треб и о заключении и расторжении браков. Жалобы на решения по этим делам приходского духовенства подавались Духовному Правлению, а на решения этого Правления – таврическому губернатору, от которого они направлялись в Министерство внутренних дел для урегулирования в установленном порядке.
В случаях, предусмотренных гражданским законодательством, духовенство Таврического Мусульманского Духовного Правления имело право рассматривать и по нормам ислама решать дела о частной собственности, возникавшие между мусульманами по завещаниям и при разделе наследственного имущества. Недовольные решениями, вынесенными по этим делам, могли обращаться в общие судебные инстанции с просьбой о рассмотрении и решении их дел по общему законодательству.
Духовенство Таврического Мусульманского Духовного Правления имело право решать дела о неповиновении детей родителям и дела о нарушении супружеской верности, ограничиваясь при этом лишь увещеваниями и наложением духовного покаяния. Если считалось необходимым наложить и светское наказание, то решение представлялось губернатору, который давал этому делу дальнейший ход по общему законодательству.
В приходах метрические книги о рождении, браках и смерти мусульман обоего пола были обязаны вести приходские духовные лица по правилам и формам, установленным законодательством. Духовные лица, не состоявшие в российском подданстве, к этим действиям, как и к совершению треб для мусульман-подданных, не допускались.
Должностные лица мусульманского духовенства, принадлежавшего к Округу Таврического Мусульманского Духовного Правления, имели все общие права свободного состояния, личные и имущественные, а доказавшие свою принадлежность к дворянству пользовались правами дворян.
Принадлежность к мусульманскому духовенству основывалась на происхождении и доказывалась метрическими книгами и ревизскими сказками5, составлявшимися в соответствии с законодательством, однако причислять к нему лиц по одному праву происхождения без назначения на духовные должности запрещалось.
В делах, относившихся к обязанностям духовного звания, лица мусульманского духовенства подлежали суду своего духовного начальства, а во всех прочих делах – гражданских и уголовных – подлежали светским судам и судились по общему законодательству. За поступки, противоречившие их духовным обязанностям, они могли быть лишены своего звания, но не иначе, как по следствию, ясно доказавшему их вину, и по решению той власти, от которой зависело их утверждение на духовной должности.
* * *
В Округе Таврического Мусульманского Духовного Правления высшее мусульманское духовенство состояло из таврического муфтия6, кадия-эскера7 и уездных кадиев8 – Симферопольского, Феодосийского, Перекопского, Евпаторийского и Ялтинского. Таврический муфтий являлся духовным главой мусульман, проживавших в Таврической и западных губерниях, и председателем их Таврического Духовного Правления. Кадий-эскер являлся помощником муфтия, заведовавший делами по его распоряжению и замещавший его в случае болезни, отсутствия и после его увольнения или смерти до утверждения нового лица в должности муфтия. Уездные кадии рассматривали и решали все возникавшие в подведомственных им уездах дела на основании духовных мусульманских законов.
Приходское мусульманское духовенство состояло из приходских хатыбов9, имамов10, мулл11, муэдзинов12 и служителей при мечетях.
Хатыбы, имамы и муллы совершали богослужение в мечетях, отправляли духовные требы по мусульманскому закону во вверенных им приходах и рассматривали встречавшиеся между их прихожанами дела, предоставленные власти мусульманского духовенства.
Мударрисы13 и гочи14, до тех пор, пока состояли в этом звании, также причислялись к приходскому духовенству. Мударрисы имели равные личные преимущества с муллами, но принимали на себя рассмотрение духовных дел только тогда, когда также состояли на духовной должности, то есть в звании хатыба, имама или муллы. Гочи, приравненные к муэдзинами, преподавали в низших мусульманских училищах.
К мусульманскому духовенству принадлежали также начальники текий15 – шейхи.
* * *
Таврические муфтий и кадий-эскер избирались министром внутренних дел из мусульман духовного звания или из дворян-мусульман, не имевших этого звания, и утверждались в должности Высочайшей властью16.
Кандидаты на звание уездных кадиев назначались муфтием совместно с кадием-эскером и находившимися в городе Симферополь кадиями, из достойнейших приходских чинов, хатыбов, имамов или мулл, список которых представлялся таврическому губернатору.
Губернатор делал распоряжение о созыве к назначенному времени в город того уезда, в который предполагалось определить кадия: 1) мусульманского духовенства и мурз17 того уезда с уездным предводителем; 2) волостных старшин или вместо них по одному депутату от поселян каждой в том же уезде мусульманской волости.
Если кто-либо из имевших право участвовать в избрании уездного кадия не являлся к назначенному времени, то избрание по этой причине не отменялось.
Для наблюдения за порядком в делах этого собрания на нем присутствовал один из членов губернского правления.
Член губернского правления объявлял собранию о предназначенных на должность кадия кандидатах, после чего баллотирование начиналось в обычном порядке.
Уездный кадий утверждался в должности губернатором с доведением до сведения министра внутренних дел.
В Таврической губернии в звания хатыбов, имамов, мулл, муэдзинов и прочих служителей мечетей избирались только принадлежавшие к духовенству этой губернии, по происхождению от него, а именно – сыновья (а не дальнейшее потомство) высшего и приходского духовенства. В Округе Таврического Мусульманского Духовного Правления в звания хатыбов, имамов, мулл, муэдзинов и прочих служителей мечетей избирались лица без различия состояний.
Для получения звания хатыба, имама, муллы или мударриса были необходимы: 1) согласие приходского общества, изъявленное в предусмотренном порядке в общественном решении; 2) удостаивание Таврического Мусульманского Духовного Правления по правилам, указанным ниже; 3) утверждение местного Губернского Правления.
Для назначения на низшие духовные должности требовалось только согласие приходского общества, изъявленное в предусмотренном порядке в общественном решении, и удостаивание приходских хатыбов, имамов или мулл, утвержденное высшим мусульманским духовным начальством.
Высшие мусульманские духовные должностные лица – муфтий, кадий-эскер и уездные кадии, – а также приходские хатыбы, имамы и муллы, при вступлении в должности по их званиям, приводились к присяге по предписанной форме.
Муфтий, кадий-эскер и уездные кадии приводились к присяге в Таврическом Губернском Правлении в присутствии губернатора, а хатыбы, имамы и муллы – в уездных полицейских управлениях.
Присяжный лист подписывался давшими присягу и свидетелями и хранился в личных делах в общем порядке.
Присяжные листы должны были быть печатные, на русском языке, с переводом на местный татарский язык по установленной форме.
* * *
Таврическое Мусульманское Духовное Правление состояло из таврического муфтия, кадия-эскера и уездных кадиев. Муфтий председательствовал, прочие же присутствовали в качестве членов.
При Таврическом Мусульманском Духовном Правлении на основании штата находилась канцелярия, включавшая секретаря, переводчика и вольнонаемных писцов. Секретарь после избрания и представления таврическому губернатору утверждался Министерством внутренних дел. Переводчик назначался Таврическим Губернским Правлением по представлению Духовного Правления.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление имело общие права административной инстанции: оно находилось под непосредственным надзором Таврического Губернского Правления и под высшим начальством Министерства внутренних дел.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление на основании общих положений не приступало к решению входивших в его компетенцию дел, если в нем не присутствовал, по крайней мере, один из двух членов, кроме председательствовавшего муфтия.
Таврический муфтий, как председатель, а кадий-эскер и уездные кадии, как члены этого Правления, имели права и обязанности, предписываемые этим званиям общим законодательством.
Муфтий, кадий-эскер и симферопольский кадий присутствовали в Духовном Правлении постоянно в течение всего года раз в неделю или по необходимости, и чаще. Прочие уездные кадии присутствовали лишь в продолжение общего собрания, созываемого муфтием ежегодно в январе или феврале месяце, по возможности, и во время которого присутствие в Правлении было ежедневно, кроме мусульманских праздников и общих праздничных дней, когда все административные инстанции были закрыты.
В назначенное для общих собраний время рассматривались и решались единогласно или большинством голосов все те дела, в которых один из постоянных членов был отстранен по законным причинам, или которые не были решены из-за возникшего между постоянными членами разногласия, то есть когда мнение председательствовавшего муфтия противоречило мнению кадия-эскера и уездного симферопольского кадия.
Во время отсутствия или болезни муфтия его в Правлении замещал кадий-эскер.
Если один из трех постоянных членов Правления по причине тяжелой долговременной болезни или по причине продолжительной отлучки не мог на нем присутствовать, то на его место вызывался кадий из ближайшего места.
Пока уездные кадии присутствовали в Правлении, их с разрешения губернского начальства замещал кандидат, получивший на последних выборах наибольшее количество голосов.
* * *
Таврическое Мусульманское Духовное Правление имело в своем ведении: 1) мечети, с учрежденными при них училищами, и текии: 2) принадлежавшие к мечетям и училищам вакуфы18; 3) все таврическое и находившееся в западных губерниях мусульманское духовенство; 4) поступавшие из приходов через уездных кадиев дела, предоставленные рассмотрению этого духовенства.
Должностные лица Таврического Мусульманского Духовного Правления вели книгу, в которой записывались все мечети, все находившиеся при них училища, текии и принадлежавшие к ним чины. В этой же книге указывались все почему-либо заслуживавшие внимания обстоятельства, касавшиеся мечетей, мусульманских училищ и мусульманских духовных дел. К числу таких обстоятельств принадлежал и список в алфавитном порядке лиц, по каким-либо причинам лишенных духовного звания.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление заботилось о соблюдении установленного в богослужении порядка и о приличном содержании мечетей.
Имея также попечение о содержании при мечетях училищ, Духовное Правление наблюдало как за учением, так и за нравственным поведением учителей и учеников.
Строительство новых мечетей допускалось не иначе, как по правилам Строительного Устава и с обеспечением их содержания.
Медресе и другие училища могли по распоряжению Таврического Мусульманского Духовного Правления быть учреждаемы в каждом селении, несмотря на то, какое в них проживало число ревизских душ19. Для открытия училища нужно было только согласие общественности и изыскание достаточных для содержания средств.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление предоставляло директору народных училищ или заменявшему его должностному лицу сведения о каждом вновь открываемом училище и ежегодные ведомости о числе учителей и учащихся.
Важнейшими средствами для содержания мечетей, училищ и определенного при мечетях духовенства было недвижимое имущество, именуемое вакуфами, и денежные капиталы. Духовное Правление заведовало вакуфами по установленным правилам. (См. Приложение 1).
Высочайше было повелено: сложить с Таврического Мусульманского Духовного Правления обязанность наблюдения в Таврической губернии за частными вакуфами, предоставить министру внутренних дел право распорядиться о передаче в местное Управление государственных имуществ всех дел, сведений и документов о частных вакуфах для общего наблюдения за упомянутым частным имуществом на основании закона о выморочных имениях. Впредь до окончания занятий Комиссии по вопросу об упорядочении в Крыму вакуфного имущества и назначения на должность таврического муфтия нового лица управление вакуфными недвижимым имуществом Таврической губернии передать в ведение названной Комиссии, которой заведовать этим имуществом на тех же основаниях, какие были учреждены для Таврического Мусульманского Духовного Правления и с соблюдением особых установленных правил.
Hазначение приходских мусульманских духовных чинов к должностям, рассмотрение жалоб на них и зависевшие от духовной власти решения и распоряжения по этим жалобам являлись важнейшими обязанностями Духовного Правления.
При назначении духовных чинов к приходским должностям, Духовное Правление следило, чтобы в них была действительная необходимость приходам, чтобы они были не моложе определенного возраста, имели непорочную репутацию и обладали требуемыми по их должностям знаниями.
В соборную мечеть надлежало определять не более одного хатыба, одного имама и одного муэдзина, а в обычную мечеть – не более одного имама и одного муэдзина. Если жителей, приписанных к обычной мечети, было более 200 ревизских душ, и было необходимо для них более одного муллы, то разрешалось прибавить к ней духовных лиц, общее число которых не должно было превышать установленного для соборной мечети. В кадии, ахуны20, мухтасины21 и мударрисы было должно определять лицо не моложе 25 лет, в хатыбы, муллы и имамы – не моложе 22, а в муэдзины и гочи – не моложе 21 года.
После внимательного рассмотрения, Духовное Правление представляло сведения об утверждении хатыбов, имамов, мулл и мударрисов Губернскому Правлению.
Если было несколько кандидатов, имевших по способностям и нравственным достоинствам равное право на получение открывшегося места, то Духовное Правление давало преимущество тому из них, который знал русский язык.
Муэдзины, ферраши22 и другие низшие должностные лица при мечетях, училищах и текиях определялись самим Духовным Правлением по представлению местных хатыбов, имамов или мулл и свидетельству местного полицейского начальства об их благонадежности.
В конце года Таврическое Мусульманское Духовное Правление представляло общий список определенных им низших чинов Губернскому Правлению в порядке информации.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление вело учет и имело специальные списки всех духовных лиц, занимавших должности.
Рассмотрению Духовного Правления подлежали дела, возникавшие в приходах, о порядке богослужения, об обрядах и отправлении духовных треб, о заключении и расторжении браков, о неповиновении детей родителям, о спорах по завещаниям или при разделе наследства по мусульманским законам и других того же рода, на основании прав, дарованных таврическим мусульманам. Духовное Правление приступало к рассмотрению лишь тех из них, которые не подлежали ведению и разбирательству гражданского начальства, и то не иначе, как по представлению местных хатыбов, имамов или мулл, или по просьбам и жалобам от приходов, предварительно рассмотренным уездными кадиями. Просьбы частных лиц, поступавшие по этим делам прямо в Правление, отсылались из него к хатыбам, имамам или муллам для предварительного рассмотрения. Hа этом основании:
1) Брачные дела подлежали суду Духовного Правления, но имущественные споры, возникавшие при расторжении браков, подлежали разбирательству общих гражданских судов, исключая те случаи, когда обе спорившие стороны просили Правление или приходское духовенство о разбирательстве и на его решение обе изъявляли удовлетворение.
2) Виновному в прелюбодеянии Духовное Правление назначало духовное покаяние и исправление. Наложение наказаний, определенных уголовным законодательством, предоставлялось уголовному суду.
3) Если при рассмотрении дела о неповиновении детей родителям открывалось уголовное преступление, то дело направлялось на рассмотрение общего уголовного суда. Также, если в деле такого рода открывался спор об имуществе, и Правление не успевало убедить обе стороны к мировому окончанию спора, то Правление предоставляло им возможность разбирательства в гражданском суде. Прочие дела о неповиновении детей родителям, по бракам, по вероисповеданию, о словесном оскорблении и т. п. рассматривались и решались Правлением по мусульманской вере и обычаям. Но если по этим делам следовало определить какое-либо светское наказание, то решение Правления представлялось губернатору, который давал делу дальнейший ход по общему законодательству.
Степень власти Правления в решении спорных дел по завещаниям и по разделам наследственного имущества определялась особыми правилами Гражданских законов, как указано выше.
Если появлялись дела, относившиеся и к духовной и к гражданской части, Духовное Правление рассматривало их лишь в первом отношении, а рассмотрение в прочих делах предоставляло соответствующим судебным инстанциям.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление собирало через местных хатыбов, имамов или мулл и ежегодно представляло в Министерство внутренних дел точные сведения о числе прихожан обоего пола каждой мечети, о числе родившихся и умерших и о количестве заключенных и расторгнутых браков.
Сведения, указанные выше, а также о количестве мечетей, духовных лиц и т. п., и донесения по таким делам, по которым Министерство внутренних дел прямо требовало сведения или подтверждало необходимость ускорения производства, представлялись из Правления в Министерство непосредственно. Кроме того, Правление имело право сообщать непосредственно Министерству о случаях, когда губернское начальство чрезмерно затягивало с его представлением, а также, если оно разрешало эти представления не в соответствии с общим государственным законодательством или со специально изданными для мусульманского духовенства постановлениями.
Все обстоятельства, требовавшие разрешения, или по которым могла предвидеться необходимость в новом постановлении, и все дела, для решения которых могло оказаться необходимым заключение местного начальства, Духовное Правление должно было представлять на усмотрение Министерства внутренних дел не иначе, как через местное губернское начальство.
* * *
Таврическое Мусульманское Духовное Правление в ходе своих дел вело их учет в общем порядке, предписанном законодательством для административных инстанций.
Постановления Духовного Правления записывались на местном татарском и на русском языках. В решениях указывалось, соответственно роду дел, служившие его основанием законы как российские (светские), так и мусульманские (духовные).
Если по делам мусульман, предоставленным решению их духовенства, требовались фетвы муфтия, то они выдавались муфтием не иначе, как после рассмотрения и решения названных дел полным составом Духовного Правления, на основании правил, изложенных выше.
В случаях, когда решение выходило из предоставленных Таврическому Мусульманскому Духовному Правлению полномочий, Правление представляло такого рода дела со своим мнением через губернатора в Министерство внутренних дел или в Правительствующий Сенат.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление имело свою печать с государственным гербом и со следовавшей вокруг него на русском и татарском языках надписью «Печать Таврического Мусульманского Духовного Правления».
Канцелярия Таврического Мусульманского Духовного Правления находилась под непосредственным начальством муфтия, который назначал следовавшие к слушанию дела.
Секретарь Таврического Мусульманского Духовного Правления наблюдал за порядком хода дел и о решениях, которые он признавал противоречащими общему законодательству или правилам, немедленно доводил до сведения Министерства внутренних дел.
Таврическое Мусульманское Духовное Правление имело за счет Казны отдельный дом или необходимое количество комнат для своего присутствия и для помещения канцелярии. Присмотр за домом или частью дома, где помещалось Правление, поручалось одному из благонадежнейших чинов канцелярии по назначению Правления.
* * *
Таврическое губернское начальство вело наблюдение за своевременным и правильным ходом дел Таврического Мусульманского Духовного Правления и по поступившим жалобам на задержки с его стороны принимало соответствующие меры.
Губернское начальство по всем исходившим от этого Правления делам, обращая внимание на его решения и учитывая Высочайше дарованными таврическому татарскому народу особые права, давало со своей стороны этим делам ход, или предписывало об исполнении решений, или сообщало о них равным учреждениям, или направляло их на рассмотрение вышестоящего начальства.
При рассмотрении решений об утверждении Таврическим Мусульманским Духовным Правлением на духовные должности, губернское начальство собирало об этих кандидатах точные сведения. Оно утверждало и представляло со своей стороны лишь тех, которые по своему происхождению, нравственным качествам, поведению и несомненной преданности Престолу и закону, были признаны совершенно благонадежными.
Уездные и городские присутственные места и должностные лица по духовным делам мусульман Таврической и западных губерний обращались к Таврическому Духовному Правлению (а не к муфтию) письменно. Hо в том случае, когда действовавшие законы были недостаточны для решения дела, они обращались с представлениями к своему начальству, а не к этому Духовному Правлению.
Глава II
Об управлении мусульманским духовенством
Округа Оренбургского Мусульманского
Духовного Собрания
В Округе Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания23 высшее мусульманское духовенство составляли оренбургский муфтий и ахуны, приходское при соборных мечетях – хатыбы, имамы, муллы и муэдзины, а при обычных мечетях – имамы и муэдзины.
Для духовных лиц мусульманского исповедания по Округу Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания был учрежден образовательный ценз по установленным правилам.
Оренбургский муфтий являлся духовным главой мусульман, принадлежавших к Округу Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания, и председателем этого Собрания.
По делам о богослужении, обрядах, отправлении духовных треб, совершении и расторжении браков, ведении метрических книг, разбирательстве по искам и завещаниям и по разделу имущества, неповиновении детей родителям и нарушениях супружеской верности, мусульманское духовенство Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания имело те же права и обязанности, что и мусульманское духовенство в Таврической и западных губерниях.
Духовные должностные лица Оренбургского Мусульманского Округа платили повинности соответственно сословию, к которому принадлежали. Но приходы по добровольным общественным решениям могли освобождать духовных лиц от повинностей, принимая их на себя.
Если духовное лицо, принадлежавшее к Округу Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания, было виновно в нарушении обязанностей своего духовного звания, то оно подлежало суду и взысканиям своего духовного начальства. Во всех прочих проступках и преступлениях оно подлежало светскому суду, на основании законов уголовного судопроизводства.
* * *
Оренбургское Мусульманское Духовное Собрание составляли председательствовавший муфтий и три члена, а его канцелярию – секретарь, столоначальники, переводчик, журналист и канцелярские служители на основании штатов.
Муфтий назначался на должность по представлению министра внутренних дел Высочайшей властью.
Члены Духовного Собрания и три кандидата к ним назначались министром внутренних дел по представлению оренбургского муфтия, каждый на три года.
Оренбургское Мусульманское Духовное Собрание непосредственно начальствовало над всем мусульманским духовенством, исключая находившегося в Таврической и западных губерниях и в Закавказье. Ему принадлежало право: 1) подвергать предварительной аттестации на знание правил мусульманского закона и удостаивать к назначению избранных обществами мусульман на приходские духовные должности; 2) следить за действиями мулл, относившимся к их духовным обязанностям, судить о мере их вины, если они нарушали эти обязанности, и определять за это взыскания. Оно могло определять муллам временное отстранение и даже запрет на занятие должностей и лишение духовного звания за поступки, противоречившие духовным обязанностям. Но все свои решения такого рода Духовное Собрание приводило в исполнение не иначе, как через губернские правления, от которых зависело утверждение мулл на приходские должности, и которые, тем не менее, не могли своей властью отменять эти решения Духовного Собрания.