Кошмар на цыпочках
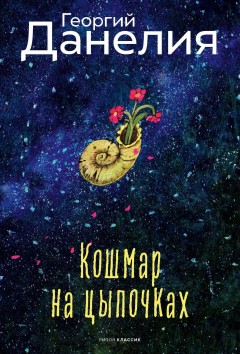
Рисунки и фотографии из личного архива Георгия Данелия, фотографии Юрия Роста, Михаила Баландюка. Рисунок на переплете Александра Храмцова.
Фотографии из личного архива Георгия Данелия, кадры из фильмов:
«Незабываемый 1919-й год», реж. М. Чиаурели, © Киноконцерн «Мосфильм», 1951,
«Мексиканец», реж. В. Каплуновский, © Киноконцерн «Мосфильм», 1955,
«Серёжа», реж. Г. Данелия, И. Таланкин, © Киноконцерн «Мосфильм», 1960,
«Путь к причалу», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1962,
«Я шагаю по Москве», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1964,
«Тридцать три», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1965,
«Не горюй!», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1969,
«Освобождение», реж. Ю. Озеров, © Киноконцерн «Мосфильм», 1970–1972,
«Совсем пропащий», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1973,
«Афоня», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1975,
«Мимино», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1977,
«Осенний марафон», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1979,
«Слёзы капали», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1982,
«Кин-дза-дза!», реж. Г. Данелия, © Киноконцерн «Мосфильм», 1986.
Кадры из фильмов «Настя», «Орел и решка», «Паспорт», «Фортуна»
(материалы предоставлены «000 Библиотекой ГПМ КИТ»)
В книге использована цитата из книги Марка Твена «Приключения Гекльберри
Финна» в переводе Н. Л. Дарузес, из книги Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц» в переводе Норы Галь, а также цитаты из книг Льюиса
Кэрролла «Алиса в Стране чудес» в переводе Н. М. Демуровой и Франсуа Рабле
«Гаргантюа и Пантагрюэль» в переводе Н. М. Любимова.
© Данелия Г. Н., наследники, 2022
© Киноконцерн «Мосфильм» (кадры из фильмов), 2023
© Храмцов А. Ю., обложка, 2025
© Издание. 000 Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2025
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2025
Эту книгу я посвящаю моим дорогим друзьям Лоре и Тонино Гуэрра и Юрию Росту
Вступление
Летом 2000 года Тонино Гуэрра, Лора Яблочкина и я сидели в квартире мамы Лоры в Москве, у Красных ворот. Был какой-то необычный вечер. Солнце уже завалилось за Садовое кольцо, и наступили московские летние сумерки. Свет мы не зажигали. По воскресеньям на Садовом машин мало. И было непривычно тихо. Тонино и Лора спрашивали, почему я уже два года не снимаю. Я говорил, что в трамвай новой жизни не сумел пересесть и теперь еду на подножке. Без билета. Так, очевидно, и доеду до конечной остановки.
– Гия, у тебя столько интересных историй!.. Напиши книжку, – сказал Тонино. – А потом, если захочешь, снимешь по ней фильм.
Книжку я написал, назвал ее «Безбилетный пассажир» и посвятил Тонино и Лоре. Вторую книжку «Тостуемый пьет до дна» снова посвятил Тонино и Лоре. А третью книжку я написал в 2014 году, после фильма «Ку! Кин-дза-дза», назвал ее «Кот ушел, а улыбка осталась» и посвятил своему другу Юре Росту.
Недавно впервые прочитал все три книжки подряд. И понял: оттого что каждая писалась как последняя, есть повторы, длинноты, лишние эпизоды. Я решил все это поправить и объединить в одну книжку.
Должен сознаться, самое трудное для меня не придумать, не написать, не снять, не смонтировать, а остановиться в поисках вариантов. Я все время сомневаюсь, мне каждый раз кажется, что можно и нужно сделать лучше или иначе. И поэтому в материале у меня всегда есть несколько эпизодов, снятых в разных вариантах – с другим текстом, с другим действием. Эту книжку я тоже как бы монтирую. Оставляю лишь то, что мне кажется наиболее интересным. А иногда меняю дубли – беру варианты из памяти. Так что, если в этой книжке кое-что не совпадет с тем, что было написано раньше, не удивляйтесь.
Итак…
Приготовились к съемке! Мотор! Камера! Начали!
Предупреждение
Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.
Марк Твен.Приключения Геклъберри Финна
Краткий словарь
Генеральный секретарь ЦК КПСС – президент страны
Члены политбюро ЦК КПСС – очень большие люди
Первый секретарь ЦК республики – президент республики
Первый секретарь обкома – губернатор
Первый секретарь горкома – мэр
ЦК КПСС (Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза) – администрация президента
Госкино (Государственный комитет по делам кинематографии) – киношное начальство
КГБ (Комитет государственной безопасности) – ФСБ
ГДР – Германская Демократическая Республика (друг)
ФРГ – Федеративная Республика Германия (враг)
Абстракционист – нехороший человек
Райисполком – префектура
Дороги, которые мы выбираем
– Надо отдать его во ВГИК, – сказал отец, когда я окончил школу.
– Почему во ВГИК? – спросила мама.
– А куда его, дурака, еще возьмут?
Отец мой, метростроевец, считал работу в кино несерьезным занятием и предложил ВГИК (Институт кинематографии) как крайний вариант.
– Там хотя бы блат есть, – сказал он.
Блат действительно был. Мама работала на «Мосфильме» вторым режиссером и знала многих мастеров ВГИКа. Но поступать во ВГИК я отказался. Мама меня с детства возила в экспедиции на съемки фильмов, и я знал, какое это муторное и нервозное занятие.
– Но в какой-нибудь институт поступать надо обязательно, – сказала мама, – а то тебя в армию заберут.
В армию мне не хотелось. Мой приятель Женя Матвеев собирался поступать в архитектурный, и я пошел с ним – за компанию.
У нашей группы было два мастера – Юрий Николаевич Шевердяев и Михаил Федорович Оленев. Шевердяев – элегантный, спортивный, ведущий архитектор (по его проекту построен кинотеатр «Пушкинский», где прошли все премьеры моих фильмов) – был очень занят и появлялся у нас нечасто. А Оленев – скромный, похожий на сельского учителя – был все время с нами.
Михаил Федорович был очень болен, и мы старались не задерживать его долго у своих подрамников, чтобы он не уставал. Но он все равно каждый раз засиживался с нами допоздна – увлекался. Накладывал на чертеж кальку, брал свой любимый мягкий цанговый карандаш «Кохинор 6В», думал и по кальке правил проект… а потом рисовал возле здания для масштаба что-нибудь забавное: бодрого старика на самокате, пожарника на качелях, афишную тумбу, на которую задрала лапу собачка… Мне, когда я проектировал Южный вокзал, он нарисовал шарманщика на перроне, а в небе – симпатичный вертолет, с которого спрыгнул парашютист в железнодорожной форме…
…Михаил Федорович умер. Гроб стоял в институте, в большой пустой комнате. Ночью мы с моими друзьями Олегом Жагаром и Димой Жабицким, как это положено, дежурили у гроба. На стене висела картина Михаила Федоровича: открытое окно, на подоконнике глиняный горшок, в горшке – цветок, за окном ровное небо. Все скупо и просто… Но там, за окном, было столько воздуха и столько света, что я заплакал.
Комсомольские собрания
У меня еще со школы болезнь – аллергия на собрания. Первые десять минут мне просто скучно, а потом очень хочется курить и начинает болеть голова. Но в архитектурном было собрание, на котором я забыл и про скуку, и про курение. Это общеинститутское комсомольское собрание состоялось в первый же месяц, когда я поступил в институт. Проходило оно в здании Союза архитекторов СССР, в большом зале. Народа было много. В президиуме сидели ректор, парторг института и комсомольские вожди. Первые минут двадцать мне было, как всегда, просто скучно, а потом я почувствовал, что еще немного – и мне станет дурно. Я хотел смотаться, но мой друг Джеймс Жабицкий не пустил – сказал, если я сейчас уйду, обязательно кто-то настучит, и у меня будут неприятности. Я остался, и не зря.
Михаил Федорович Оленев
Под конец собрания перешли к обсуждению персонального дела. В райком пришло письмо на студента Попова: несчастная женщина сообщала, что он с ней сожительствовал, обещал жениться и бросил. Секретарь райкома сказала, что есть и другие сигналы: несмотря на неоднократные предупреждения, Попов пьянствует, развратничает и продолжает вести антиобщественный образ жизни. И районный комитет считает, что методы убеждения исчерпаны, и просит собрание обсудить вопрос о пребывании студента Попова в рядах Ленинского комсомола.
Первым выступил фронтовик. (Со мной училось много фронтовиков.) Фронтовик был контуженый, у него дергалась щека, и он заикался. Фронтовик гневно сказал, что он и его товарищи не за то кровь пролили, чтобы такие паразиты, как Попов, катались как сыр в масле и поганили жизнь окружающим. И он предлагает гнать эту гниду из комсомола!
– Гнать! – дружно поддержал оратора зал.
Потом выступил первокурсник. Он сказал, что приехал из Сибири. Когда его приняли в институт – это был самый счастливый день его жизни. Для него московский Архитектурный институт – храм. А сейчас, когда он узнал, что в этом храме обосновалась такая нечисть, как Попов, ему стало мерзко. И он считает, что Владлена Попова надо не только исключить из комсомола, но и отчислить из института.
– Отчислить! Давайте голосовать!
– Подождите! Подождите! Послушайте меня, дайте мне слово! Очень прошу! – раздался тоненький голосок.
На сцену выбежала щупленькая девушка в очках и начала взволнованно, чуть не плача, торопливо говорить:
– Вот мы сейчас исключим Владлена из комсомола, а вы подумали, какая это трагедия для человека?! Вот если бы меня… лучше уж расстрел! Товарищи, – она заплакала, – ребята, я вас очень прошу, давайте послушаем самого Попова, я уверена, что он раскаивается! Пусть даст честное комсомольское, что больше не будет! Предлагаю дать слово Попову!
– Дать! Дать! – закричали все.
Мне было интересно посмотреть на этого Попова, жизнелюба и покорителя женских сердец. Я, как и все первокурсники, сидел на балконе и очень удивился, когда увидел сверху, как по проходу партера неторопливо идет к сцене маленький, с пролысиной на макушке, в мятом пиджаке парень лет двадцати пяти. Он вышел на сцену, встал на трибуну, выждал, пока в зале не наступит полная тишина, а потом спокойно сказал в микрофон:
– Я вас… (непечатное слово)! Вопросы есть?
Вопросов не было. Наступила гробовая, тягостная тишина. Попов спустился со сцены, неторопливо пошел по проходу, вышел из зала и закрыл за собой дверь. Тишина стояла такая, что слышно было, как на люстре почесалась муха.
Покаянную речь Попова я запомнил на всю жизнь. А это собрание было и остается моим самым любимым. Как говорят герои Николая Гоголя: «Праздник души, именины сердца! И пир духа!»
Раз уж я начал вспоминать про комсомольские собрания, расскажу еще об одном, где из комсомола выгоняли меня.
Архитектурный институт был и есть на улице Рождественка (бывшая Жданова), а я жил, как и сейчас, на Чистых прудах. В институт можно было ездить на трамвае «Аннушка», до Трубной площади. Но когда у меня был большой подрамник (с большим подрамником в трамвай не пускали), я шел в институт пешком. По улице Кирова, по площади Дзержинского (мимо здания КГБ), по Пушечной и направо, по Жданова. И вот однажды, когда я шел по площади Дзержинского, к парадному подъезду этого учреждения подъехала черная длинная машина, охранник открыл дверцу и на тротуар ступил председатель КГБ, всемогущий Лаврентий Павлович Берия.
Я опешил.
– Здравствуйте, – робко кивнул я.
– Здравствуйте, – Берия протянул мне руку.
Руки у меня были заняты подрамником. Я прислонил подрамник к стене и почтительно пожал всемогущему руку. Пришел в институт и похвастался. Все мне завидовали. А через полгода Берия как врага народа и японского шпиона расстреляли. И на первом же комсомольском собрании кто-то вспомнил об этом случае и предложил меня «как приспешника гнусного предателя» исключить из комсомола. Но мне повезло, времена менялись. И мне вынесли всего лишь «выговор, без занесения» за неразборчивость в знакомствах.
Дороги, которые мы выбираем
Продолжение
После архитектурного по распределению я попал в ГИПРОГОР (Институт проектирования городов), в мастерскую перспективной планировки. Мы решали, как должны развиваться города страны в течение ближайших двадцати пяти лет. Но пока мы в Москве чертили, они на месте строили как хотели и плевать им было на то, что мы там, у себя, чертим.
Поначалу я был полон энтузиазма, засиживался на работе по вечерам и порученную мне работу выполнил на месяц раньше срока. Ожидая похвалы, представил чертеж главному архитектору. Тот взял черный карандаш и стал чиркать прямо по чертежу: «Тут надо так. А это надо вот так». Мог бы хоть кальку подложить… Стереть его чертов карандаш мне не удалось, и пришлось чертить все заново. Через неделю принес со всеми исправлениями, а он опять чиркает: «Здесь надо так. А здесь – так…»
Снова переделываю – опять не то.
В курилке мне объяснили:
– Когда срок сдачи?
– Пятнадцатого.
– Сдай проект тринадцатого, и все получат премию. А будем сдавать за месяц до срока, на месяц сократят сроки. Понял?
Я понял.
Приходил на работу к девяти, отмечался и шел курить. Потом шел в мастерскую, что-то чертил для приличия (под бесконечный рассказ чертежницы Зины о подлостях соседки по квартире Люси) и шел курить. Потом играл в морской бой с экономистом Маргулисом (под рассказ Зины о Люсе), слонялся по мастерской, потом еще чуть-чуть чертил (под Зину о Люсе)… И шел курить.
Между прочим. Ставлю в известность: здесь и далее имена и фамилии действующих лиц не всегда достоверные.
И так до без четверти час. Ровно без четверти приходил мой друг Олег Жагар, который работал в соседней мастерской. Мы съедали бутерброды, запивали чаем и ровно в час – за проходную. Гулять.
В тот судьбоносный день идем, гуляем, видим: под забором лежит пьяный, нетипичный – в макинтоше, берете, очках и галстуке. И при часах. Могли бы и мимо пройти, но не прошли.
– Надо разбудить, – сказал Олег. – Разуют этого интеллигента. Эй, коллега!
Интеллигент открыл глаза, сел, огляделся, соображая, где он, и тупо уставился на нас.
– Домой иди, пока в вытрезвитель не забрали, – сказал Олег.
– Я не пьян, – прохрипел интеллигент, – я отдыхаю.
Он потянулся, зевнул и вытащил из кармана скомканную газету, расправил ее, снова лег и сделал вид, что читает.
Если бы тогда этот тип не попался нам на глаза, может быть, моя жизнь на следующие полвека сложилась бы иначе. Не было бы бесконечных бессонных ночей и сердечных приступов, не выкуривал бы три пачки сигарет в день, не увидел бы полярное сияние в Арктике и миражи в Каракумах, не кодировался бы у профессора Довженко, правнучки не гордились бы тем, что они – мои правнучки, композитор Гия Канчели не подарил бы мне заграничную куртку из чистого хлопка, и не писал бы я сейчас эту дурацкую книжку.
Дело в том, что пьяный читал «Советскую культуру», а там был заголовок: «„Мосфильм“ объявляет набор на режиссерские курсы». Я купил газету и узнал, что при «Мосфильме» решили организовать высшие режиссерские курсы. На эти курсы будут принимать людей смежных профессий – художников, писателей, работников театра, музыкантов… и архитекторов. Стипендия – сто тридцать рублей! А у меня в ГИПРОГОРе зарплата – девяносто.
– Ну какой из тебя режиссер? – сказала вечером мама. – Ты же видел режиссеров. Знаешь, какие они.
Режиссеров я видел, и очень многих. До войны мы жили в бараке в Уланском переулке. Жили роскошно: у нас была большая комната (21 кв. м.) и отдельный вход. Когда из Тбилиси приезжала старшая сестра мамы актриса Верико Анджапаридзе и ее муж кинорежиссер Михаил Чиаурели, они привозили вино, всякую снедь и звали к нам своих гостей. Мама готовила вкусную грузинскую еду, и у нас побывали и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Довженко, и Рошаль, и многие другие классики. Все они были яркие, колоритные личности и излагали свои мысли образно, красиво и очень складно.
Когда мне было лет пять, мамина подруга Аллочка на ночь вместо сказок рассказывала мне историю Римской империи. Когда мы добрались до Цицерона, я представлял его себе похожим на Григория Львовича Рошаля – в берете, очках, при бабочке, но в тоге (Рошаль у нас бывал чаще других).
Мама была права – мне до Цицерона далеко. Я до сих пор даже короткий тост складно произнести не могу (а еще грузин).
Я объяснил маме, что не собираюсь быть режиссером-постановщиком. Хочу стать вторым режиссером, как она, и не хочу до гробовой доски слушать про Зинину соседку Люсю.
– Давай попробуем, – согласилась мама. – Но сейчас это будет очень сложно.
Времена изменились. Чиаурели за пропаганду культа личности услали в Свердловск. До этого Чиаурели снимал фильмы о Сталине и был ведущим режиссером. Директором «Мосфильма» стал лауреат шести сталинских премий Иван Пырьев. И если он узнает, что я племянник ненавистного соперника Чиаурели, то он меня и близко к курсам не подпустит. Так что, чем меньше людей будет знать, что Георгий Данелия – сын Мери Анджапаридзе, тем лучше.
Мама позвонила кинорежиссеру Михаилу Калатозову, которого знала еще по Тбилиси, сказала, что ее сын собирается поступать на режиссерские курсы, и попросила посмотреть, есть ли у ребенка какие-нибудь шансы.
На следующий день в курилке Олег Жагар меня консультировал. В отличие от мамы, он мое решение сразу одобрил:
– Раз в башке щелкнуло, то валяй. Чтобы потом не жалеть.
Жагар, фронтовик-разведчик, на десять лет старше меня, был эрудированным и умным человеком, и я с ним считался.
– Давай подумаем, что Калатозову говорить… Он обязательно спросит, почему ты решил поменять профессию? А ты?
– Скажу, потому что здесь тоска зеленая.
– Ни в коем случае. Говори, что ты с детства мечтаешь быть кинорежиссером, что это твое призвание. Что любишь литературу, музыку, живопись, театр, а кино – искусство синтетическое и все это аккумулирует. Ну, живопись и литературу ты более или менее знаешь… Как с музыкой?
– Не ахти… Мелодии помню, могу даже напеть, но что чье…
– А ты там не пой. Говори, что твой любимый композитор Бетховен, «Героическая» симфония. «Героическая» – верняк. Ну и Прокофьев. Да, а в литературе не забудь «Не хлебом единым» Дудинцева. Сейчас это модно.
…В субботу я пошел к Калатозову. Михаил Константинович – высокий, вальяжный, шестидесятилетний грузин с бархатными карими глазами, – усадил меня в кресло, сам сел напротив.
– Решили поменять профессию? Зачем? Архитектор – замечательная специальность.
Он был со мной на «вы», хотя знал меня с детства: я дружил с его сыном Тито.
– Я люблю живопись, литературу, музыку и театр. А кино – искусство синтетическое и все это аккумулирует.
Калатозов одобрительно покивал.
– В самодеятельности спектакли ставили?
– Нет.
– Играли?
– В спектаклях? Нет, в спектаклях не играл.
– А где?
– В капустнике, в цыганском хоре пел. В институте.
Пауза.
– Фотографией увлекаетесь?
– Нет.
– Пишете? Рассказы, заметки…
– Нет.
– Стихи?
– Сейчас уже нет.
– А когда?
– В детстве сочинял какую-то бестолочь… Но мама очень гордилась.
– Ну-ну, – заинтересовался Калатозов, – прочтите.
– Да не стоит…
– Прочтите, прочтите.
И я прочел:
- Во мгле печальной на горе стоит Чапаев бледный.
- Погиб Чапаев в той реке, погиб он, незабвенный.
- Врагу за это отомщу и силу нашу покажу,
- И выскочат из Троя четыреста героев.
– «Трой» – это троянский конь, – объяснил я. – Мне тогда мамина подруга Аллочка про него рассказала.
«Господи, что я несу!»
– М-да… – Калатозов тяжело вздохнул. – А Чапаева Бабочкин сыграл неплохо…
Пауза.
– Вы сказали, любите музыку… – наконец спросил Калатозов. – Сами музицируете?
– Немного.
– На фортепьяно?
– На барабане.
Пауза затянулась. Всемирно известный режиссер сложил руки на груди и задумался, а я с тоской смотрел по сторонам. В этой комнате мне все было знакомо: и фотография, где Калатозов снят с Чаплиным (во время войны Михаил Константинович был представителем «Совэкспортфильма» в США). И тахта, покрытая шотландским пледом, и картина над тахтой – красивая молодая женщина в кресле. Женщина с картины смотрела на меня с сочувствием. Я легонько подмигнул ей: не переживай, родная. Я все понял, сейчас уйду.
– Иностранный язык знаете? – наконец придумал еще один вопрос Калатозов.
– Нет.
– Вы молодой. Надо выучить.
Я встал.
– Обязательно выучу. Я пойду, Михаил Константинович. Извините. Спасибо.
Калатозов тоже поднялся.
– Я провожу.
Он вышел со мной на лестничную площадку и нажал кнопку вызова. Загудел лифт и, не доехав до нас, остановился – перехватили.
– Парфеноны и Колизеи стоят тысячелетия. А кино что – целлулоид, пленка. Зыбкий материал. – Калатозов вздохнул.
– Ой, Михаил Константинович, – вспомнил я, – извините, я у вас на столе папку оставил!..
…Через десять минут Калатозов внимательно изучал содержимое папки, а я в кресле напротив напряженно ждал приговора.
Последний месяц я, готовясь к визиту, с утра до вечера рисовал жанровые картинки и сделал, как мне казалось, забавную раскадровку чеховского «Хамелеона».
Досмотрев, Калатозов закрыл папку, откинулся в кресле, сложил руки на груди и задумался.
«Не понравилось», – понял я и стал непослушными от перенапряжения пальцами завязывать тесемки на папке. Тесемки не поддавались.
– Дайте мне, – Калатозов отобрал у меня папку и сделал аккуратные бантики. – Это вы сдайте в четыреста двенадцатую комнату на «Мосфильме». Узнайте, что там еще надо. На экзамене я вас спрошу, почему вы хотите стать режиссером. Ответите, как сегодня мне. Маме привет.
– Спасибо, Михаил Константинович!
В дверях он меня спросил:
– А почему вы мне эти рисунки сразу не показали?
– А вы не спросили, рисую я или нет.
…Прошло два месяца. За это время я сдал в приемную комиссию рисунки и все, что было положено, и с «Мосфильма» ко мне на дом пришла бумага, что я допущен к собеседованию.
А в ГИПРОГОР вслед за ней пришла другая бумага: официальное приглашение в Китай.
Месяцев шесть тому назад в ГИПРОГОРе появилась китаянка, которую прислали к нам на практику. Звали ее Ы-Фынь. На вид ей можно было дать то двадцать пять, то сорок – в зависимости от освещения. Сначала ее водил по институту сам директор института, потом ей занялся главный архитектор. Главный архитектор перепоручил ее начальнику нашей мастерской, а через неделю китаянку сплавили мне. И дальше сплавлять ее было некому.
– Чему она у меня может научиться? Я сам еще учусь! – пытался увильнуть я.
– Пусть делает то же, что и ты.
– Трудно будет ей без тренировки курить на лестнице с девяти до шести.
– Кончай острить. Это комсомольское задание.
Ну раз комсомольское… Я подумал и поручил Ы-Фынь перечертить детальный план города Красноуфимска, схемой расселения которого занимался в то время. Думал, со всеми коммуникациями и сараями ей месяца на два работы хватит.
Она предъявила мне чертеж через десять дней. Глаза у нее были красные, а план начерчен хоть неумело, но аккуратно и досконально. Тогда я дал ей план другого города, в три раза больше. И еще – взял из красного уголка гипсовую голову Диадумена, принес из дома подрамник, ватман и показал, как надо рисовать. Днем Ы-Фынь чертила, а вечером, после работы, рисовала. Диадумен в ее исполнении смахивал на китайца.
Через некоторое время я должен был ехать в командировку. Я сказал своей подопечной, что уезжаю в Красноуфимск, а с ней будет заниматься старший архитектор Нелли Зурабовна.
– Нет. Я ехать с тобой, – заявила Ы-Фынь. – Я тоже чертила Красноуфимска.
Я доложил начальству, что китаянка намылилась ехать со мной.
– Нельзя. Это закрытый объект.
– Так ей и сказать?
– Нет. Ей скажи, что там русский мороз, дом приезжих и нужник во дворе!
Так я ей и сказал. Ы-Фынь строго посмотрела на меня:
– Я мороз не боюсь! И нужник не боюсь! Я три года командира партизанского отряда!
Командира не командира, но уехал я без нее (об этой поездке расскажу отдельно).
А потом был XX съезд, где Хрущев разоблачил культ личности. В газетах еще ничего не появилось, но все уже что-то слышали.
С утра в мастерской никто не работал. Пока еще полушепотом делились услышанным: оказывается, Сталин был еврей, японский шпион и агент царской охранки.
Ы-Фынь сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Слушала, слушала и вдруг что есть силы грохнула кулаками по столу и крикнула:
– Мао Цзедунь никогда не ошибаться! Никогда! – и убежала.
Несколько дней она не появлялась. Потом явилась как ни в чем не бывало, и все пошло по-прежнему: днем чертим, вечером рисуем.
В общем, я к ней привык. Она мне была симпатична: вежливая, скромная и очень обязательная. Она ко мне тоже привыкла и приглашала в гости:
– Георгия, приходи ко мне дома. Будем пить чай, веселиться и фотографироваться.
А я, не зная, что она имеет в виду под «веселиться», не иду, отказываюсь. Вызывают меня в комитет комсомола:
– Данелия, тебя твоя китаянка чай пить приглашает. Почему не идешь?
Уже настучал кто-то.
На следующий вечер после работы я купил букетик цветов и поехал к Ы-Фынь. Жила она в однокомнатной квартире с казенной мебелью. Мы выпили чаю со сластями из гастронома, она рассказала анекдот про Трумэна, я – про грузина и армянина, посмеялись. Потом она взяла фотоаппарат, мы вышли на улицу, она сфотографировала меня, я – её, попросили прохожего, он сфотографировал нас вместе. Попрощались и разошлись, точно выполнив программу: выпили чай, повеселились, сфотографировались.
Так Ы-Фынь проработала у нас полгода, и ей пора было уезжать. Мы собрали деньги, купили ей в подарок электрический самовар и устроили в мастерской прощальную вечеринку. После вечеринки Ы-Фынь попросила, чтобы я ее проводил, и по дороге, в метро, спросила, не хочу ли я поехать в Китай. На три года работать. Могу взять с собой жену и дочку.
– Спроси семья. Утром позвони. В семь. В восемь меня посольство везти аэропорт.
– Хорошо, позвоню. А кем я там буду работать?
– Будешь моя советника.
– А ты кто?
– Министра строительства.
– ?!!
Дома я посоветовался и на следующий день ровно в семь утра позвонил Ы-Фынь, сказал, что согласен.
На работе, когда я сообщил, что Ы-Фынь – министр строительства Китая, все решили, что я шучу. Но начальник мастерской занервничал и успокоился, только когда позвонил в Госстрой и выяснил, что министр строительства Китая – мужчина. А через две недели из Китая пришла бумага – официальное приглашение Данелия Георгия Николаевича.
– Может, она замминистра? – снова заволновался начальник мастерской. – Или министр какой-нибудь провинции?..
Я до сих пор не знаю, кем была Ы-Фынь, но тогда решил: не попадаю на курсы – еду в Китай.
Режиссерские курсы
– Подождите в комнате отдыха актеров, вас вызовут, – сказала секретарша, когда я пришел на «Мосфильм» сдавать вступительные экзамены на режиссерские курсы.
В комнате актеров сидели, ходили, курили, стояли, прислонившись к стене, человек двадцать абитуриентов. В основном это были театральные режиссеры, некоторые уже с именем. Обсуждался только что вышедший на экраны бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани». Говорили они очень складно, красиво и непонятно. Ссылались на источники, про которые я не слышал, употребляли термины, которые я не знал. Я даже не понял, хвалят они фильм или ругают.
«Куда ты лезешь, Данелия? – сказал мне внутренний голос. – В Китай, брат, в Китай!»
Но тут меня вызвали.
Большая комната была освещена неоновыми лампами, излучающими холодный синий свет (неоновые лампы только-только появились, и я их увидел впервые). В первом ряду за длинным столом сидели ведущие мастера советского кино: Пырьев, Довженко, Ромм, Юткевич, Калатозов, Рошаль, Александров, Трауберг, Дзиган, Зархи. Во втором ряду – просто мастера советского кино: Арнштам, Роом, Столпер, Птушко, Юдин, Барнет, Пронин, Швейцер… А в глубине у стены стояла «шушера»: Самсонов, Басов, Гайдай, Рязанов, Азаров, Чулюкин, Карелов, Алов с Наумовым и другие. Всего экзаменаторов было человек пятьдесят. И все синие от неонового света.
Посередине комнаты стоял круглый столик и стул. На столике – графин с водой и стакан.
– Садитесь, Данелия, – доброжелательно сказал Рошаль.
Я сел и уставился на Пырьева, который листал мои рисунки.
– Георгий Николаевич, почему вы решили поменять профессию? – спросил Калатозов, как договорились.
А я вдруг понимаю, что ни слова сказать не могу. Все забыл. То ли культурный шок, полученный в предбаннике, меня подкосил, то ли количество и цвет экзаменаторов.
– Выпейте воды, – сказал Рошаль.
Я налил воды в стакан, выпил.
– Ну, так почему вы решили стать режиссером? – мягко повторил свой вопрос Калатозов. – Ведь архитектор тоже интересная профессия.
– Да, – согласился я, – парфеноны и колизеи стоят века, – с ужасом понял, что говорю что-то не то, и замолк.
«В Китай! В Китай!!» – напомнил внутренний голос.
– Скажите, а вы любите литературу, музыку? – подсказывает Калатозов.
– Да… – наконец вспомнил я: – А кино – искусство синтетическое. А я люблю и театр, и литературу, и живопись, и музыку. А кино все аккумулирует.
– А почему бы вам не поступить в Суриковское? – спросил Довженко, которому Пырьев передавал рисунки. – Вы неплохо рисуете.
– Потому, что кино – искусство синтетическое, – пошел я по второму кругу. – А я театр люблю, и литературу, и музыку. «Аппассионату» Бетховена, и «Героическую», и Прокофьева люблю, и Дудинцева, и Утесова… – не смог я вовремя остановиться.
Дальше я толком ничего не помню. Что-то меня спрашивали… Что-то я отвечал…
А вечером, когда мы с женой уже строили китайские планы, со студии позвонила счастливая мама. В коридоре «Мосфильма» она встретила Самсона Самсонова и как бы мимоходом спросила:
– Ну, что там на экзаменах? Были способные?
– Было несколько. Кстати, и одного грузинчика приняли. Нам с Иваном (имелся в виду Пырьев) его рисунки понравились.
…В результате на курсы взяли четырнадцать человек. Из четырнадцати десять были театральными режиссерами, а четверо нет: инженер, психолог и мы с Егором Щукиным – архитекторы.
Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить нас всех по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не разучил гаммы. Может быть, они были правы. Все, что касалось работы с актерами, мизансцен и системы Станиславского, они, конечно, знали лучше. Но что касается кино… Я с детства околачивался на съемочных площадках. И в массовках снимался – и когда был ребенком, и потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл крестьянского мальчика, с репликами! Мне тогда было десять лет. Поэтому, как снимается кино на практике, какое это непредсказуемое занятие, я знал лучше, чем они.
Между прочим. Раз уж упомянул фильм «Георгий Саакадзе», расскажу чем он мне запомнился. Когда фильм в сорок третьем вышел на экраны в Москве, я повел весь двор смотреть на меня в кино. А меня там не было: оказалось, что мой эпизод вырезали. Сняли, похвалили и вырезали. (А мама не решилась мне об этом сказать.)
Но думаю, что съемочной группе «Георгия Саакадзе» я запомнился не в образе крестьянского мальчика, а в роли турецкого янычара. Недалеко от Тбилиси снимали батальную сцену: сражение грузин с турками. Детей в армию не брали, но, используя родственные связи, я выклянчил форму, шлем и меч. И даже коня! Но, пока я бегал по инстанциям, грузинская амуниция уже кончилась, и из меня сделали турецкого янычара – надели шальвары, чалму и дали кривую саблю.
Лошадьми фильм обеспечивал кавалерийский полк, но их не хватало, поэтому турецкую конницу добирали где возможно: и на конезаводе, и у местных крестьян, и даже в цыганском таборе. Мне досталась «цыганочка». Позже, когда я увидел иллюстрации к «Дон-Кихоту», я понял, что Росинанта рисовали именно с нее. Но Росинант был флегматик, а моя «цыганочка» все время скалила зубы, косила красным глазом и подрыгивала ногами: чего стоим? Чего время теряем?
Пока седлали мою «цыганочку», шли бесконечные репетиции: турецкая конница отступала, грузинская наступала. Чтобы войска не смешались, синхронизировали все с точностью до секунды.
Наконец, мой конь был оседлан, и я обходным путем – чтобы мама неувидела – въехал к туркам и затесался поглубже.
– Приготовились к съемке! – скомандовал Михаил Чиаурели. – Камера! Пошли турки!
Мы, турки, поскакали.
– Грузины!
Поскакали и грузины. Впереди грузинского войска – Георгий Саакадзе на белом арабском скакуне.
Я был счастлив. Моя «цыганочка» шла хорошим галопом и ничуть не уступала другим лошадям.
Но перед камерой, в самом центре кадра, «цыганочка» вдруг остановилась и стала выпендриваться. Она взбрыкивала и, пытаясь меня сбросить, чуть не стойку делала на передних ногах. А я висел у нее на шее, вцепившись в гриву, чалма съехала на брови, сабля оказалась на спине и била по голове.
– Что за кретин там в кадре? – раздался истошный крик оператора.
– Стоп! – закричал в рупор Чиаурели. – Грузины, стойте! Остановитесь!
Но остановить грузинское войско было уже невозможно: прямо на меня несся Георгий Саакадзе. Перед моей выпендривающейся «цыганочкой» его араб вдруг резко затормозил, и великий полководец вылетел из седла.
Что было потом, пропускаем. Почти месяц меня и близко к съемкам не подпускали…
На курсовую работу нам выделили по 300 метров пленки и по одному съемочному дню на каждого. На лекциях я сидел за одним столиком с Шухратом Аббасовым. Нам было комфортно друг с другом – я неречист, и он молчун, и мы решили объединиться и совместно снять отрывок из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова: как Варвара уходит от Васисуалия Лоханкина (на двоих – 600 метров пленки и два съемочных дня).
Написали сценарий, прохронометрировали – получилось 756 метров. А у нас 600. Пятьдесят процентов уйдет на хлопушки, захлесты и технический брак – это минимум. Пришлось сокращать 256 метров – вычеркивать дорогие нашему сердцу реплики. С трудом втиснулись в 300 метров, (10 минут). Но снимать мы должны были только по одному дублю.
На актеров денег не было, и мы пригласили студентов Школы-студии МХАТ Галю Волчек и ее мужа Женю Евстигнеева. Конечно, мы хотели кого-нибудь поопытнее, но у этих было большое преимущество – они были бесплатными.
Снимать мы должны были в какой-нибудь готовой декорации, построенной для другого фильма. Но на момент съемок в павильонах «Мосфильма» стояли либо избы, либо дворцовые залы, и нам пришлось сделать выгородку комнаты Лоханкина в коллекторе (зале для складирования). Мы сами притащили и поставили две стенки, сами принесли мебель и реквизит. И начали снимать. (Оператором нам назначили женщину средних лет – Соню Хижняк.)
Первый день прошел очень успешно – сняли 140 полезных метров, потратили 287. Второй день не задался. Начали снимать – забарахлила камера, – «салат». Перезарядились – снова брак – соринка. Снимаем крупный план Гали Волчек – в коллектор въехал грузовик, звукооператор требует переснять. Второй дубль у Гали получился хуже, чем тот испорченный – Галя настаивает: еще один. А пленка идет. В итоге к концу смены на последний кадр осталось всего девять метров – ровно на один дубль. Снимали не по порядку, а так, как было удобно по свету, и последним оказался кадр из середины: Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу, с криком «Спасите!» порвал карточку и снова улегся на диван.
Проверяли на мне: Шухрат стоял с хронометром, а я вскакивал с дивана, истошно кричал: «Спасите!», рвал карточку и ложился обратно.
– Семь метров, – сказал Шухрат. – Женя, запомнили? Сделайте все точно так.
– И кричи, что есть мочи, истошно, – добавил я.
– Давайте снимать, – Евстигнеев лег на диван.
Я перекрестился и скомандовал:
– Мотор!
Евстигнеев встал, медленно подошел к столу, порвал карточку, вернулся, лег на диван и лениво, чуть слышно пробормотал: «Спасите»… Пленка кончилась.
Погубил фильм, зараза!
– Съемка окончена, спасибо всем, – сказал невозмутимый, как индеец, Аббасов. – Пойдем, Гия!
И мы, не попрощавшись, ушли из павильона.
Долго шли молча.
– А может, это не так уж плохо? – наконец сказал Шухрат.
Я свирепо посмотрел на него. Шухрат поднял руки:
– Молчу.
Шухрат оказался прав: когда в первый раз показывали отрывок, больше всего смеялись именно в этом месте. А Ромм потом даже похвалил эту евстигнеевскую импровизацию:
– Хорошо придумали, сделали от обратного. Молодцы!
Я посмотрел на Шухрата, Шухрат – на меня, и мы не стали уточнять, чья это идея, – зачем терять время на никому не интересные подробности?
…В ноябре мы с Шухратом были в Краснодаре на практике – на съемках картины Григория Львовича Рошаля «Хождение по мукам». Мама работала там вторым режиссером, а директором картины был Виктор Серапионович Циргиладзе, мой старый знакомый: именно он гонялся за мной с палкой на съемках «Георгия Саакадзе» после случая с «цыганочкой».
Ну что я могу рассказать об этой практике? Съемки как съемки, все это я уже видел не раз. Ярко мне запомнилась такая картина: вечер, закат, поле, черный силуэт съемочного крана, на нем – человек… Мне даже захотелось про это снять фильм (у меня в жизни так бывало – картинка, а потом фильм. Девушка и парень с зонтиком – «Я шагаю по Москве», вертолет на замке – «Мимино», голова в капитанской фуражке посреди реки – «Фортуна»).
С Циргиладзе всегда работал Ким – скромный седой человек с усталым лицом. Мы никак не могли определить его должность. Иногда он носил стул за режиссером, иногда на нем ставили свет, а чаще всего он стоял около камеры. Наверное, Ким и сам прекрасно понимал, что без него спокойно могут обойтись, и поэтому очень старался быть полезным.
Снимали сцену «Ранение Рощина». Накануне ночью подморозило, и лужи покрылись коркой льда. Николай Гриценко, который играл белого офицера Рощина, предложил эффектный кадр: Рощина ранят, он падает и лицом разбивает ледяную корку. «Падать буду только один раз, – предупредил Гриценко. – Снимайте наверняка».
Настроились, тщательно все проверили.
– Все готовы? – спросил Рошаль.
– Готовы.
– Камера! Начали!
И Гриценко самоотверженно рухнул лицом в лужу. Разбил он щекой лед или не разбил, никто не увидел, потому что тут же с криком «ой, он упал!» в кадр вбежал Ким и стал поднимать Гриценко: «Коля, больно?» Хорошо, что офицер Рощин в этой сцене был без сабли, а то Гриценко разрубил бы Кима на кусочки.
И еще у Кима было одно занятие – когда снимали с крана, если оператор слезал с площадки, туда сажали Кима – чтобы не нарушалось равновесие.
Как-то снимали километрах в тридцати от города в степи. После съемки обратно в Краснодар мы с Шухратом ехали на газике с Циргиладзе. На полпути Циргиладзе спохватился:
– Ребята, а где Ким?
Ким всегда ездил с ним.
– Не знаем.
Развернули машину, поехали обратно. На фоне заходящего солнца чернел силуэт крана. А на верхней площадке крана, сгорбившись, сидел Ким.
– Ким, съемка закончилась давно! Ты что там сидишь, болванчик?! – истошно заорал Циргиладзе.
Болванчиками Циргиладзе называл всех. Одних в глаза, других (Рошаля, например) за глаза.
– Меня забыли, – виновато объяснил Ким.
До войны Ким был большим начальником в нашем кино. Потом от него ушла жена, он запил и пропал. Объявился во время войны в Тбилиси: жалкий, опустившийся… Его случайно на улице встретил Циргиладзе, узнал, приютил, и с тех пор они не расставались.
…На диплом я решил снять драму. Остановился на «Русском характере» Алексея Толстого: обожженный танкист приходит на побывку домой, и мать его не узнает. У каждого из нас, слушателей курсов, был свой наставник. Моим был Калатозов. Я написал сценарий и отнес мастеру на утверждение.
– Позвоните завтра часа в три, – сказал он мне.
Назавтра, ровно в три, набираю с режиссерских курсов номер и слышу – приятный женский голос говорит в трубке: «Калатозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите после сигнала. В вашем распоряжении минута». Тогда об автоответчиках еще никто не слышал. Звоню каждый час – то же самое. Встречаю в коридоре «Мосфильма» своего друга, дипломанта ВГИКа Тамаза Мелиаву, спрашиваю:
– Хочешь послушать чудо техники?
Завожу его в комнату, набираю номер и даю трубку:
– Слушай.
«Калатозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите…»
– Эту финтифлюшку он, наверное, из Америки привез, – сказал Тамаз и тут же предложил: – Есть два пятьдесят. Поехали в «Арарат».
– Не могу. Мне к Калатозову надо.
– Из ресторана позвоним.
В шикарном по тем временам ресторане «Арарат» висели бамбуковые занавески и была зеркальная стена, в которой отражался весь зал. Конечно, на два пятьдесят следовало идти не в этот ресторан, а в пивнушку, но Тамаз, как и его учитель Сергей Иосифович Юткевич, был эстетом. (К примеру, он никогда не открывал бутылку пива зубами.) Тамаз долго выяснял у официанта, какие есть коньяки? И что он порекомендует на горячее? А кто шеф-повар? В итоге заказал коньяк армянский «три звездочки», сто пятьдесят грамм, кекс – две порции, и лимон. И велел принести самые маленькие рюмочки. Официант почтительно кивнул и заспешил выполнять заказ. Было в Тамазе что-то такое, что неотразимо действовало на официантов. Заказы на копейку, а официанты почтительны и угодливы. На два пятьдесят в «Арарат» я бы ни с кем, кроме Тамаза Мелиавы, не пошел.
Я вспомнил о Калатозове и вышел в холл позвонить. Занято! Когда дозвонился – снова женский голос. Вернулся в зал – за нашим столиком сидят еще двое.
– Познакомься, – говорит Тамаз. – Наши друзья из Восточной Германии.
Немцы приподнялись, мы пожали друг другу руки. И немцы уставились в меню. (Их к нам подсадили, потому что в зале на этот момент мы были самыми трезвыми.) Официант принес наш заказ: графинчик с коньяком, два ломтика кекса и две дольки лимона.
– Еще две рюмки! – распорядился Тамаз.
И официант заторопился за рюмками.
Когда появились рюмки, Тамаз встал, разлил коньяк и предложил выпить за великого немецкого коммуниста Эрнеста Тельмана. Все встали, Тамаз сказал тост, перечислив заслуги Тельмана перед человечеством. Мы выпили. И тут же Тамаз предложил выпить за соратника Тельмана – верного ленинца Вильгельма Пика (президента Восточной Германии). Начал разливать – на одну рюмку не хватило… Тамаз поставил графинчик на стол и задумался. Немцы пошушукались, заказали еще сто пятьдесят. Официант принес. И Тамаз продолжил тост. Говорил о Вильгельме Пике с такой теплотой, словно Пик был его ближайший родственник. Выпили. И тут же Тамаз предложил выпить за выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза Никиту Сергеевича Хрущева. Разлил коньяк – опять на одну рюмку не хватило. Опять Тамаз поставил графин и вздохнул, а немцы опять пошушукались и заказали… И так минут двадцать.
Мы выпили за «миру мир», за «солидарность со странами третьего мира», за кубинскую революцию и Фиделя Кастро (отдельно) и в его лице – за лидеров всех стран социалистического лагеря…
А после того, как мы выпили за бесстрашных коммунистов-женщин: Розу Люксембург, Клару Цеткин, Надежду Крупскую и Екатерину Фурцеву, – немцы, так и не присев, заплатили за то, что они заказывали, попрощались и, покачиваясь, пошли на выход. Но перепутали направление и врезались в зеркало – в то место, где отражалась дверь.
– Пора и нам, – Тамаз посмотрел на часы. Он собирался ехать на вокзал встречать Вахтанга Абрамашвили, который вез бочонок вина. Позвал и меня с собой.
– Не могу, мне к Калатозову надо.
– Надоел ты со своим Калатозовым!
Официант принес счет. Уложились в два тридцать, а двадцать копеек Томаз щедро оставил на чай. Из холла я снова позвонил мастеру и снова: «Калатозова нет дома… Если хотите что-то передать…» – сообщила калатозовская дама.
– Дай-ка, – Тамаз взял у меня трубку и сказал противным высоким голосом: – Передайте ему, что он сикильдявка.
– Ты что, с ума сошел? Ты что натворил?! Он теперь решит, что это я!
– Я женским голосом говорил, он подумает, что это заигрывает поклонница, – сказал Томаз.
Вахтанга мы встретили, бочонок он привез…
…На следующий день, ровно в три часа, я позвонил мастеру. «Калатозова нет дома, – начала калатозовская дама, – если хотите что-то передать…»
Я дослушал до конца и сказал:
– Передайте, пожалуйста, Михаилу Константиновичу, что звонил Гия Данелия и он извиняется, что вчера не смог позвонить, потому что…»
– Гия, я прочитал, – неожиданно прозвучал голос мастера. – Приезжайте….
Приехал. Сценарий мастер забраковал:
– Фальшиво. Мать не может не узнать сына, она сердцем чувствует.
Зазвонил телефон. Калатозов трубку не взял. Дама произнесла свой текст.
– Это автоответчик, для сообщений, когда абонента нет дома, – объяснил он. – Но я его никогда не отключаю, не беру трубку, если не называются, звонит много ненужных людей… и не только… – Калатозов на секунду задумался и спросил: – Кстати, Гия, вы случайно не знаете, что такое сикильдявка?
– Нет, не знаю, – произнес я, честно глядя ему в глаза.
И сказал чистую правду: что такое сикильдявка я до сих пор не знаю. И спросить уже не у кого…
И так я остался без сценария, и Тамаз Мелиава, который чувствовал себя виноватым за сикильдявку, отдал мне свою очень удачную инсценировку небольшого эпизода из романа «Война и мир», который он собирался поставить на площадке во ВГИКе.
Ночь. У костра солдаты варят кашу. Из леса выходят два француза, голодные, ободранные, почти босые. Солдаты усаживают их у костра, кормят кашей, дают водки. Французы поели, выпили и заснули. «Тоже люди», – удивился молодой солдатик Залетаев. (Его играл юный Лев Дуров, это был его дебют)
Условия съемок теперь были лучше, чем на курсовой: пленку дали один к пяти, была профессиональная съемочная группа и техника.
Снимали зимой, ночью, в лесу недалеко от «Мосфильма». Было очень холодно, и мой однокурсник, грек Манус Захариас (он играл французского офицера), простудился. На следующую ночь у него была температура 38,5. Пустить его босиком на снег мы, естественно, не могли. Так что в кадре «босые ноги французского офицера» мы снимали мои ноги.
Я стою босиком на снегу, а оператор Николай Олановский уже двадцать минут ставит свет.
– Скоро?
– Сейчас еще один бэбик поставлю – и все.
(Бэбик – маленький осветительный прибор.)
Поставили бэбик.
– Все?
– Все. Сейчас только эффект от костра сделаем.
Осветитель взял еловую ветку и стал махать перед прибором.
– Быстрее! – сказал Олановский.
Осветитель замахал быстрее.
– Медленнее!
А я все стою. Наконец сняли дубль. Олановский просит повторить. Сняли второй. Коля просит – еще: надо теперь помахать веткой у другого прибора. «Дорвался! Устроил себе именины сердца!» Сняли третий.
– Все! Снято! – крикнул я и побежал к автобусу.
– Стой! Не снято! – кричит Олановский. – Еще один дубль! Я только еще один бэбик добавлю!
– Нет уж, хватит!
Утром отдали пленку в проявку. К вечеру узнаем, что наш материал напечатали. Терпения ждать, когда его выдадут, не было, – и мы побежали в лабораторию, и напросились посмотреть вместе с ОТК (отдел технического контроля).
Идет наш материал, все нормально: лес, костер, солдаты… На экране – ноги на снегу, а на них – эффект костра. Хорошо! Не зря ветками махали. Первый дубль, второй… Женщина в белом халате (технический контролер) поворачивается ко мне и спрашивает:
– Нафталину насыпали? Или соль?
– Снег.
– Да ладно. Я-то вижу, что не снег.
Мне очень обидно. Зря мерз! Наверное, все-таки надо было дать Олановскому поставить еще один бэбик.
…Так прошло два года. Первые полтора мы учились в идеальных условиях. У нас была большая аудитория, свой просмотровый зал, куда три раза в неделю привозили фильмы из фильмофонда. Все мы были зачислены в штат студии как ассистенты режиссера первой категории, с такой же зарплатой. И все потому, что эти курсы придумал Пырьев, а он был перфекционист: все, что его, должно быть на самом высоком уровне.
Когда Пырьев стал директором, он развернул на «Мосфильме» грандиозное строительство. Построил два новых корпуса с павильонами, вырыл пруд, огородил территорию высокой чугунной решеткой и стал добиваться, чтобы все Воробьевы горы передали «Мосфильму» для натурных площадок.
Тут-то его и сняли. А без Пырьева никто не знал, что с нами (выпускниками режиссерских курсов) делать, куда нас девать. Оказалось, что режиссерские курсы «Мосфильма» не зарегистрированы Министерством высшего образования, и диплома режиссера-постановщика нам никто выдать не может. А если нет диплома, то и постановки нам не полагается.
Побежали к Пырьеву. Но Пырьеву было не до нас: его персональное дело было на контроле в ЦК. А дело заключалось в следующем. Пырьев к тому времени придумал и пробил в правительстве Союз кинематографистов. Снимать фильмы и руководить объединением ему не хватало – надо было еще куда-то девать свою неуемную энергию. (Думаю, если бы у Пырьева не отняли «Мосфильм», то никакого Союза кинематографистов не было бы) Пырьев отвоевал здание на Васильевской, отремонтировал его и решил устроить во дворе летний ресторан. Но ему не хватало площади для помоста с роялем. Надо было отодвинуть забор на метр. И Пырьев пошел по инстанциям – районные, городские, союзные… И везде получил отказ. Потому что рядом с Домом кино была школа, и никто не решался отнять землю у детей.
Тогда Пырьев со своим верным соратником оргсекретарем союза Григорием Марьямовым купили бутылку водки школьному сторожу и ночью втроем – сторож, Марьямов и первый секретарь Союза кинематографистов Пырьев (депутат Верховного Совета СССР, народный артист СССР, лауреат шести Сталинских премий) – переставили забор. Как показала потом экспертиза – на один метр семь сантиметров.
А утром Пырьев лично явился в школу и вручил постоянные пропуска в Дом кино директору школы и завучу. И все были довольны. Кроме учителя истории – парторга школы. Учителю истории стало обидно, что Пырьев не признает ведущей роли Коммунистической партии, и он написал письмо лично главе государства Никите Сергеевичу Хрущеву, что режиссер Пырьев ограбил советских детей. И теперь персональное дело Пырьева Ивана Александровича было на контроле в ЦК. А мы так и остались в штате «Мосфильма» ассистентами режиссера первой категории. Но уже без зарплаты. И я устроился третьим вторым режиссером к режиссеру Файнцимеру на картину «Девушка с гитарой». Проработал два месяца и понял, что уже не хочу быть вторым режиссером. Хочу снимать сам!
Редактор Марьяна Качалова, которая курировала курсы, сказала:
– Ищите сценарий. Будет сценарий – будет шанс. Хорошо бы современный, на производственную тематику. Или военно-патриотический.
Из личного опыта
После четвертого курса архитектурного я проходил практику на строительстве МГУ Когда появился на стройке, здание уже было возведено и шли отделочные работы. Я попал к прорабу по прозвищу Ётить.
– Студент, ётить? Будешь у меня мастером по ремонту облицовки, – объявил он мне. (Здание было облицовано керамическими плитками.)
Лифт не работал, и мы полезли пешком на тридцать пятый этаж. Через открытое окно вылезли на подмостни. Там курили солдаты. Подмостни были подвесными – покачивались на железном тросе, и шагать по ним было страшновато. Ётить объяснил:
– Стучишь по плитке – если звук полый, ставь на раствор новую. Твой участок от сих до сих. И еще тут.
Он пошел по доске за угол: там были такие же подмостни, а между ними лежала незакрепленная доска. Тридцать пятый этаж, люди внизу казались муравьями – ступить на эту доску я не решался.
– Ты где, ётить? – позвал Ётить. – Иди сюда!
Я пошел. Мне показалось, что доска поехала, и я вцепился в трос. Ётить еле отодрал меня:
– Ты чего бздишь, ётить? Здесь два шага.
Через какое-то время я привык и ходил совершенно спокойно.
Начал работать. Солдаты курили и советовали, а я простукивал плитки и ненадежные отдирал.
Через пару дней Ётить поднялся посмотреть. И обалдел:
– Ты что, ётить, о…л?! Ты все расфурычил!
– Только где звук полый.
– Забудь про звук, ётить! Постукал – если не отлетела, оставляй!
Так я и делал. Не знаю, каким образом эти плитки до сих пор держатся.
На шпиле над нами работали заключенные. Двое каким-то образом умудрились бежать и попали в цементный раствор. (Потом мы использовали это в сценарии «Джентльменов удачи».)
…В феврале пятьдесят пятого года меня от ГИПРОГОРа командировали на полтора месяца в Свердловскую область, проверить схему расселения нескольких небольших городов Северного Урала (это когда я не взял с собой Ы-Фынь).
Приехал в Свердловск(1], обошел гостиницы – мест нет. Сдал чемодан в камеру хранения на вокзале, посмотрел расписание – поезда во все нужные мне города уходят из Свердловска вечером и идут ночь. Это меня устраивало – там и буду спать.
Уезжал вечером и рано утром, часа в четыре, приезжал на место. До города поезд каждый раз не доезжал несколько километров, – очевидно, чтобы сбить с толку шпионов: во всех этих городах были военные заводы. Мороз сорок градусов. Идешь в темноте по шпалам. Входишь в город – широкие улицы, одноэтажные дома и высокие заборы.
(Раньше там жили староверы.) Прохожих еще нет. Спросить, где дом приезжих, не у кого, только за заборами собаки лают. В доме приезжих, когда его разыщешь, долго стучишь в дверь. Открывает заспанная дежурная:
– Мест нет.
Показываешь командировочное удостоверение, начинаешь уговаривать – пускает. Как правило, в домах приезжих было две-три комнаты на втором этаже, и в основном жили в них те, кто работал на заводе. Люди спали на кроватях и на полу – на матрасах. Садишься на лестнице, на ступеньки, и ждешь. В шесть – подъем, пора на завод. Все быстро собираются и уходят, а я, не раздеваясь, ложусь поверх одеяла на освободившуюся кровать и досыпаю. Ну а потом иду в горисполком согласовывать схему расселения: в какую сторону будет развиваться промышленность, а где строить жилье, где спортивный комплекс. А потом иду смотреть, что они уже построили без согласования с центром.
Обедал в столовых. Меню незамысловатое: суп из головизны (из рыбьих голов) и макароны с маргарином, больше пятнадцати копеек на обед не потратишь… Вечером возвращался в дом приезжих, знакомился с людьми, меня угощали хлебом с маргарином и чаем. А когда все ложились спать, я вносил поправки в свои чертежи.
Так и ездил около месяца. В Свердловске я бывал проездом, мылся в бане, менял белье в холодной камере хранения на вокзале, где хранил свой чемодан. (Хорошо, что Ы-Фынь со мной не пустили. Хоть и партизанка, но все-таки женщина.)
Когда вернулся в Москву и сдал чертежи, сообразил, что забыл исправить названия. У меня на синьке плана города Нижняя Сысерть почему-то было написано «Красноуфимск», а на синьке Красноуфимска – «Нижняя Сысерть». Кто-то до меня напутал. Я попросил вернуть мне бумаги, но мне отказали:
– Нельзя.
– Почему? У меня же есть допуск.
– У тебя простой. А здесь «Ольга Павловна» (особая папка).
– Так там то, что я нарисовал!
– Не имеет значения.
Так и не дали мне исправить названия. Надеюсь, в дальнейшем не построили на кладбище в Красноуфимске спортивный комплекс.
С той поездки запомнился такой эпизод. Чуть-чуть потеплело, стало подтаивать. На улице – месиво из глины, снега, стружек. Подхожу я к столовой, там какой-то пьяный лежит поет. Из столовой вышел парень – ну прямо молодой Есенин. Ярко-синие глаза, соломенный чубчик, фуражка, а на фуражке очень много значков – комсомольский, «Ворошиловский стрелок», ГТО, ДОСААФ, ОСВИАХИМ.
Захожу в столовую, беру суп из головизны. На меня поглядывают: новый человек и одет необычно. Там все в основном в ватниках, много бывших заключенных. Сидят пьют пиво, под столом водку разливают… И вдруг заходит тот парень со значками, в глазах – такая трагедия:
– Я рупь потерял… У меня рупь был, а я его потерял…
Мне жалко его стало. Я положил рубль на пол, рядом со своим столом и говорю:
– Малый, а вот здесь какой-то рубль валяется!
Парень удивленно посмотрел на меня:
– Ой, он мне рупь дает! Он его положил, а я тут и не сидел!
И вижу, все сидящие в столовой смотрят на меня. И нехорошо смотрят. И кто-то сказал:
– Еврей, наверное.
И все потеряли ко мне интерес. А парень ушел из столовой, так и не взяв мой рубль. Доел свою «головизну» и когда вышел на улицу, там меня остановил парень:
– А я тебя жду.
Я полез в карман за рублем.
– Не надо, – сказал он, – возьми вот. Освященная… – И протянул мне бумажную иконку Богоматери.
Эту иконку я два года носил в паспорте. А потом в метро у меня паспорт украли. И иконку.
Между прочим. После третьего курса архитектурного института летом нас послали на военные сборы в Нахабине. Перед отъездом выяснилось, что никаких родственников на свидания к нам пускать не будут, не детский сад! А мы с Ирой недавно поженились, нам трудно было расставаться, и мы договорились, что каждый вечер, если небо будет чистым, с одиннадцати до двенадцати одновременно будем смотреть на Полярную звезду. В лагере мы, естественно, спали в палатке, спать ложились в десять, я выжидал до одиннадцати, высовывал голову из палатки на волю, находил Большую Медведицу, справа Полярную звезду и преданно глядел на нее. Два месяца. В то жаркое лето только две ночи были облачные. Подъему нас был в пять утра, и мне все время очень хотелось спать.
Когда я вернулся, мыс Ирой вышли на балкон дома на Чистых прудах. Был вечер, внизу на черной поверхности пруда плавал белый лебедь Васька, а в темно-сером московском небе мерцали звезды.
– Давай смотреть на нашу звезду вместе, – сказал я Ире.
– Давай, – сказала Ира.
И мы посмотрели в разные стороны.
– Ты куда смотришь? – насторожился я.
– На нашу Полярную звезду.
– И где же там наша Полярная звезда? – спросил я.
– А вон, красненькая. – И Ира показала пальцем на Марс.
…Вскоре после этого мы с Ирой разошлись. Тихо, мирно, но все равно, когда есть ребенок, это грустно. А наши отношения остались теплыми и уважительными.
Моя военно-патриотическая тема
– Баба – она что? Баба – она бывает ручная, ну и дизель-баба. Ручная для утрамбовки, а дизельная сваи заколачивать. На керосине работает. А ручную и самому сделать можно – берешь бревно, отпиливаешь и прибиваешь гвоздями палку. Записали? Теперь шинели, – полковник Епифанов, который преподавал нам в архитектурном военное дело, читал лекции без переходов от одной темы к другой. – Идет бой. Вы в атаке, и надо преодолеть проволочное заграждение. Но зима. Вы снимаете и кидаете на проволоку свои шинеля́, по ним преодолеваете, значит, препятствие и – в атаку. А про шинеля́ больше не думаете, вы за них материально не отвечаете.
– А если ранят? – спросил я.
– И если ранят, не отвечаете.
– А если убьют?
– И если убьют, не отвечаете.
Все заржали.
– Фамилия? – спросил меня Епифанов.
– Данелия.
– Идите и доложите генералу, что я вас выгнал с занятий.
– Товарищ полковник, я больше не буду. Это я случайно, не подумав…
– Я не ваша мама, Данеля. Идите.
Генерала назначили к нам заведовать военной кафедрой недавно. И все его боялись, говорили – изверг, чуть что не так, сразу выгоняет из института. Идти к нему мне не хотелось, но куда деваться – пошел. Перед дверью генеральского кабинета застегнул пиджак и верхнюю пуговицу на рубашке (рубашка была мне мала, и шею сдавило так, что трудно было дышать). Постучал.
– Да?
Я открыл дверь. За столом сидел маленький, тщедушный старичок в генеральской форме и что-то писал.
– Товарищ генерал, разрешите войти?
– Войдите.
Я, чеканя шаг, подошел к столу:
– Разрешите доложить, товарищ генерал!
– Докладывайте.
– Студент третьего курса Данелия явился доложить, что полковник Епифанов его выгнал с занятия!
Генерал поднял голову, посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами и забарабанил пальцами по столу.
«Сейчас вышибет из института» – понял я.
– Ты вот что, сынок… – сказал генерал. – Ты на него не обижайся. Он контуженый. У него под Черниговым парашют не раскрылся.
Второй раз я увидел генерала, когда наш курс отправили на два месяца на военные сборы в Нахабино. На занятии по подрывному делу (генерал по специальности был подрывником) наш взвод учили, как можно взорвать деревянный мост (в Нахабино был мост через речушку). Поскольку учебных шашек в части не было, мы использовали настоящие. А генерал велел поставить и взрыватели – «…чтобы все было максимально приближенно к боевым условиям!» И наблюдал, как мы под руководством лейтенанта из нахабинской военной части прикрепили к каждой свае по толовой шашке и подсоединили провода… Потом объявили перекур. Генерал тоже свернул «козью ножку», затянулся и сказал лейтенанту что мы, конечно, сделали все правильно, по инструкции. Но такую фитюльку, как это мостик, он, генерал, мог бы и пятью шашками убрать. Лейтенант робко возразил – пятью никак, минимум двенадцать. Генерал взял прутик и начертил на земле мост:
– Вот тут поставить, тут, тут и тут двойной. И нет моста!
Наш генерал в сорок первом, во время отступления, взрывал мосты от Бреста до Воронежа.
– Извините, товарищ генерал, но это сомнительно.
– Не веришь? – завелся генерал. – Сейчас поверишь. Поставь по этой схеме.
– Но, товарищ генерал…
– Выполнять!
Лейтенант выполнил.
Генерал снял сапоги и галифе (под галифе оказались застиранные синие сатиновые трусы, а выше колена – наколка: два голубка, под ними надпись «Егор + Глаша») и, осторожно ступая худыми ногами в синих жилах, влез в воду – самолично проверить все контакты. Потом вернулся на берег и приказал лейтенанту:
– Этих положи, – он показал на нас, – эту гони отсюда, – возле моста сидела собака.
– Взвод, ложись! – скомандовал лейтенант и бросил в собаку камень.
Мы легли, собака убежала, генерал крутанул «динамо», и… мостика не стало.
Местные власти начали было скандалить, но командир дивизии прислал солдат из стройбата, и они через неделю построили новый мост, в два раза шире прежнего. Новый мост генералу понравился.
– Другое дело. Это уже мост, – сказал он лейтенанту. – Этот пятью не возьмешь. Тут, самое малое, восемь надо.
Об этом разговоре доложили командиру дивизии. Командир дивизии поднажал на начальство, и генералу в срочном порядке выдали льготную путевку в санаторий в Карловы Вары, которой он добивался уже два года: после ранений у генерала вырезали полжелудка и селезенку. Наш генерал прошел три войны: Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную.
Между прочим. На сборах в первый же день, когда нас построили и старшина стал зачитывать список, дойдя до меня, он запнулся, а потом выкрикнул:
– Данеля!
И из ста пятидесяти фамилий он запомнил только мою. Идем в строю, старшина командует:
– Взвод! Песню запевай!
Не поют.
– Данеля, песню запевай!
И я запеваю, куда деваться.
Или:
– Кто хочет после чистки оружия дрова пилить? Два шага вперед!
Добровольцев нет.
– Данеля, два шага вперед!
Потом я понял, что военным так произносить мою фамилию удобнее. Они привыкли команды отдавать, и «Данеля» намного короче и четче, чем расплывчатое – Данелия.
Великая Отечественная война
Война застала нас с мамой в деревне Дигоми, под Тбилиси. Мы там каждое лето отдыхали у сестры мамы Верико. Возвращаться в Москву отец нам запретил. Сам он был на фронте – сооружал подземные КП (командные пункты) для верховного командования. Отец потом рассказывал, что ни одного КП они так и не закончили: немцы наступали с такой скоростью, что они два раза оказывались за линией фронта, в немецком тылу. Чудом удавалось выбраться.
Мы с мамой застряли в Тбилиси на два года – жили в доме Верико. Мама работала помощником режиссера на «Грузия-фильм», а я четвертый и пятый класс проучился в 42-й русской школе.
Когда я вспоминаю Тбилиси тех лет, перед глазами такая картина: посередине улицы Ленина, под уклон, на тележках с колесиками из подшипников, отталкиваясь руками от мостовой, мчатся два безногих парня лет двадцати, русский и грузин, в тельняшках и бескозырках с ленточками. Ленточки развеваются, раненые горланят: «Вара-вара-вара, приехал я в Париж!» – песня из популярного тогда американского фильма «Три мушкетера».
Тогда в Тбилиси редко можно было встретить неискалеченных мужчин призывного возраста. Грузинский призыв отправили под Керчь, и там почти все погибли. Похоронки, похоронки, похоронки… Не вернулись и мои двоюродные братья, мои кумиры, мастера спорта по боксу Олежка и Игрунчик Иващенко.
Между прочим. Весной сорок первого Алик Глонти из соседнего переулка безнадежно влюбился в красавицу Лейлу из нашего переулка, в которую были влюблены все. Тогда ему было пятнадцать лет. Алик писал стихи о своей первой любви и читал их инвалиду войны безногому сапожнику Вартану, у которого работал подмастерьем. Вартан слушал стихи, слушал… А потом решил:
– Стихи – это для уха. А я тебе сделаю для глаз.
И пошил Алику ботинки с каблуками из пластигласа, а в каблуки вмонтировал лампочки на батарейках. Наступаешь – лампочка зажигается.
Когда стемнело, Алик стал ходить по нашему переулку под окнами Лейлы туда-сюда. Ходит, а каблуки мигают. Очень красиво! И Вартан тоже прикатил на своей тележке, любовался издалека. Но недолго Алик ходил. Бабушка Лейлы вышла на балкон и накричала на Алика:
– Ты зачем, идиот, тут своим светом мигаешь? Хочешь, чтобы на наш дом немцы свою бомбу скинули?! Убирайся, чтобы мы тебя больше не видели!..
(Во время войны Тбилиси не бомбили, но немецкие самолеты иногда летали над городом, и зенитки постреливали.)
А потом в мастерской, когда Алик, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать, вынимал лампочки из каблуков, Вартан сказал:
– Были бы у меня ноги, я бы по десять лампочек на каждую сделал! И плевал бы на все немецкие бомбы и на всех бабушек!..
…Как и все мальчишки, я хотел убежать на фронт. И мы с моим другом и одноклассником Шуриком Муратовым (Шурмуром) стали готовиться к побегу. Экономили хлеб и сушили сухари (трудно было удержаться и сразу их не съесть). Выменяли у раненых в госпитале бутылку чачи на наган и три пули. (Чачу Шурмур спер из дома.) Но главное – учились на ходу прыгать с поезда: контролеры, часовые, милиция вылавливали таких, как мы, и отправляли домой. У опытных людей выяснили, как это делается: ложишься на ступеньки вагона ногами вперед по ходу, потом сильно отталкиваешься против движения, чтобы потушить инерцию, группируешься и катишься под откос. Тренировались на товарных поездах. Как умудрились не переломать себе кости – чудо!
Назначили день побега. А за два дня мама измазала свое единственное платье масляной краской и очень расстроилась. Я попытался ее утешить:
– Возьми платье у Верико, у нее много.
– Мы и так у них на шее висим…
Я взял растворитель у старшего сына Чиаурели художника Отара, отчистил пятно и показал платье маме. Пятна почти не было видно. Мама прижала меня к себе и заплакала. После этого пошел к Шурмуру и сказал, что на фронт бежать не могу: мама без меня пропадет, она такая беспомощная, совсем не приспособлена к жизни.
Между прочим. А Шурмур убежал, но через месяц вернулся. Почему-то он попал не на фронт, а в Иран, где у него были родственники-ассирийцы. И угощал всех в школе «трофейными» финиками.
В конце зимы сорок второго из Москвы в Тбилиси приехала наша домработница Наташа. Отец прислал с ней свои вещи, целый чемодан – костюм, пальто, железнодорожный китель, сапоги, джемпер, меховую шапку-ушанку, чтобы мы у крестьян меняли их на продукты. А в мае сорок третьего мы узнали, что отец очень болен, у него открытая форма туберкулеза.
– Как он там один? – расстроилась мама и решила ехать в Москву. Одна. А нас с Наташей хотела оставить в Тбилиси.
– Мама, я тебя одну, беззащитную, не пущу! Если ты меня с собой не возьмешь, я в Москву пешком приду, – пригрозил я (мне было двенадцать лет).
Мама понимала, что это не пустые слова, и взяла меня и Наташу с собой. Родственники и друзья собрали деньги, и мама купила десять бутылок водки. Ей сказали, что по дороге водку можно поменять на сливочное масло – лучшее лекарство для больных туберкулезом. Мой дядя Миша Чиаурели достал нам три билета в мягкий вагон. И мы поехали к папе в Москву. Поезд был набит битком. Пассажиров было много. Купе забиты, багажные отделения тоже. Люди ехали в коридорах, в тамбурах, на крышах. На всех станциях подсаживались. В наше купе в итоге набилось девять человек. До Москвы ехали восемь суток. Проводник предупредил:
– В окно не высовывайтесь и ничего не хватайте, граждане.
И объяснил, что на крыше вагонов едет немало бандюг. Они на палочке с веревочкой спускают папиросу или бутылку портвейна в авоське, человек открывает окно, высовывается, тянется за предметом, его хватают, вытягивают на крышу поезда, раздевают и выбрасывают на ходу.
– В нашем поезде двоих дернули и выкинули.
Ехали медленно, с большими остановками. Иногда стояли сутки, двое. Чем дальше отъезжали, тем больше появлялось разрушенных зданий, станций, мостов. По восстановленным наспех мостам ехать было страшно, казалось, что летишь в воздухе. Восстанавливали их скупо, без ограды, только узкую проезжую часть. На перронах было много нищих, инвалидов на тележках с подшипниками, беспризорников (мальчишек и девчонок). У беспризорников на шее висела банка на веревочке из-под тушенки – самая большая их ценность. (Свиную тушенку Америка присылала по ленд-лизу.) В эту банку пассажиры бросали им остатки еды.
На пятый день на станции Мичуринска мама поменяла две бутылки водки на масло. Когда поезд тронулся, к нам в купе пришли двое в форме НКВД (энкавэдэшники ехали в последнем вагоне, и им кто-то уже донес). Предъявили документы. Попросили маму показать наши вещи. Мама показала. У нас с мамой был один чемодан. Его вытащили из багажного отделения.
– А еще какие ваши вещи?
– Еще тот, фанерный, – донесла тетка, которая подсела в Орджоникидзе.
– Это не ее, это мой, – сказала Наташа.
– Там разберемся, – и чемоданы забрали.
– Извините, товарищи, в чем дело, за что? – спросил Петрэ Долидзе, администратор театра Марджанишвили (он ехал в нашем купе).
– За спекуляцию.
– Гражданка, пройдемте, – энкавэдэшник взял маму за локоть.
– Руку отпусти, гад! – кинулся я к нему.
– Пацана уберите!
Долидзе обхватил меня руками.
– Пустите, – я начал вырываться.
– Гиичка, ты не волнуйся, – крикнула мама, – я сейчас все объясню, и меня отпустят.
И маму увели.
– Гия, сядь и сиди спокойно. Я все улажу. Наташа, последи за мальчиком.
И Долидзе ушел.
«Уладит он! Я сам все улажу! – думал я и старался не заплакать. Сейчас все успокоятся, возьму наган, и они на коленях будут ползать, прощение у мамы просить…»
У меня в сумке, под сиденьем, лежал завернутый в майку наган – Этот наган мы с Шурмуром выменяли на две литровые бутылки чачи в Тбилиси, в госпитале, у раненого. Отдать жизнь за маму я мог в любую секунду.
Вернулся Долидзе с военным летчиком со звездой Героя Советского Союза на груди.
– Вот этот мальчик.
– Тебя как зовут?
– Гия.
– А меня Володя. Газета о награждении отца у тебя есть?
– У мамы в сумке, а сумку забрали. И маму…
– Я знаю. Пойдем, Гия, за мамой! И газету заодно почитаем.
Между прочим. В начале сорок третьего мой отец получил орден Боевого Красного Знамени. В начале войны орденоносцев было немного, и список награжденных печатался в газете «Правда». Теперь у отца было два ордена – Красной Звезды и Красного Знамени, и я очень гордился этим.
Мы (Володя, Долидзе и я) пошли в последний вагон к энкавэдэшникам. За нами пошла и Наташа. Путь был нелегкий. Все проходы были забиты пассажирами. И если бы не звезда Героя на груди Володи, до последнего вагона мы вряд ли бы добрались. Когда пришли, энкавэдэшники вскочили и отдали честь.
– Здравия желаем, товарищ Герой Советского Союза!
Маму отпустили. Вещи, водку и масло вернули и пообещали не мешать выменивать на лекарство для больного фронтовика.
Между прочим. Герой Советского Союза Володя оказался сыном Микояна. Анастас Иванович Микоян по значимости был в СССР третьим человеком. Сталин, Молотов, Микоян…
Подъезжая к Москве поезд бесконечно останавливался, и я изнывал от нетерпения… Вот скоро нас встретит отец – с орденом на груди, – и энкавэдэшники поймут, на чью жену замахнулись!..
Наконец, перрон Курского вокзала. Мы вышли – отца нет. Вынесли вещи – отца нет. Все уже разошлись, а мы стоим – отца нет. Наконец, я увидел – бежит по перрону в больничной пижаме не по размеру, с подвернутыми рукавами и брюками, худой, небритый. Чтобы нас встретить, он сбежал из больницы. Оказывается, месяц назад у папы пошла горлом кровь и его уложили в больницу. Когда мы выходили с вокзала, его – орденоносца! – задержали на КПП. (Документы отца были в регистратуре больницы.) И его выпустили только после звонка начальника «Метростроя» Самодурова. В больницу тогда отец так и не вернулся. Вышел на работу. Работал начальником шахты. Строил метро. «Война кончится, потом долечусь!»
Конечно, в Москве весной сорок третьего были еще воздушные тревоги, затемнение, рогатки на улицах… Но самое страшное было уже позади: немцев отогнали и бомбежки были уже не те… Но мы с ребятами из нашего подъезда все равно дежурили на крыше нашего дома (мы теперь жили в доме метростроевцев: Уланский переулок, дом 14). И мечтали, чтобы именно на нашу крышу упала зажигалка. Мы бы ее потушили, и нам дали бы грамоты. А может быть, даже и медаль, как мальчику из Даева переулка.
У нас был очень дружный подъезд: так получилось, что в нашем подъезде жило много ребят примерно моего возраста – год туда, год сюда. На первом этаже – Миша Степанов, на втором – Инна Хаблиева, на третьем – Вова Лозовский и его брат Леня, на четвертом – Авочка Иссар, братья Харис и Вагиз, на пятом Гарик Ананов и Феликс Липман, Оля Булыгина и Ира Либензон, а на шестом (на моем) в квартире напротив – братья Савицкие, Толя и Витя. Мы дружили. А в сорок четвертом, когда начались победные салюты и по репродуктору играли гимн, девочки под гимн во дворе учили нас танцевать: «…нас вырастил Сталин» – шаг вперед правой ногой, «…на радость народам» – шаг вперед левой ногой, «…на труд и на подвиг» – шаг в сторону правой ногой, «…он нас вдохновил» – приставляем левую ногу к правой… Сейчас я понимаю – это было счастье: мы побеждаем, в небе сверкает фейерверк, а ты танцуешь и обнимаешь девушку!.. А потом – День Победы!
Зимой сорок пятого я заболел паратифом и проболел полгода. Но девятого мая меня не смогли удержать дома. С утра было очень солнечно, из всех репродукторов звучала музыка, пел Утесов. Мы с ребятами пошли на Красную площадь. Проезжал милиционер на мотоцикле с коляской:
– Залезай!
Мы всемером облепили мотоцикл и так доехали до Манежной, где уже было полно народу. Люди пели, танцевали. Какой-то подполковник купил у мороженщицы целый лоток и бесплатно раздавал всем мороженое. Многие плакали…
Мы протиснулись на Красную площадь – прошел слух, что будет выступать Сталин. И все ждали – Сталин все не появлялся. Мне хотелось увидеть Сталина, но болезнь давала о себе знать: я еле на ногах держался от слабости. Попрощался с ребятами и пошел домой. Когда доплелся до Уланского, из подворотни навстречу вышел пьяный майор: босой, без ремня, с парабеллумом в руке. Наставил на меня револьвер, крикнул:
– Хенде хох! – и выстрелил.
Я повернулся и побежал, ноги подкашивались. Сзади крик: «Стой, гад! Гитлер капут!» – и еще один выстрел. Я забежал во двор и спрятался в подъезде за дверью – по лестнице подниматься сил уже не было. Долго стоял, смотрел в щелочку – офицер не появился…
Сережа
Пришел ко мне Игорь Таланкин (мы с ним вместе учились на курсах) с тоненькой книжечкой:
– «Сережу» Пановой читал?
– Нет.
– На, прочти. Если понравится, объединимся.
Я дочитал до половины и сказал:
– Давай срочно звонить Пановой, пока кто-нибудь не перехватил.
Позвонили в Ленинград(2] Вере Федоровне Пановой, сказали, что мы молодые режиссеры, хотим снять фильм по ее повести «Сережа» и просим ее написать сценарий. Панова отказалась: «Некогда, да и не умею». (До фильма «Сережа» Панову никто не экранизировал.)
– Да там почти готовый сценарий!
– Вот и напишите сами.
Писали сценарий так: я сидел за машинкой и печатал одним пальцем, а Таланкин, задрав ноги, лежал на диване. Работали дружно. Разногласия возникали только по форме. Таланкин сочинял:
– Колокольня стремительно уносилась вверх. Казалось, по небу плывут не облака, а колокольня плывет в них.
А мне лень печатать одним пальцем столько лишних слов, и я печатал просто «колокольня».
Спор.
Или – Таланкин начинал описывать туманное сиреневое утро, а я печатал: «Утро».
Скандал.
Когда напечатали страниц двадцать, прочитали и поняли: все слишком просто, нет яркого режиссерского решения. Находок нет!
Мы напряглись, и к часу ночи у нас появилось оригинальное решение – снимать фильм глазами маленького мальчика, то есть в ракурсе снизу. А мальчика вообще не показывать, звучит только детский голос за кадром.
На следующий день мы несколько поостыли и направили мощь своего таланта только на одну сцену: «Похороны прабабушки». У Пановой эта сцена написана хорошо, но слишком уж просто: тетя нарядила Сережу и повела на похороны. Сережа хвастается: «А мы прабабушку сегодня хороним»… Но это Панова. А где же мы?
И мы решили: людей в этой сцене не показываем, все действие снимем отраженно, на тенях, под «Похоронный марш». Писали неделю. Для настроения бесконечно заводили пластинку Шопена. Написали и остались очень довольны собой.
Тут как раз случился съезд писателей. Панова приехала в Москву, мы созвонились, и она назначила нам встречу в ресторане Дома литераторов.
Приехали в ЦДЛ, нас проводили к писательнице. Вера Федоровна – полная, степенная – сидела за столиком в Дубовом зале ресторана. Мы представились:
– Игорь.
– Георгий.
– Пожалуйста, имя и отчество, – сказала Панова.
– Дане надо…
– Мне так удобнее. И фамилии, пожалуйста.
Оказывается, через несколько дней после нашего звонка к Пановой пришли с «Ленфильма» покупать права на экранизацию «Сережи», но она отказала. Сказала, что звонил кто-то из Москвы и она уже дала им разрешение писать сценарий. На вопрос кто? Панова ответить не смогла, потому что мы забыли ей сказать, как нас зовут.
– Как идет работа над сценарием? Получается?
– Переводим действие на киноязык. Хотите, прочитаем сцену? – предложил Таланкин.
– Прочитайте.
Таланкин открыл папку, где лежала наша гордость – только что законченные «Похороны прабабушки».
– Вера Федоровна, только этот эпизод идет под музыку. Без музыки все будет восприниматься не так эмоционально. Поэтому, если не возражаете, Георгий Николаевич будет напевать мелодию.
Панова не возражала. И Таланкин с выражением начал читать:
– Идет по земле тень Сережи. Раздаются звуки похоронного марша.
Я запел «Траурный марш».
– В кадр входят тени людей, несущих гроб. Идут под музыку тени с гробом. Камера панорамирует вверх. Проплывают ветви деревьев. Чистое небо. Слышно, как падает земля на крышку гроба…
– Бум! Бум! Бум! – изобразил я и снова запел.
– Камера панорамирует вниз. В кадр входит белая кладбищенская стена. На ней тени стоящих у могилы и тени двух рабочих. В кадре слепое, в подтеках лицо полуобвалившегося памятника. И вдруг памятник стремительно проваливается вниз…
«Сережа», раскадровка.
Рис. Г.Данелия
– Цам! – изобразил я тарелки…
Немногочисленные посетители ресторана стали на нас оглядываться.
– Камера взлетает в небо…
– Цам!
– …летит над маленькими и нестрашными крестами могил. Тени крестов все гуще и гуще. Отчаянный вскрик Сережи, – Таланкин повысил голос, – музыкальный акцент!
– Тррр-рр! Цам! – Я добавил к тарелкам барабанную дробь.
– Камера, вылетев за ограду кладбища, останавливается на краю обрыва! И мы слышим голос Сережи: «Коростелев, а я тоже умру?» И голос Коростелева: «Нет, брат, ты никогда не умрешь», – с пафосом закончил Таланкин.
– И тут вступает флейта, – сказал я.
Выслушав всю эту ахинею, бедная Панова долго молчала.
– Ну как? – не выдержали мы.
– Извините, товарищи, но я в кино не очень понимаю, – сухо сказала она. И ушла.
А мы надрались.
Через два месяц мы показали готовый сценарий редактору третьего объединения Марьяне Качаловой.
– Я – за! – похвалила она, прочитав. – Но, если в авторах будут стоять только ваши фамилии, этот сценарий не примут. Надо, чтобы в титрах обязательно стояло имя Пановой.
Вера Федоровна Панова была признанным писателем. А признанные писатели тогда приравнивались к государственным фигурам, и с ними считались. Позвонили в Ленинград, сообщили Вере Федоровне, что сценарий готов, и спросили, не собирается ли она в Москву.
– Не скоро. Приезжайте вы. Я вам забронирую номер в «Европейской».
Мы взяли билеты на «Стрелу» и утром были в Ленинграде. Пошли в «Европейскую». Нам вручили ключи. Мы поднялись в номер и присвистнули: это были трехкомнатные апартаменты с картинами и антикварной мебелью. А может, она и заплатила? Пошли вниз выяснять. Нет, не заплатила! Мы рассчитались за сутки, тут же поехали на вокзал и с трудом наскребли на два бесплацкартных билета в общем вагоне на завтра. А собирались провести в Ленинграде несколько дней.
Отнесли сценарий Пановой, поблагодарили за гостиницу и попросили, ссылаясь на срочные дела, обязательно прочитать до завтра. Очень не хотелось ночевать на вокзале.
На следующий день до двенадцати (конец суток) забрали из гостиницы вещи и пошли за ответом.
– Не так плохо, как я ожидала, – сказала Панова. – Но подпись под этим, – она постучала по папке со сценарием, – в таком виде я не поставлю.
– Почему?
– А вот почему, – она открыла сценарий на закладке. – Вот! «Навстречу проехал автобус с пионерами, и они закричали «Обогнали! Обогнали!» Ну как же так можно, товарищи?! «Навстречу» проехали и «обогнали»! Может быть, все-таки мимо проехали? А?
Мы облегченно вздохнули.
– Да, точно. Мимо.
Потом последовало еще несколько замечаний в таком же духе, с которыми мы тут же согласились, и Панова поставила свою подпись.
Верная Марьяна Качалова отнесла сценарий новому директору «Мосфильма», и новый директор, не вникая, кто мы такие и откуда взялись, увидев на обложке фамилию Пановой, запустил фильм в производство. В третьем объединении, которым руководили Григорий Александров и Григорий Рошаль.
Между прочим. На «Мосфильме» в то время было четыре объединения. Первым руководил Пырьев, вторым – Ромм, третьим – Рошаль и Александров, четвертым – Райзман.
Оператором мы взяли Толю Ниточкина (дебют). Художником – Веру Низскую (тоже дебют). А директором картины согласился стать мой старый знакомый Циргиладзе, который тут же, не спрашивая нас, прикрепил к фильму опытного второго режиссера, ассистента и своего Кима. Второй режиссер и ассистент искали актеров, мы писали режиссерский сценарий, Ким кипятил воду и заваривал чай.
Режиссерский мы писали вчетвером, с оператором и художником: обговаривали каждый кадр. Потом я зарисовывал. Всего кадров было пятьсот пять.
На художественном совете объединения сценарий прошел, но нашу гордость, наш коронный эпизод «Похороны прабабушки» потребовали убрать: «Фильм детский, нечего детей пугать».
– Все равно снимем, – решили мы. – Подложим шумы, музыку и покажем!.. Тогда они поймут!..
Пока писали режиссерский сценарий, были найдены и утверждены актеры на роли Коростылева и мамы, на роль дяди-капитана, тети Паши и Лукьяныча. Из детворы были найдены Лидка и Шурик, остались Сережа и Васька.
Сережу мы представляли себе светленьким и голубоглазым. И к нам толпами приводили голубоглазых и сероглазых блондинов, мальчиков пяти-шести лет. Они читали стихотворение. Одно и то же, про Ленина: «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин, Владимир Ильич…» Эти камни с кирпичами мне уже по ночам снились.
А как-то привели черненького, пятилетнего Борю Бархатова. Стихи он неожиданно прочитал не про Ленина, а «Вот парадный подъезд» Некрасова – «р» он не выговаривал, и в его исполнении «парадный» звучало как «паадный». Забавный пацан. Мы решили пробовать его на пленку.
Пока ставили свет в павильоне, Боря подошел ко мне и спросил:
– Георгий Николаевич, скажите, пожалуйста, сколько энергии поглощают эти приборы?
– Не знаю, спроси у оператора.
– Анатолий Дмитриевич, – он сразу запомнил, как кого зовут, – скажите, пожалуйста, сколько энергии поглощают эти приборы?
– Мне некогда. Спроси у бригадира осветителей.
– Товарищ бригадир, сколько энергии поглощают эти приборы?
– Мальчик, не крутись тут под ногами!
– Что за работники? Никто ничего не знает!
Все засмеялись.
– Вот сейчас ты удивился. А можешь сказать то же самое возмущенно? – спросил Таланкин.
– Выругаться?
– Да.
– Что за работники! Одни балды! Жуки навозные! Прохиндеи! Так? Или совсем нехорошими словами?
– Хватит, – сказала Борина мама, испуганно глядя на нас.
Борю перекрасили в блондина, и Сережа был найден. Остался Васька. Кого бы ни приводили пробоваться на эту роль – я категорически отвергал, хотя ребята вроде бы были подходящие. Таланкин уже начал злиться.
История шалопая-Васьки мне чем-то напоминала историю моего школьного друга Володи Васильева по прозвищу Мюнхгаузен. И, наверное, подсознательно я хотел, чтобы Васька был похож на него.
Между прочим. Мюнхгаузен жил в Уланском переулке, в доме напротив. Прозвище ему дали за то, что он никак не мог определиться с отцом: то это был легендарный чекист, которого убили бандиты, то легендарный бандит, которого убили чекисты.
Мама у него была учительницей, и у нее тоже было прозвище – Ходячий МУР (Московский уголовный розыск). Мюнхгаузен связался с блатными, в школу не ходил, болтался на улице, а мама все пыталась затащить его домой и запереть. Поэтому, завидев мамашу, Мюнхгаузен пускался наутек. Она не могла его догнать и кричала: «Держите! Он у меня сумочку украл!» Сердобольные прохожие Мюнхгаузена отлавливали и начинали лупить. Мать подбегала и бросалась на сердобольных:
– Отпустите ребенка, фашисты!
Я с Мюнхгаузеном дружил – он был веселый и добрый парень.
– Завязывай, – советовал я. – Посадят!
– Исправлюсь, – обещал он.
Но не смог. Его и правда посадили.
Прошло много лет. Звонок в дверь. Открываю: стоит высокий парень в заграничной морской форме.
– Вам кого?
Улыбается:
– Разрешите доложить? Я – Мюнхгаузен!
Оказывается, отец Володи во время войны был командиром партизанского отряда в Болгарии. А после войны – членом болгарского политбюро. Он разыскал семью, и Мюнхгаузена с мамой специальным самолетом доставили в Софию. Отец Мюнхгаузена перевоспитал и отдал в морское училище.
Время поджимало. Васек, похожих на Мюнхгаузена, все не было и не было, и мы утвердили на эту роль мальчика, который нравился Таланкину. Потом сняли исполнителей всех ролей на пленку и показали пробы худсовету объединения. Утвердили всех, кроме Коростылева.
– Хорошо бы Коростылева сыграл такой актер, как Сергей Бондарчук, – сказали нам. – Он сейчас свободен, если уговорите его, мы вас запустим. Сценарий Бондарчуку объединение уже послало.
Вышли с худсовета расстроенные и подавленные.
– Бондарчук – народный артист СССР, Тарас Шевченко, Отелло, лауреат Ленинской премии… На хрена нам лауреат?! – ругался я.
– Зря паникуешь, – подумав, сказал Таланкин. – Не станет он сниматься в нашем маленьком, простеньком кино.
И с этой светлой надеждой мы поехали к Бондарчуку выполнять решение худсовета – уговаривать. Бондарчук и его жена Ирина Скобцева встретили нас приветливо, усадили за стол, напоили чаем и угостили заграничным печеньем. Таланкин начал витиевато извиняться, что наш сценарий без нашего ведома послали такому выдающемуся актеру, что мы мечтаем, чтобы Сергей Федорович снимался у нас, но, конечно, прекрасно понимаем, что его не может заинтересовать такая примитивная роль. И что…
Толя Савицкий, Мюнхгаузен и я. 1945 год
Из раскадровки. Васька и Сережа с Шуриком.
Рис. Г.Данелия
– Почему? – перебил его Бондарчук. – Сценарий мы прочитали, роли понравились. Мы с Ирочкой согласны.
Я поперхнулся чаем. Приехали! Директор совхоза «Ясный берег» – Отелло, а деревенская мама Сережи – Дездемона!!! (Бондарчук и Скобцева снимались в фильме режиссера Сергея Юткевича «Отелло», на нем и поженились.) Но куда деваться… И мы с Таланкиным соврали, что очень рады.
Пока у нас был подготовительный период, фильм Бондарчука «Судьба человека» получил главный приз на Московском фестивале. И Бондарчук полетел в Мексику на фестиваль фестивалей – представлять свой фильм в Акапулько. А наше кино мы начали снимать без него. А когда он вернулся в Москву, в Краснодар, где у нас были съемки, пришла телеграмма: «Связи запуском фильма „Тарас Бульба“ сниматься „Сереже“ не могу. Понимаю подвожу. Извините. С уважением Бондарчук». Сыграть Тараса Бульбу была мечта Бондарчука. Несбывшаяся.
Мы в панике. Конец сентября, а у нас героя нет! Если срочно не найдем, картину закроют! Начали звонить всем, кто мало-мальски подходил на эту роль. Безуспешно – все заняты.
Тут пришла вторая телеграмма, спасительная: «Связи закрытием „Тараса Бульбы“ если еще нужен могу прилететь Краснодар».
И Бондарчук прилетел: энергичный, загорелый, в шикарном заграничном костюме. Я, Таланкин и Ниточкин жили втроем в одном номере, а Бондарчука Циргиладзе поселил в двухкомнатном люксе. (Бондарчук приехал один. Скобцева должна была приехать позже.)
На следующий день снимали сцену: Сережа приносит сломанный велосипед, а Коростылев огорченно говорит: «Да, брат, ловко ты его».
Снимаем крупный план Бондарчука.
– Да, брат, ловко ты его, – улыбается Бондарчук.
– Стоп! Сергей Федорович, здесь Коростылев должен огорчиться.
– Угу. Давайте.
Снимаем второй дубль.
– Да, брат, ловко ты его, – опять улыбается Бондарчук.
– Сергей Федорович, а попробуйте сказать это не так весело. Все-таки Коростылев покупал велосипед, потратил деньги и за мальчика обидно…
– Угу. Давайте.
Третий дубль – снова улыбается.
Мы, конечно, предполагали, что с Бондарчуком будет работать трудно, но не знали, что в такой степени.
Вечером после съемок Бондарчук справлял свой день рождения – ему исполнилось тридцать девять. Он в своем люксе угощал нас ухой, которую приготовил сам на кухне гостиничного ресторана. Уха была вкусная. Но я, когда набрался, высказал имениннику все, что о нем думаю… и все своими словами… И что снимать его, Бондарчука, нас насильно заставили, и что он надутый индюк и упрямый, как осел, и что всю картину нам портит…
На следующий день в пять тридцать утра, как всегда, зазвонил будильник. Мои соседи сели на кроватях и мрачно уставились на меня. Тут же открылась дверь, в комнату зашел Циргиладзе, положил на стол трешку и сказал, что сегодня Бондарчук не снимается и пусть Таланкин угостит его пивом. А я чтобы ехал на съемку, снимал детей и больше близко к Бондарчуку не подходил! (Мы понимали – если Бондарчук откажется сниматься, это конец.)
Вечером возвращаюсь – у входа в гостиницу стоят Таланкин с Бондарчуком. Я кивнул и, как мне было велено, хотел пройти мимо.
– Данелия! – окликнул Бондарчук. – Ужинал?
– Нет.
– Пойдем в ресторан.
За ужином Бондарчук рассказывал про Акапулько, про прозрачное Карибское море, где плавают рыбы удивительной расцветки и дно видно до большой глубины, про то, как индейцы ныряют с высоченной скалы в прибой, про мексиканские пирамиды, про Сикейроса, а я все ждал, когда он займется делом – начнет со мной разбираться. Долго ждал и дождался. Через двадцать лет, когда в «Метрополе» отмечали шестидесятилетие Бондарчука, в своем тосте я сказал, что благодарен судьбе за то, что она подарила мне такого друга, как Сергей. Что если бы не его органичное чувство образа и не его советы, фильм «Сережа» был бы много хуже, а моя судьба сложилась бы совершенно иначе.
– Это был юбилейный тост или ты так извинился? – спросил Бондарчук, когда я сел (на правах близкого друга я сидел рядом с юбиляром).
– За что?
– За упрямого осла и надутого индюка.
Надо же, вспомнил! Ну и выдержка у этого народного артиста СССР! Двадцать один год молчал!
– И юбилейный, и извинился, – сказал я.
И тогда впервые Сергей рассказал мне о том, как он узнал, что получил звание народного артиста СССР. После фильма «Тарас Шевченко», где он сыграл главную роль, Сергей разошелся с первой женой, жить ему было негде, и он ночевал на сцене Театра киноактера. Как-то утром зовут его в кабинет директора к телефону.
– Здравствуй, Бондарчук, – сказал голос в трубке. – Пол-литра поставишь?
– А кто это?
– Василий Сталин беспокоит.
– Здравствуйте. Поставлю… а за что?
– Приходи к шести в «Арагви», узнаешь за что.
Бондарчук не очень-то поверил, что звонил сам сын Сталина, – скорее это был чей-то розыгрыш, но в «Арагви» на всякий случай пошел.
Его встретили у входа и проводили в отдельный кабинет, где действительно сидели сын Сталина Василий и известный футболист Всеволод Бобров. Василий Сталин положил перед Бондарчуком журнал «Огонек» с портретом Бондарчука в роли Шевченко на обложке. (В фильме «Тарас Шевченко» Бондарчук сыграл главную роль.) Под портретом – подпись: «Заслуженный артист РСФСР Сергей Федорович Бондарчук». «Заслуженный» зачеркнуто ручкой, а сверху написано: «Народный СССР» и подпись – «И. Сталин».
Пол-литра Бондарчук поставил – он еще не знал, сколько неприятностей его ждет из-за этой поправки. По правилам, «народного СССР» давали только после «народного РСФСР», а «народного РСФСР» – только после «заслуженного РСФСР». То есть раньше пятидесяти никто этого звания не получал. А Бондарчук «Народного СССР» получил сразу – ему не было и тридцати. И сразу завистники (а таких всегда было немало) его возненавидели. До перестройки ненавидели тайно, а после перестройки – явно. И не было тогда ни одной статьи, ни одного выступления об отечественном кино, в которых – надо не надо – не поносили бы Бондарчука. Бондарчук переживал, но виду не показывал.
…В подготовительный период фильма «Сережа» мы разделились: Таланкин остался в Москве работать с актерами, утверждать эскизы декораций, заниматься костюмами, сметой… А мы с Ниточкиным поехали выбирать натуру. Нужна была деревенская улочка, которая выходила бы на высокий берег реки, а за рекой – совхоз «Ясный берег». И чтобы улочка кончалась не избой, а добротным деревянным домом. А на улочке – травка, чтобы паслась коза.
Администратором с нами Циргиладзе послал своего зама, Пономарева. Циргиладзе был маленького роста, Пономарев – еще меньше. Циргиладзе было под семьдесят, а Пономарев – еще старше. Но Циргиладзе обычно кричал, а Пономарев бурчал себе под нос. И с этим заместителем Циргиладзе поднял такие постановочные махины, как «Георгий Саакадзе», «Падение Берлина», «Хождение по мукам», «Война и мир».
Пономарев был активный общественник. Примерно раз в неделю он появлялся с каким-нибудь подписным листом, и из того, что он бурчал, было понятно только два слова: «рубль» и «юбилей». Или «рубль» и «похороны». Слово «рубль» всегда звучало четко.
Начать съемки мы могли только в сентябре – раньше не успевали. Под Москвой в сентябре будет уже холодно – а у нас дети бегают босые, – надо ехать на юг. Поехали в Ростов, в Астрахань. Подходящую улочку не нашли. Есть улочка с травкой и обрыв – нет дома. Есть дом – нет улочки с травой и совхоза за рекой. Новички, мы не понимали, что все это без потерь можно снять монтажно: отдельно дом с улочкой, отдельно обрыв и совхоз. (У меня в фильме «Совсем пропащий» Король и Герцог выходят из коляски в Латвии, а в следующем кадре девочки подбегают к ним в Литве. А на экране – единое место действия).
Позвонили на студию. Нам посоветовали поискать на Украине.
Еще в Москве Пономарев сказал нам, что суточные он будет выплачивать каждый день. Если даст сразу – мы или потеряем деньги, или прокутим.
С утра мы с Ниточкиным на такси, оплаченном Пономаревым через кассу таксопарка, мотались по городу и его окрестностям. Возвращались в дом колхозника вечером, когда магазины уже были закрыты. Пономарев, который с нами не ездил, предлагал:
– Могу дать деньги. Или, если хотите, у меня есть кролик, перцовка и соленые огурчики. Решайте.
Голодные, мы, естественно, каждый раз выбирали кролика с перцовкой. И у Пономарева оставался навар: по нашим подсчетам – ровно рубль.
Побывали в Чернигове, Золотоноше, Диканьке – опять ничего. Приехали в Ворошиловск. Идем с вокзала к дому приезжих – и вдруг истошно завыли сирены, и пожарники в противогазах начали загонять прохожих в подвалы. Оказалось – учебная тревога. В суете Пономарев куда-то потерялся. Когда дали отбой, мы с Ниточкиным поискали, подождали в доме приезжих – нет Пономарева! Исчез. На следующий день от дежурной позвонили в милицию, в морг, в больницу – нигде нет такого! Позвонили в Москву Циргиладзе. Сказали, если Пономарев объявится, пусть оставит свои координаты на киевском Главпочтамте и ждет нас. Если нет – пусть переведут нам туда деньги на обратные билеты. После этой траты у нас осталось два рубля тридцать копеек. Время поджимало. В поисках дома Сережи мы начали ездить на попутках и товарных поездах по городам и селам. Питались только черным хлебом и чесноком, с тоской вспоминая кролика с огурчиками. Спали на вокзалах.