Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей
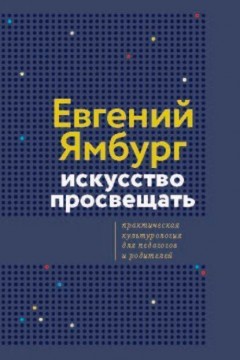
© Ямбург Е. А., текст, 2020
© Андриевич С. Н., дизайн, 2020
© Издательство «Бослен», 2020
Вступление
Отдаю себе отчет в том, что название книги звучит нескромно, даже вызывающе дерзко, и потому способно вызвать протест у многих, кто уткнется в него глазами. Хорошо представляю себе гневную отповедь оппонентов.
«Да кто ты такой, чтобы брать на себя смелость выступать в качестве ментора в деле просвещения юношества? Вся многовековая педагогика только тем и занималась, что просвещала вступающие в жизнь новые поколения. (Разумеется, с учетом накопленного опыта и полученных к тому моменту знаний.) В этом же ключе действовали специально созданные институции мировых религий. А искусство? Как бы оно в лице отдельных его представителей в Новое и Новейшее время ни открещивалось от воспитательных задач, настаивая на своей дидактической чистоте и педагогической непорочности, но все же сохраняло надежду, что при соприкосновении с прекрасным человек облагораживается и стремится стать хотя бы чуточку лучше». Это о том, что энтузиастов, владеющих искусством просвещать, хватает и без самонадеянного автора.
Другая группа рассерженных читателей усомнится в правомерности самой постановки задачи просвещения юношества: «Опыт Нового времени показал, что, вопреки накопленным знаниям, освоению передовых технологий, приобретению многих полезных вещей, человечество периодически погружалось в пучину варварства. Великие французские просветители допросвещались до кровавого террора Французской революции в сентябре 1793 года. Не говоря уже о печальных итогах двадцатого века, давшего миру страшный урок тоталитаризма: гитлеровские лагеря и ГУЛАГ, депортация целых народов в СССР, холокост в Европе и революционные „эксперименты“ в различных странах мира – тоже ведь плоды просвещения. Так стоит ли игра свеч, коль скоро диалектика просвещения такова, что, наряду с облегчением человеческого существования, оно несет в себе яд духовного и нравственного разложения? Да и сегодняшний интернет, наряду с невероятными возможностями получения, хранения и обработки информации, таит в себе явные опасности».
От этих контрпросвещенческих аргументов так просто не отмахнешься.
О драматизме человеческого существования и диалектике просвещения разговор впереди. А пока вернемся к названию. В его пользу существуют свои аргументы.
Искусство просвещения всегда сопричастно времени, что требует не только учета прошлого многовекового как положительного, так и отрицательного опыта, но и ответа на новые вызовы и угрозы, перед которыми оказывается человек. Клонирование, суррогатное материнство, генная инженерия – все эти новейшие реалии обнажают серьезные нравственные проблемы, неведомые предшествующим поколениям и настоятельно требующие своего решения.
Информационная эра, помимо прочего, создала широчайшие возможности для манипулирования общественным сознанием как взрослых, так и детей. Как защитить их от всевозможных манипуляций?
Невиданные доселе темпы развития цивилизации, ломка привычных устоявшихся представлений о жизни породили у современного человека нарастающую тревогу, безотчетный страх перед обрушением традиционной системы ценностей. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек подпадает под чары тоталитаризма, который всегда обещает простое, понятное и окончательное решение всех вопросов. (Пути и средства окончательного решения национального вопроса продемонстрировал Гитлер, а ликвидации социального неравенства – Сталин.) Растерянность и страх порождают агрессию. Привычка к взаимным оскорблениям, которыми осыпают друг друга люди, исповедующие разные взгляды, в равной степени прививается и взрослым, и детям. Изощренные оскорбления возводятся в ранг искусства. В этом смысле закономерна трансформация такого жанра молодежной субкультуры, как рэп-батл. Рэп-батл – это состязание двух исполнителей в жанре рэп. Исполнители соревнуются во взаимных оскорблениях. Бог бы с ними, с тинейджерами, – прорезавшиеся недавно зубки молодым волчатам надо на ком-то опробовать. Но и весьма солидные люди с нескрываемым удовольствием овладевают этим специфическим мастерством. Не скрою, окончательное решение назвать свою книгу именно так пришло после знакомства с книгой одного известного журналиста «Искусство оскорблять». Искусству оскорблять я намеренно противопоставляю искусство просвещать. Почему? Да потому, что больше противопоставить нечего.
А потому не будем уподобляться утопающему, который отказывается от брошенного ему спасательного круга на том основании, что считает ситуацию безнадежной. Такой тонущий неизбежно потянет за собой всех остальных. И в первую очередь детей, которые еще не научились держаться на плаву в океане житейских бурь и треволнений. Подобные пораженческие настроения – прямой путь к предательству собственных детей.
Коль скоро вы не верите в просвещенческую парадигму, то будьте до конца последовательными и прекратите продолжение рода.
При всех издержках и внутренних противоречиях просвещения его подлинное предназначение – укреплять достоинство человека, прививать ему способность к рефлексии, позволяющей избегнуть саморазрушения.
Еще одна неотменимая задача просвещения – создание нравственного климата, без которого не могут существовать нация и ее культура.
Но просвещать надо с умом. Трансляция вечных смыслов и ценностей культуры – сложнейшая задача. Передавать их новым, вступающим в жизнь поколениям приходится на их языке, с учетом кардинально изменившихся условий их бытования. При этом нужно учитывать, что юность крайне негативно воспринимает стремление взрослых к поучениям. Поэтому просвещать надо спокойно, без возмущения их языком и повадками. Это прекрасно чувствовал Н. В. Гоголь: «Храни тебя бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в летах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается просто гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: „Эк, скверный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают!“ Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня»[1].
И, наконец, последнее. Не ждите от этой книги педагогической рецептуры в форме методических рекомендаций к конкретным урокам и классным часам. Несомненно, что в деле обучения существуют как старые, надежные и проверенные временем, так и новые информационные технологии, которыми профессиональный педагог должен овладеть. Но воспитание всегда было, есть и будет не сводимым исключительно к технологиям. Ведь ни одна педагогическая ситуация или возникающая во взаимоотношениях с ребенком коллизия никогда не повторяется, поскольку учитель каждый раз имеет дело с уникальной личностью растущего человека.
Казалось бы, с погружением на дно советской Атлантиды утопические задачи «перековки» людей и «формовки» нового советского сверхчеловека безвозвратно канули в прошлое. А вот и нет. Рецидивы этих примитивных воззрений, где ребенок представляется неким фаршем, заправив который в хорошо отлаженный конвейер, можно на выходе получить колбасу со знаком качества, дают себя знать вновь и вновь. Конвейер со временем модернизируется, оснащаясь современными цифровыми технологиями, но суть подхода от этого не меняется.
Примеров предостаточно. В городе N возникает инициатива «Парта героя». В школе X действительно учился Герой Советского Союза, совершивший подвиг. Святое дело – сохранять о нем память. Но местные чиновники требуют от учителей отчета о количестве школьников, отсидевших за этой партой. Вероятно, они всерьез убеждены в том, что количество таких учеников переходит в качество воспитания, а желанный патриотизм проникает в сознание ребенка через пятую точку и спинной мозг. В другом случае количество компьютерных презентаций о нашей победе, которые должны подготовить школьники по разным предметам, зашкаливает настолько, что дети начинают тихо ненавидеть эту сокровенную тему. Так рождаются скверные анекдоты и отравляющий душу цинизм. Но зачастую администраторы и педагоги, выполняющие их указания, не задумываются над тем, что именно их действия являют собой скверный анекдот, провоцирующий моральную деградацию воспитанников.
В заключительной части этой книги, «Публицистика», рассматриваются реальные истории, приводящие учителей и администраторов школ в тупик по той причине, что они не видят глубинных оснований возникающих острых коллизий, пытаясь разрешить их, исходя из обыденных житейских представлений, административными инструментами. Но такой подход зачастую лишь обостряет ситуацию и приводит к новым конфликтам.
Легче всего обвинить в этих казусах начальство. Но обвинять во всех случаях начальство и обстоятельства жизни есть умственная и нравственная лень, рудимент рабской психологии. Похоже, что дело прежде всего в нас самих. Мы не можем ни полностью все принять, ни полностью все отвергнуть в прошлом, настоящем и будущем. Эта межеумочная позиция характерна не только для нас, жителей канувшей советской Атлантиды, но и для наших детей и внуков, ибо запутанный, переходный исторический период продолжается. Он и не может быть кратким. Однако это не означает, что нам остается сидеть на берегу в ожидании благоприятной погоды. Как точно заметил поэт: «Времена не выбирают, в них живут и умирают» (А. Кушнер).
Надо дать себе труд прежде всего разобраться самим в трудных вопросах, чтобы перестать путать детей. Учителю это дается крайне сложно, поскольку педагогика неизбежно должна содержать в себе здоровый консерватизм. Дети – не подопытные кролики. Нельзя пускаться во все тяжкие, предварительно не оценив последствий тех или иных инноваций. Кроме того, не от всякого прошлого следует отказываться. Во все времена, включая советские, накапливался ценнейший педагогический опыт, который вошел в сокровищницу педагогики.
Так, например, непререкаемой ценностью советской педагогики считался коллективизм. Но власть коллектива не всегда была мудрой, по определению В. А. Сухомлинского. Слишком часто складывалось так, что коллектив подавлял личность. Достаточно вспомнить те времена, когда от подростка на комсомольском собрании требовали отказаться от отца, объявленного врагом народа. После краха СССР педагогический маятник качнулся в другую сторону – гипертрофии индивидуализма. Ориентирами, которые нынче предлагаются молодежи, стали карьерный рост и наличие амбициозных планов. У людей моего поколения этот тренд вызывает вполне понятное раздражение, поскольку в нашем сознании карьеризм – это циничная готовность идти по трупам, расталкивая локтями конкурентов, а амбиции – синоним нескромности и тщеславия. Со временем «вдруг» выяснилось, что в современных условиях для достижения успеха в любой сфере (бизнесе, науке, искусстве) необходимо умение работать в команде, постоянно взаимодействуя с коллегами и партнерами, иначе инновационный прорыв невозможен. Но командная работа, командный дух есть не что иное, как коллективизм, освобожденный от идеологических и иных догматических шор. Поэтому приемы и методы по сплочению коллектива, выработанные в предшествующую эпоху, прекрасно работают и сегодня.
Повторяю, здоровый консерватизм – неизбежная составляющая профессии педагога. Однако педагог должен идти в ногу со временем и даже его опережать. В противном случае мы не подготовим учеников к жизни в принципиально новых условиях. Иными словами, традиции и новаторство – это два плеча коромысла, которые необходимо держать в равновесии. В этом и состоит искусство просвещения. Невероятно трудно, но другого не дано.
Эта книга – приглашение к совместному мужественному, трезвому размышлению. Сталкиваясь с очередной конфликтной педагогической ситуацией, мы порой запутываемся в трех соснах, не находя оптимального выхода. Почему? Учитель, подобно врачу, видит симптомы заболевания, но, в отличие от медика, начинает их лечить, не задумываясь о глубинных причинах болезни. Происходит это оттого, что за каждым конкретным педагогическим затруднением, порой рождающим конфликты, стоит непросвещенность самого учителя, непроясненность для него фундаментальных вопросов культуры.
Отмахнуться от осмысления коренных вопросов философии и культуры педагогу не удастся. Отсюда – учитель призван становиться практическим культурологом. Вопросам практической культурологии и посвящена данная книга. Я не призываю во всем со мной соглашаться. Каждый вправе иметь и отстаивать свою собственную точку зрения. Но при этом сегодня как никогда важно быть открытым к диалогу с людьми иных взглядов. К откровенному диалогу я и приглашаю читателей книги, являющейся продолжением двух предыдущих: «Беспощадный учитель» и «Третий звонок».
В приложениях к книге я даю две последние пьесы: «Забор» и «Бледная Лиза». В «Третьем звонке» я подробно разъяснил, каким действенным инструментом погружения юношества в контекст культуры является школьный театр. Признаюсь, что, воплощая один за другим театральные проекты, я, по сути дела, ставлю с подростками один бесконечный спектакль, осуществляя сквозное действие. Напомню, что, по Станиславскому, сквозное действие сводит воедино, пронизывает все элементы спектакля и направляет их к общей сверхзадаче. Культурологическая, она же педагогическая, сверхзадача очевидна. Она состоит в разрушении всяческих заборов, стен и прочих препятствий, мешающих людям расслышать друг друга.
Искусство просвещать
Школьный проект: встреча учеников на «чистых четвергах». Школа № 109
Тяготы жизни
Раскрывать ли перед детьми драматизм человеческого существования?
Мир прекрасен – это факт, хоть и безобразен.
Дмитрий Пригов
Осторожно – люди
Убежден в том, что любые темы с подростками надо обсуждать серьезно, без скидок на возраст. И дело не только в том, что они не признают сюсюканья, предполагающего снисходительную позицию по отношению к малым сим. Противно, когда к тебе относятся как к неразумному, неполноценному собеседнику. Надеваемая взрослым фальшивая маска мгновенно распознается и напрочь исключает искренность во взаимоотношениях. А без искренности никакие педагогические воздействия не будут успешны.
Но ведь существуют сложнейшие метафизические вопросы бытия, над решением которых веками бьются выдающиеся мыслители, так до конца и не приходя к окончательным выводам. Живое воплощение в себе культурных ценностей по своему существу является задачей неисчерпаемой, или, по слову Канта, проблемой «без всякого разрешения». Эти ценности указывают нам на некий бесконечный путь, по которому можно продвигаться вперед в бесконечном прогрессе, но пройти который до конца никому не дано.
Разве разумно ставить такие вопросы перед неокрепшими умами тинейджеров? Не только разумно, но и в высшей степени педагогически выигрышно. Именно нерешенные проблемы бытия захватывают воображение, рождают у молодых горячие дискуссии, формируют серьезное отношение к отвлеченным, казалось бы, вопросам, на которые избегают искать ответы затюканные повседневным рутинным существованием взрослые. За редким исключением возрастным субъектам недосуг видеть звездное небо над головой и задумываться о нравственном законе внутри себя.
Среди таких серьезных вопросов, от ответа на которые зависит определение всей стратегии будущей жизни, – вопрос о подлинной сущности человека.
Мы не боги, но и не звери, находимся где-то посередине. Отсюда – необходимость изживания сразу двух мифов: о том, что человек – мера всех вещей, ибо ему имманентно присуще нравственное чувство, и о звериной природе человека, унаследованной им от диких предков.
Оба мифа развеял философ и культуролог Григорий Соломонович Померанц: «Каждый раз, когда человечество съедало запретный плод, оно чувствовало тяжесть первородного греха. После слов Протагора: „Человек – это мера всех вещей“ – мерой стал Нерон. После „Панегирика человеку“ Пико делла Мирандолы – мерой стал Чезаре Борджия. После тезиса: „Человек добр“ – разнузданная воля сентябрьских убийств 1793 года. После слов Маркса о бесконечном развитии богатства человеческой природы был создан ГУЛАГ. И каждый раз за осознанием бездны греха следовал порыв покаяния и веры: христианство после Афинской академии, барокко после Возрождения, романтизм после Просвещения – и стихи к роману „Доктор Живаго“ после поэмы „1905 год“»[2].
Тяжелейшее двадцатое столетие с его потоками пролитой крови показало, что, вопреки массовому одичанию, находились люди, которые оказались в силах преодолеть звериные, стадные, племенные инстинкты и подняться над эгоизмом собственной боли. Этих людей не так много, но именно они вселяют надежду. Ибо не зря сказано от века: пока стоят десять праведников, мир не обрушится. Единственный способ обуздания в себе звериных инстинктов – наращивание мускулов культуры.
Истоки ненависти и агрессии
На майке подростка, совершившего в 2018 году массовый расстрел в керченском колледже, крупными буквами было написано: «НЕНАВИСТЬ». Ненависть на какой почве? На любой: социальной (нищенское существование на средства санитарки-матери), национальной, конфессиональной, на почве неразделенной любви, зависти к более успешным сокурсникам и т. д. и т. п. Ненависть к кому? К кому угодно: придирчивым преподам, девушке, не отвечающей взаимностью, сокурсникам, подсмеивающимся над твоими скромными успехами в учебе, ко всему несправедливому и равнодушному к твоей персоне миру.
Ненависть рождает жажду мести во имя восстановления попранной справедливости. Великая цель (достижение справедливости) наполняет душу осмысленным существованием, побуждает скрупулезно готовиться к главному СОБЫТИЮ, когда в результате подвига, пусть даже ценой собственной жизни, будет восстановлена СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Кроме того, о тебе узнают сотни тысяч людей, и ты из серой неприметной мышки мгновенно превратишься в героя культового сериала.
А что, зря, что ли, герой Сергея Бодрова в фильме «Брат-2», завершив криминальную кровавую разборку, поучает американца: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Да? Дмитрий Громов, мани, давай».
Керченский «тихушник» ранее ничем не выделялся среди прочих сверстников, не был замечен в патологических наклонностях, не замешан в криминальных историях. Но за ним стояла своя убогая, ущербная правда.
Своя правда и у президента Российской Федерации, который относит кровавые события в Керчи к влиянию глобализма. Владислав Росляков действительно копировал действия убийцы в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Подобные трагедии происходят во всем мире, и в первую очередь в Америке, где возможность подростков обзавестись оружием во много раз больше, нежели у нас. Левая идея, в основе которой жажда восстановления справедливости, победно шагает по планете. Справедливости требуют все: устремившиеся в европейские страны африканцы, чей доход восемь долларов в месяц, европейцы, не желающие тратить свой бюджет на прокормление пришельцев, американцы, чей экономический и промышленный рост оказался под угрозой, поскольку транснациональные корпорации развертывают производства в азиатских странах, где дешевая рабочая сила. Отсюда таможенные войны, которые ведет Америка. Все так. Но важно помнить, что, раздевая Америку, себя мы при этом не одеваем.
Оставим в стороне посыпавшиеся как из рога изобилия предложения преимущественно запретительного характера (об их наивности и нереалистичности достаточно написано специалистами), будем лишь помнить, что Америку можно открыть, а вот закрыть уже не удастся. В данном контексте Америка, разумеется, метафора глобализации.
Налицо глобальный кросс-культурный кризис. Цивилизация, образно говоря, пошла вразнос. Первыми, как всегда, это почувствовали, благодаря интуиции, писатели еще в середине прошлого века. Герой романа Антуана де Сент-Экзюпери «Цитадель» говорит: «Счастье не от подарков, не от телесных ласк, не от полученных привилегий – оно от Божественного узла, связавшего все воедино»[3]. Потеря ощущения целостности мира крайне болезненна как для взрослых, так и для детей. Центробежные силы разрывают сознание современного человека. Отсюда рост психоневрологических заболеваний (в России этот тип заболеваний вышел на первое место среди детей и подростков) и как следствие – нарастание авто- и взаимной агрессии.
Божественный узел, который должен вернуть утраченную целостность бытия, – это опора на незыблемую шкалу ценностей, которая, в свою очередь, опирается на святыни. Иными словами, стремление возвратиться к архаике, к золотому веку, который якобы был в прошлом. Так в качестве защиты от глобализма предлагаются национальные и религиозные скрепы, которые призваны спасти народ-богоносец от растлителей из интернета, преклоняющихся перед погрязшим во грехах Западом.
Но при таком подходе надо поставить крест на прогрессе, который, как ни крути, несет людям комфортное существование. Отсюда вторая иллюзия – слепое поклонение прогрессу, который автоматически наращивая информационно-технологическую мощь, решит все проблемы человечества. Оба подхода от лукавого.
О потерях и приобретениях современной цивилизации в конце прошлого века замечательно писал Г. С. Померанц, последовательно развеявший обе эти иллюзии: «Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф – о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нашем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычаев сохранились до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.
Второй, утешительный миф – прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта»[4].
Анализируя керченскую трагедию, лидер страны сказал: «Все мы плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей». Кто бы спорил. Но создание такого контента – невероятно сложная задача, исключающая истерику и взаимные обвинения так называемых фундаменталистов и либералов. Как и чем уравновесить крайние точки зрения? Такие попытки делаются, но пока получается коряво.
В одном из городов Центральной России я увидел любопытное учебное заведение – «Казачий информационно-технологический лицей». Лампасы, папахи и другие атрибуты формы лицеистов демонстрировали приверженность руководства учебного заведения к исконным традициям. Но при чем здесь современные информационные технологии, которые, как известно, не знают национальных границ? Оказывается, концепция данного лицея предусматривает создание специальных казачьих дружин для обеспечения информационной безопасности в интернете!
Слов нет, информационная безопасность – вещь серьезная. Подготовка таких специалистов востребована государством. Кроме того, приобретенная специальность гарантирует в будущем достойную оплату. Всё это осознают руководители данного учреждения, озабоченные привлечением абитуриентов. Что не так? Вместо шашки, которая, впрочем, на всякий случай висит на боку, курсантам предлагается размахивать гаджетами, вырубая из интернета крамолу. Сложная сугубо технологическая задача, окрашиваясь в идеологические тона, превращается в миссию, суть которой – поиски скрытых врагов, со всех сторон подкапывающихся под фундамент нашей особой духовности. Так из данной концепции явно торчат уши конспирологии, всегда порождающей страх, подозрительность и все ту же ненависть. Что происходит неизбежно, когда пытаются соединить туловище быка и голову овцы. Такой идеологический мутант нежизнеспособен.
Конспирологические версии тех или иных грозных событий, распространяющиеся со скоростью пандемии по всему миру, – результат повсеместно растущего недоверия к официальным средствам массовой информации. В результате наведенного конспирологическими версиями страха невероятно повышается градус агрессии. Специалистам по истории первобытности известны техники, с помощью которых древние племена приводили себя в агрессивное состояние. Вступая на тропу войны, мужчины племени исполняли ритуальный танец войны. Характерно, что дети, женщины и старики в это время прятались в укрытиях. Почему? Потому что воин, впавший в боевой экстаз, превращался в идеальную машину для убийства, сметающую без разбора все на своем пути. Свой или чужой – значения не имело. Но, возвращаясь с победой, мужчины племени исполняли специальный ритуальный танец мира, тем самым приводя себя в нормальное состояние. После чего мирное население безбоязненно покидало свои укрытия.
Сами того не ведая, мы с помощью современных средств массовой информации запускаем первобытные техники невероятной возгонки агрессии. Стоит ли после этого удивляться тому, что подросток (семнадцатилетний подросток в племени – это уже мужчина-воин, владеющий оружием) превращается в убивающую машину? Поэтому в керченской истории не следует утешать себя простым и удобным объяснением, что мы имеем дело с психопатом, которого вовремя не диагностировали. Зададимся лучше прямым и неудобным вопросом: отчего число таких психопатов неизменно растет?
Школа не висит в безвоздушном пространстве; она существует на семи ветрах: идеологических, геополитических, социально-экономических, национальных, конфессиональных, психоэмоциональных, наконец, иррациональных, ибо человеческие поступки не сводимы исключительно к рациональным мотивам. Порой эти ветра приобретают шквальный характер, прогибая школу со всеми ее обитателями (педагогами, детьми и родителями) то в одну, то в другую сторону. Очевидно, что стране необходима длительная педагогическая терапия, в результате которой нам всем предстоит обучиться искусству диалога.
А пока взрослые не образумились, в первую голову надо спасать детей от ненависти. На память приходят стихи Александра Галича, чей столетний юбилей в 2018 году мы странным образом отмечали на первом канале телевидения в глубокой ночи, когда дети и подростки спят беспробудным сном. А зря. В поэме «Кадиш», посвященной Янушу Корчаку, опираясь на дневник праведника, Галич пишет:
- Я старался сделать все, что мог,
- Не просил судьбу ни разу: высвободи!
- И скажу на самой смертной исповеди,
- Если есть на свете детский Бог:
- Все я, Боже, получил сполна!
- Где, в которой расписаться ведомости?
- Об одном прошу – спаси от ненависти!
- Мне не причитается она.[5]
Парадоксальный факт – дети и подростки в гораздо большей степени, чем их родители, которые, как правило, сегодня выхолощены на работе, расположены к серьезным разговорам. Их психику не стоит беречь, окружая гиперопекой, скрывая трагические страницы прошлого и настоящего, исходя из превратно понимаемых патриотических побуждений. На этот ложный псевдопатриотический посыл прекрасно ответил Гоголь в «Театральном разъезде»:
«Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.
Князь N. (с досадою). Возьми их себе! Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь?»[6]
С детьми надо разговаривать честно. Молчащее поколение проигрывает свою историю, а значит, и будущее.
Но способно ли слово стать целительным средством взросло-детского сообщества? И здесь мы вновь обращаемся к великой русской поэзии, в частности к Н. Гумилеву:
- Слово
- В оный день, когда над миром новым
- Бог склонял лицо свое, тогда
- Солнце останавливали словом,
- Словом разрушали города.
- И орел не взмахивал крылами,
- Звезды жались в ужасе к луне,
- Если, точно розовое пламя,
- Слово проплывало в вышине.
- А для низкой жизни были числа,
- Как домашний, подъяремный скот,
- Потому что все оттенки смысла
- Умное число передает.
- Патриарх седой, себе под руку
- Покоривший и добро и зло,
- Не решаясь обратиться к звуку,
- Тростью на песке чертил число.
- Но забыли мы, что осиянно
- Только слово средь земных тревог,
- И в Евангелии от Иоанна
- Сказано, что Слово это – Бог.
- Мы ему поставили пределом
- Скудные пределы естества.
- И, как пчелы в улье опустелом,
- Дурно пахнут мертвые слова.[7]
Все так. И человеку в равной степени нужны и прорывы духа, и здравый смысл, передаваемый с помощью умного числа. А вот мертвые слова действительно дурно пахнут, отвращая своей фальшью и взрослых и детей!
Если дать себе труд подумать, нам есть из чего создавать нужный, полезный и интересный контент для молодых людей, за который ратует национальный лидер. Образно говоря, нам предстоит перейти от бесконечного исполнения ритуального «танца войны» к постепенному освоению «танца мира», приводящего умы и души молодых людей в нормальное состояние, что сделает более безопасным существование окружающих. Надо отдавать себе отчет в том, что запретительные меры, призванные снизить градус агрессии и обезопасить общество от кровавых эксцессов, не только неэффективны и неисполнимы в полной мере в открытом информационном пространстве, но рождают у молодых людей еще больший протест, а следовательно, все ту же агрессию, направленную в адрес мира «не догоняющих» взрослых.
Обостренная жажда справедливости, имманентно присущая подросткам и социально обделенным слоям населения, неизбежно рождает жажду мести. Но месть не имеет ничего общего со справедливостью. Эта неочевидная не только для подростков, но и для многих взрослых людей мысль в равной мере нуждается в доказательствах и в еще большей мере в конкретных примерах.
Философ Г. Померанц писал: «Зло – порождение жизни. Жизнь всегда – отдельная, и, утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья – загораживая солнце. Еще больше – животные и птицы. И больше других – человек. Но человек – не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца – не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: „И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест“»[8]. Отчаянный протест души педагога заставляет делать все возможное, чтобы сбить волну агрессии среди подростков.
Исторические травмы – мины замедленного действия
На протяжении жизни мы все наносим друг другу раны, испытывая боль и причиняя ее окружающим. Следы от нанесенных обид ложатся рубцами на сердце, во многом предопределяя поведение человека. Неизжитые исторические травмы также предопределяют поведение целых поколений.
В нашей стране нет ни одного народа, включая титульную нацию, кто не носил бы в сердце историческую травму. Продолжать сравнивать, чья боль больнее, – значит подрывать основы гражданской идентичности, доводя ситуацию до того состояния, которое зафиксировал Владимир Высоцкий в песне, записанной им на грозненском телевидении незадолго до смерти:
- Воспоминанья только потревожь я —
- Всегда одно: «На помощь! Караул!..»
- Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,
- А место битвы – город Барнаул.[9]
Оба народа, как известно, подверглись депортации, но сводят счеты в месте высылки.
Историческая трактовка голодомора как геноцида исключительно украинцев – из того же разряда эгоистичной трактовки общих исторических травм.
Изживание исторических травм – одна из важнейших задач школьных курсов отечественной истории. Отсюда следует важный историко-педагогический вывод, помимо прочего находящий подтверждения в психотерапевтической практике: любые личностные или исторические травмы бесполезно и даже опасно загонять внутрь путем замалчивания. Подобно минам замедленного действия, рано или поздно они взорвутся, чему мы уже были свидетелями на рубеже веков. Люди – и в первую очередь вступающие в жизнь поколения – нуждаются в глубоком осмыслении прошлого.
На первый взгляд, глубокое осмысление прошлого – прерогатива профессионалов. Но здесь речь идет не о мертвой цеховой учености, а о постепенной выработке у юношества мудрого, взвешенного, сострадательного отношения к истории. В этом ракурсе проблема приобретает исключительно педагогическое значение. Для ее решения необходим долгий откровенный разговор на болезненные темы. Самое трудное для педагога – взять правильный тон в таком разговоре, пройти между Сциллой горячего историзма и Харибдой холодного пессимизма. Но именно с учетом главных уроков двадцатого века такой трудный разговор необходим для того, чтобы наши дети не превращались в палачей, подобных керченскому подростку.
Цунами насилия: отражение в прессе
Волны насилия, захлестывающие школы, постоянно находятся в фокусе внимания средств массовой информации. Что естественно, ибо СМИ – зеркало, призванное отражать реальные процессы, происходящие в обществе. Все правильно, замалчивать вопиющие факты агрессии со стороны учителей по отношению к детям и детей по отношению друг к другу нельзя, но худо, когда зеркало становится кривым.
Передо мной письмо серьезного администратора, отвечающего за безопасность в школах в одном из регионов России.
«О СМИ. Они, конечно, должны выставлять перед системой зеркало. Но оно кривеет с каждым днем. По трагическим случаям буквально сочиняются легенды. Только не понимают журналисты, что своими перьями травмируют сердца самих детей, родителей, добивают учителей. И это тоже диагноз. Недавно произошло убийство (вполне возможно, случайное) одного школьника другим. Горе родителей и родных с обеих сторон невозможно измерить. Помолчать бы им (репортерам) всем, но где там! Отсюда и детки с родителями хватаются за диктофоны, видеокамеры смартфонов и спешат-спешат продать сюжет за тысячу. В общем, сошли с ума, и надолго. Вспоминается реплика одной героини из „Женитьбы Бальзаминова“: „Солидные-то люди, которые себе добра желают, за каждой малостью едут к Ивану Яковлевичу, в сумасшедший дом. Спрашиваются… А мы такое дело без всякого совета делаем“».
В нашем взбаламученном социуме действительно необходимо разбираться. Только так мы без уверток и конъюнктурных политических подтасовок сможем внятно ответить на сакраментальный российский вопрос: кто виноват? Такой трезвый подход – дело прежде всего аналитической журналистики, которой, как представляется, сегодня катастрофически не хватает. Меня же, как педагога-практика, прежде всего волнует другой вопрос: что делать?
Любопытно, что в отзывах на свои публикации я чаще всего получаю упреки в том, что недооцениваю агрессивный политический и социально-психологический климат, в котором живут и формируются наши дети, недостаточно бичую пороки общества. Что ж, каждый имеет право на свою точку зрения. Но при всем желании немедленно изменить социально-политический контекст я и те, кто дает этому контексту жесткую справедливую оценку, не в силах. Прикажете пассивно ждать того момента, когда государство и общество изменятся к лучшему? Но школа не супермаркет, ее временно не закроешь на переучет ценностей.
Разумеется, доминирование тоталитарных ментальных установок, укорененных в обществе, – не единственная причина неконтролируемой агрессии подростков. Сведение многослойного явления к одной-единственной причине малопродуктивно. Следует отделять возрастные формы опасного поведения, помня о том, что психологическая взвинченность подростков происходит на фоне эндокринных бурь. Поиск взрослости подталкивает их к экстремальному поведению, проверке себя: «на что я способен». Это и страх быть осмеянным, не принятым в своей возрастной группе, чье мнение для них несравненно важнее оценки родителей, учителей и прочих взрослых, которые «не догоняют». Словом, сложное многоаспектное явление диктует необходимость системного подхода к его анализу.
Знаменательно, что если раньше среди страхов человечества на первом месте был страх смерти, то, как показывают последние исследования, в настоящее время, потеснив страх смерти, на первое место вышел страх бессмысленности жизни. Что в равной степени характерно для богатых и бедных стран, детей и взрослых.
Поменять себя
Так что же делать в данных конкретных обстоятельствах? В поисках ответов на подобные вопросы я больше доверяю художественной интуиции людей тонко чувствующих, искренне болеющих за судьбы отечества. Среди них – замечательный поэт Владимир Николаевич Корнилов, ушедший из жизни в 2002 году. Незадолго до смерти он написал стихотворение, которое я рассматриваю как педагогическую программу, прежде всего обращенную к людям взрослым, но отягощенным неизжитыми подростковыми социально-психологическими комплексами, среди которых патернализм, стремление переложить ответственность за свое существование, включая семью и детей, на государственных мужей.
Подростковые комплексы неизбежны у подростков, которые должны ими переболеть. Но когда ими продолжают страдать люди, достигшие зрелого возраста, трудно надеяться, что они проявят необходимую мудрость и терпение во взаимодействии с тинейджерами.
- Считали: все дело в строе,
- И переменили строй,
- И стали беднее втрое
- И злее, само собой.
- Считали: все дело в цели,
- И хоть изменили цель,
- Она, как была доселе, —
- За тридевятью земель.
- Считали: все дело в средствах,
- Когда же дошли до средств,
- Прибавилось повсеместно
- Мошенничества и зверств.
- Меняли шило на мыло
- И собственность на права,
- А необходимо было
- Себя поменять сперва.[10]
Поменять себя – задача сложная, но выполнимая. Во всяком случае, она не влечет за собой немедленных глобальных революционных (и, как показывает опыт, зачастую связанных с кровавыми эксцессами) преобразований. Ее решение дается детям легче, нежели взрослым. В самом деле, нетерпимые взрослые готовы взорваться по любому поводу. Они с трудом осваивают иные модели поведения, в основе которых – стремление понять другого, не похожего на тебя человека, исходная доброжелательность и умение отличать главное от второстепенного в выстраивании взаимоотношений.
В 2018 году в одной из школ произошел очередной эксцесс, который меня попросили прокомментировать СМИ. Администратор школы не пустил на занятия старшеклассницу, чьи волосы были окрашены в голубой цвет.
Дежавю – привет из советской педагогики. С какими только проявлениями чуждых нам нравов не боролась советская школа: с длинными волосами (под хиппи и битлов) у мальчиков, с макияжем и сережками у девочек, с джинсами и кроссовками Adidas. Тогда появилась шутливая частушка: «Кто носит тапки „адидас“, тот нашу родину продаст». Доставалось и педагогам. Когда я только начинал работать, женщинам в школе категорически запрещалось носить брючные костюмы. Разумеется, как и сегодня, при решении деликатных вопросов использовался не письменный приказ, а настоятельная устная рекомендация. Вспоминаю, как, выполняя распоряжение директора, мужчина-парторг подходил в учительской к молодой учительнице и, краснея от смущения, просил: «Ну ради меня, снимите, пожалуйста, штаны».
Все эти войны мы бесславно проиграли. И сегодня я с улыбкой встречаю в вестибюле школы дедушку моего поколения с длинными волосами и серьгой в ухе (вылитый Пресняков-старший) и молодых тридцатилетних мам с разноцветными прическами, ожидающих своих детей. И вот опять: «на колу мочало – начинай сначала». Как будто помимо цвета волос нам не хватает источников конфликтных ситуаций.
До каких пор мы будем наступать на те же грабли? На память приходит строка из стихотворения И. Иртеньева:
- Бьют часы на Спасской башне,
- Мчится поезд под откос,
- С Новым годом, день вчерашний!
- Здравствуй, дедушка склероз![11]
Между тем дети чрезвычайно наблюдательны, они мгновенно ухватывают бытовые детали, улавливая атмосферу человеческих отношений. Случилось так, что одна из наших учениц уехала с родителями в Канаду. В письме она рассказывает о поразившем ее случае.
«Вхожу в автобус. На переднем сиденье пожилая женщина примерно лет восьмидесяти странного вида. Часть ее жидких волос окрашена в розовый цвет, а другая – в голубой. Вероятно, и в своем преклонном возрасте бабушка хочет выглядеть прикольно! Каждый новый пассажир, входящий в автобус, считает своим долгом сделать ей комплимент: „Вы сегодня выглядите очаровательно! Вам удивительно идет эта прическа“ и т. д. и т. п. Никаких насмешек, ни одного слова осуждения, не говоря уже об оскорблениях, которые может вызвать внешний вид чудаковатой старушки. Представьте себе эту бабулю и реакцию на нее в вагоне московского метро».
Легко ли быть молодым? Нет, ибо подростковый возраст отягощен колоссальным количеством комплексов, связанных с внешностью, половым созреванием и т. д. и т. п. Взрослые об этом забывают и тешат себя мифами о безоблачном детстве.
Среди тех, кто помнил себя в подростковом возрасте – всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен, автор «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок».
Перелистываю изданную у нас недавно книгу «Ваши письма я храню под матрасом» Сары Швардт – женщины, которая в детстве тайно переписывалась с Астрид Линдгрен. Переписка началась, когда Саре исполнилось всего двенадцать, и продолжалась не один десяток лет. Она была очень трудным подростком: воровала, бывала в психиатрической клинике, сбегала из дома, считала себя некрасивой, глупой, ленивой… И делилась самыми сокровенными мыслями с известной писательницей. «У меня очень плохой почерк», – извиняется девочка. В ответ Астрид посылает ей рецепт от врача, написанный «как курица лапой», и советует научиться печатать на машинке. Так автор «Карлсона» снимает один из комплексов ребенка и ставит ему новую интересную задачу.
Астрид пишет Саре, что в тринадцать лет она тоже считала себя «уродом», дает девочке советы, как вести себя в конфликте с одноклассниками. Сейчас бы это назвали дистанционным воспитанием. Но письма актуальны и сегодня… Эта книга, помимо прочего, – бесценный педагогический источник, прочитать ее, я считаю, одинаково важно как родителям, так и их детям.
Сара, которая стала прекрасной бабушкой, приезжала к нам в школу и рассказала свою историю моим ученицам – таким же страдающим многочисленными комплексами девчонкам, которым очень непросто расти. Это была поистине волшебная встреча. Именно такие волшебные, проникающие в душу встречи с человеком, книгой, Богом во многом предопределяют судьбу человека. От девочки-бабушки исходил особый магнетизм. Его истоки – это предельная искренность в общении с детьми, бодрость духа и вера в конечную победу добра. Наивно? Но с детьми по-другому нельзя.
Такое же волшебное ощущение оставляли встречи с детьми священника отца Александра Меня. Рядом с ним хотелось улыбаться. И когда моих педагогических оснований для того, чтобы вывести подростка из депрессии или, того хуже, суицидального состояния, не хватало, я отправлял подростка к нему. И отец Александр справлялся.
Вывод очевиден: поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же.
Таков наивный, но действенный инструмент, который можно и должно использовать для погашения волны агрессии и аутоагрессии в школах. Инструмент, который вряд ли попадет в очередной обновленный перечень должностных инструкций, призванных решить эту проблему. Нет сомнения в том, что профессионалы, неформально относящиеся к делу, серьезно озабочены вопросом, как остановить эскалацию насилия в подростковой среде. Очевидно, что необходимо немедленно приступать к строительству дамбы, с помощью которой можно будет сдерживать волны агрессии, захлестывающие школу. Но для грамотного возведения столь сложного сооружения необходим серьезный анализ, предполагающий выявление факторов риска, распределение полномочий и ответственности между всеми участниками строительства.
Строительство дамбы: аналитическая работа
После публикации моего материала «Поменять себя (как гасить волну насилия в школах)» в блоге на «Эхе Москвы» 1 декабря 2018 года поднялась встречная волна жаркой дискуссии на эту в буквальном смысле слова кровоточащую тему. Участниками дискуссии выступили как крупные администраторы образования, отвечающие за проблему безопасности детей и учителей в школах, так и педагоги, призванные решать эту проблему на местах. Накал дискуссии выявил людей неравнодушных, вне зависимости от чинов и званий глубоко переживающих за все происходящее в школах. У каждого из вступивших в полемику, безусловно, была своя правда.
Очевидно, что проблема насилия в школах является комплексной, многоаспектной, для своего решения требующей использования управленческих, экономических и других рычагов. С каждого этажа сложного сооружения, именуемого российским образованием, решение этой проблемы видится по-разному. Несомненно, что не существует одного-единственного волшебного инструмента, с помощью которого можно было бы в мгновение ока остановить волну насилия среди детей и подростков. Здесь каждый на своем месте (от министра до педагога) в меру осознаваемой ответственности и отведенных ему полномочий призван внести свой вклад в общее дело.
Непродуктивно лишь перекладывание ответственности друг на друга, руководствуясь непреодолимостью так называемых объективных препятствий, мешающих вовремя отозваться на очевидную детскую боль. С этой точки зрения развернувшаяся дискуссия представляет, как мне кажется, огромный интерес, поскольку позволяет увидеть не только рассмотрение ее участниками проблемы при помощи разной оптики, но и скрытые механизмы самооправдания, выливающиеся во взаимные (часто справедливые) обвинения в адрес друг друга людей, призванных совместно профессионально решать сложнейшую педагогическую задачу.
Но предоставим слово непосредственным участникам дискуссии. Зная, как болезненно и порой неадекватно реагирует наша образовательная вертикаль на высказывание собственной, отличающейся от официальной, точки зрения (особенно со стороны администраторов любого уровня), я сознательно не указываю «имена, фамилии, явки», а в качестве иллюстраций привожу лишь те эксцессы, которые стали достоянием СМИ.
Администратор, отвечающий за проблему безопасности в крупном регионе: «Несколько слов о сути проблемы, которая не дает покоя. Конечно же, история здесь с глубокими корнями. Ваш вывод в конце статьи („поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же“) очевиден и технологически сложен. Буквально вчера был в той школе, где произошла трагедия. Семиклассник из ружья выстрелил в пятиклассника-второгодника, который, по словам свидетелей, вел себя довольно агрессивно, демонстрировал свое превосходство и, как говорят те же свидетели, „сильно нарывался“. Стрелявший „решил попугать“, зарядил ружье, навел на обидчика и понять теперь не может, как произошел выстрел.
О том, который погиб и „нарывался“, знали давно. Ребенок из крайне сложной семьи. На его глазах мать зарезала его отца (своего мужа) восемь лет назад. Парень, по сути, уже не учился, состоял на всех видах учета, и второгодничество просто добавило ему опыта и выводов о „пользе“ школьной педагогики.
В ходе беседы с учителями, с администрацией я задавал простые вопросы: известно ли им было об агрессивности участников конфликта? Могли бы они снизить уровень агрессии этих детей, зная заранее, чем это может закончиться? Если бы по волшебству можно было вернуть время и начать сначала, то что стали бы делать?
В ответах слышались нотки переживаний, раскаяний, сожалений и… беспомощности. Откуда беспомощность? Впечатление такое, что люди зашорены. Показывают планы массовых мероприятий, расписания кружков, отчеты с количеством проведенных акций, олимпиад, протоколы педсоветов. При этом не смогли показать характеристик на этих двоих детей. Их раньше не вели, не составляли. Я спросил о дневниках педагогических наблюдений – не знают, что это такое. На вопрос о посещении семей, беседах с родителями внятных ответов нет. Попросил у них посмотреть тетради детей. В тетрадках каракули эмоционально неуравновешенных (по сути, больных) пятиклашек (с несформированными орфографическими навыками, с дисграфией) и злющие исправления красной пастой со стороны учителя. На ПМПК[12] никого не показывали. Вот уж где психологическое давление. Показал завучу – стало стыдно. Открыл случайно отчетность – обнаружил таблицу „уровней воспитанности“ с баллами. Где-то взяли дурацкую методику и решили каждому ребенку выставить балл воспитанности по шести показателям. На вопросы об авторе методики ничего пояснить не смогли. Бедняга зам. по воспитательной работе от моих вопросов и увиденного расплакалась. Как мог успокоил ее, пообещал помочь с курсами, с литературой. Слезы у педагога были от души. Но кто-то так и остался уверенным в себе, что все делает исправно: ведет уроки, ставит оценки красной пастой, делает замечания и своевременно пишет отчеты. При этом книг не читают, педагогику сменили на диагностические таблицы, сляпанные на скорую руку неизвестным автором».
С администратором полемизирует специалист по образовательному праву и экономике образования из другого региона. Он выделяет иные ключевые факторы, приведшие к трагедии: «К сожалению, когда идет речь про педагогику, все вдруг забывают про экономику.
1. Какова учебная нагрузка у учителей в школе (средняя, у тех, кто непосредственно причастен к разбираемому случаю)? И какова средняя заработная плата (реальная и отчетная, в том числе опять же у причастных)?
До дневников ли педагогических наблюдений этим учителям с такой нагрузкой и такой зарплатой за нее (удельную зарплату посчитать – будет совсем наглядно: сколько стоит урок для учителя, а еще сколько платят за 1 ученика на 1 уроке)?
Вы бы согласились за такую плату провести урок?! Причем не один, а ежедневно много… И сравнить с часом оплаты труда (включая все надбавки и премии) работника министерства.
2. Какую отчетность (в том числе по ходу введения ФГОС[13]) с них требуют?
Ведется ли электронный классный журнал в дополнение к бумажному или заместил бумажный?
И, наконец, сколько запросов на предоставление всякой отчетности в среднем в день приходит администрации из разных инстанций, в том числе непосредственно из регионального министерства образования, федерального министерства и муниципальных органов управления образованием? Сколько мониторингов регионального института повышения квалификации учителей в этом месяце было проведено?..
И тогда можно выйти на разговор о неэффективности управленческой деятельности органов управления образованием, которые завалили своими запросами и отчетностью (стыдливо называемой мониторингом для сокрытия истинных размеров беспрерывных отчетов).
3. Комментарий по поводу „книг не читают“. Директор школы рассказала, что в рамках реализации „концепции модернизации общего образования в их городе“ потребовали от всех учителей законспектировать труды Выготского и „Педагогическую поэму“ Макаренко. Учителя плачут, отказываются – так как им некогда, школа (и они) работает в режиме полного дня (совмещают ставки воспитателей). Домашние дела ведь есть. Да и на своих детей посмотреть хочется.
С одной стороны, должны это знать (?!), в институте изучали (или нет?!). С другой – они совершенно правы. С третьей – в таком случае о каких современных технологиях вести речь?
Но вывод у меня один. Восемнадцать часов на ставку – научно обоснованная нагрузка была установлена в советское время. И, если она сильно превышена, никакой работы, о которой написал администратор, НЕ БУДЕТ вестись учителями (разово, для отписки чиновникам – сделают, но системно – нет, это нереально). Для ее ведения нужно время, и оно должно быть оплачиваемо.
Поэтому экономика первична!
Пока не будут платить за ставку достойную зарплату, этого не будет.
А платить не будут, даже если найдут деньги (которых, как известно, для населения у властей нет): нет педагогов, острый дефицит кадров. Впрочем, дефицит именно при нынешнем уровне зарплаты. При ее реальном (а не нарисованном) росте, очень вероятно, будет переток кадров из других сфер деятельности».
Свою точку зрения выражает руководитель управления образования сельского региона: «Совершенно очевидно, что в письме сотрудника регионального министерства, отвечающего за безопасность, много полезного для школы, для учителя. Хочу возразить вот по каким моментам. „Педагогику сменили на диагностические таблицы“ не учителя, не школа. Они приходят свыше со сроками обязательного исполнения, а на совещаниях регионального уровня результаты таких диагностик еще и публично обсуждают. Да, они „сляпаны на скорую руку неизвестным автором“, но все же не учитель должен искать автора инициатив, рождающихся на уровне министерств и их ведомств. При обилии органов надзора и контроля неизвестность таких авторов несколько странновато выглядит. Да и почему бы начальнику Отдела комплексной безопасности не сделать запрос об авторстве со своим подтверждением неэффективности таковых методов исследования?
Что касается ПМПК… На эту комиссию ребенка можно привезти только с согласия родителей. Не так давно директор одной из школ нашего района обстоятельно и дипломатично объяснил отцу „трудного“ школьника о необходимости показать его сына на ПМПК. В ответ тот бросился на директора (женщину) с оскорблениями и угрозами: „Я сам знаю, что мне делать со своим сыном!“ Пришлось вызывать полицию. А мальчика комиссии так и не показали. Я понимаю, что у каждой истории есть как общая композиция, так и индивидуальная. Хотелось бы, чтобы в индивидуальных разбирались тщательно, чего у нас обычно не делают.
Тот факт, что завуч показывает планы массовых мероприятий, расписаний кружков, отчеты с количеством проведенных акций, олимпиад, протоколы педсоветов, лишь подтверждает тот невыносимо муторный и бестолковый характер отчетов по инстанциям.
Что обычно требуют, то и показывают, завуч не готова к тому, что документы запросил „чиновник, сохранивший педагогическую сущность“. Это, конечно, нисколько не оправдывает отсутствие характеристик на проблемного ученика.
Несомненно одно (об этом и написал Евгений Александрович Ямбург): „Поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же“. При нашем запущенном состоянии самообразования и достраивания себя учителем понимание того, что „так воспитывать нельзя“, должно все же сопрягаться и с пониманием: „так руководить отраслью образования нельзя“. Общался недавно с коллегой из соседнего района. Оптимизационные мероприятия привели к тому, что учителя там ведут по 40 часов в неделю. Вот вам и педагогический дневник.
P. S.
Не распространяюсь о том, что, действительно, учителя мало читают, мало занимаются самообразованием, шаблонность мышления распространена повсеместно и т. д. Мы часто об этом размышляли и, конечно, мировоззренческая убогость имеет место быть».
Накал дискуссии невероятно повышало описание эксцесса, произошедшего в ноябре 2018 года в одной из школ Иркутской области. История попала в СМИ.
«Бросили с переломом на улице (Учителя в Малом Голоустном довезли пострадавшего школьника до дома и оставили одного у калитки)
Лариса Плеханова и ее семья (у женщины кроме 17-летнего Жени еще трое детей – старшая дочь, которая живет самостоятельно, 14-летний сын и 9-летняя дочь) хорошо известны не только в Малом Голоустном, но и по всей области – они организуют путешествия с аляскинскими маламутами. (Маламут – крупная собака аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке.)
Все местные знают, что у Жени диабет, и относятся к нему с особенным вниманием. „У меня один вопрос, – говорит Лариса, – почему никто не догадался вызвать скорую? Было очевидно, что ребенку очень больно. Мимо проходила медсестра из детского сада, сказавшая, что нужно вызвать скорую, но Женю все же подняли, усадили в машину, чего при переломах категорически нельзя делать, а потом и вовсе оставили одного у калитки стоять! Как такое возможно?“
Сейчас Женю Домошонкина наблюдают врачи Иркутской областной детской больницы. С ним они давно знакомы по другому заболеванию, а теперь помогают перенести сложный перелом. Только чудом отколовшийся кусок кости не вскрыл парню артерию при перемещениях из школы домой. Женя закован в гипс, и пока неизвестно, сколько времени ему придется провести в таком состоянии.
Директор школы поселка Малое Голоустное Дарья Хохлова во время ЧП с Женей была в отпуске и объяснить поведение своих подчиненных не смогла.
Что нужно сделать, если вы видите упавшего человека, который не может подняться и жалуется на острую боль? Большинство без колебаний ответят: вызвать скорую. Но не всем такое решение кажется очевидным. Учитель и охранник школы из поселка Малое Голоустное просто довезли 11-классника с переломом шейки бедра до дома и оставили у калитки ждать отлучившуюся по делам мать.
Женя Домошонкин – особенный ребенок. В 10 лет ему поставили диагноз „сахарный диабет“. Врачи определили очень редкую форму заболевания – таких, как Женя, в области всего двое. Мальчик продолжил учиться со сверстниками, но 9-й и 10-й классы, по рекомендациям медиков, окончил на домашнем обучении. Впереди были выпускные экзамены, и летом администрация школы предложила матери вернуть Женю в класс. К тому времени ему уже установили инсулиновую помпу, и врачи дали согласие на обучение. Жене тяжело ходить, поэтому было решено, что до школы, а это полтора километра, он будет ездить на квадроцикле.
– Конечно, мы переживали. Женя тоже волновался, как его примут. Но, взвесив все, решились, – рассказывает мать мальчика Лариса. – 1 сентября он пошел вместе со всеми в школу. Дети в нашем классе молодцы, сын быстро адаптировался, сдружился с ребятами – все было хорошо.
Однако не все школьники восприняли Женю адекватно. Вообще, в небольших учебных заведениях любым новичкам всегда оказывают много внимания. Особенно Женей заинтересовался рослый хулиган из шестого класса.
– Сын пытался с ним поговорить, объяснял, почему он выглядит чуть младше своих одноклассников, что у него помпа и не стоит его донимать, – вспоминает о случившемся Лариса. – Все оказалось бесполезным. Парнишка постоянно его задирал – то ткнет, то потянет, то еще что-то. В этот раз он снова на перемене пристал к Жене. Сначала обзывался, матерился, а потом стал его тыкать то в спину, то в живот. Женя пытался увернуться, а тот подставил подножку, и сын упал. И падение оказалось очень неудачным.
Давать оценку поведению хулигана будут в комиссии по делам несовершеннолетних. Больше вопросов возникло к взрослым, оказавшимся в тот момент рядом с Женей.
– В понедельник, 12 ноября, я поехала по делам. Сын позвонил мне в слезах, говорил сбивчиво, я не могла понять, что произошло. Он повторял, что ему очень больно и он не может подняться. Я попросила 10–15 минут, чтобы доехать до школы. И тут кто-то предложил довезти его до дома, он передал это мне, я согласилась и поехала быстрее к дому. Проблема в том, что я не видела и не понимала, что произошло, не могла оценить.
Рядом с Женей были классный руководитель, учитель английского языка Людмила Мигунова, охранник и вахтер. Все вместе они подняли мальчика, одели, довели до машины. Охранник в сопровождении Людмилы Константиновны довез Женю до дома, там они его оставили и уехали.
Когда Лариса примчалась домой, Женя стоял у калитки, крепко вцепившись в ручку. У него было белое лицо, текли слезы, парень едва держался на ногах.
– Я стала его расспрашивать, а он говорит: „Я не могу ступить на ногу“. Попробовали сдвинуться с места – он в крик, видно, что боль сильнейшая. Тогда я на себе понесла его в дом. От боли он не мог даже повернуться! Стала звонить в школу, чтобы узнать, что там случилось, но завуч не взяла трубку. В итоге я вызвала скорую помощь, через час приехали врачи и начали меня ругать: „Почему вы позволили его перемещать?!“
Когда медики поняли, что это сделали в школе, ругались уже на них: „В таких случаях нельзя допускать лишних движений, а тем более ставить на ноги, перевозить без специальных условий!“ Врачам скорой сразу стало понятно, что у парня перелом, его погрузили на носилки и срочно доставили в Иркутск.
– Когда мы уже грузили Женю в машину скорой помощи, я дозвонилась до завуча и спросила: „Как вы допустили такое? Его нельзя было двигать!“ На что она удивилась: „А что случилось?“ Прошло два часа, а она ничего не знала о произошедшем! Значит, Людмила Константиновна скрыла это от руководителя?
Женю привезли в травмпункт на Волжской, сделали снимок, который подтвердил перелом шейки бедра. Мальчика положили в больницу. Но и тут не обошлось без накладок: согласно инструкциям, Женю увезли в ближнюю медсанчасть, где сразу заковали в гипс. И только утром, после того как мать подняла шум, перевели в Иркутскую областную детскую больницу, где сделали новые снимки и экстренно прооперировали.
– Рядом с артерией (!) оказался осколок кости, и в любой момент он мог просто проткнуть ее. Что было бы дальше, страшно представить. Как потом объяснил хирург, им пришлось вставлять спицу и оттягивать ногу так, чтобы этот осколок убрать вместе с мышцей от артерии. Это была первая операция, а через три дня провели еще одну – установили металлические пластины.
Сейчас Женя в гипсе по пояс. Ему нельзя сидеть и вставать, впереди долгий процесс восстановления.
Вернемся к школе, где сразу несколько взрослых нарушили правило, знакомое, кажется, даже первоклашкам. Эти взрослые прекрасно знали о заболевании Жени, ведь в школу была передана его реабилитационная карта, и что мальчик требует особого внимания. Впрочем, любой школьник требует внимания и имеет право на оказание первой медицинской помощи.
– Завуч перезвонила вечером с вопросом: „Ну что, как дела?“ Я ответила: „Ничего хорошего“ – и на этом прекратила общение. Мне невыносимо было говорить, – вспоминает Лариса Плеханова. – Я обратилась в полицию, и утром перед операцией Женю успели опросить. Потом завуч снова мне звонила и после нескольких слов сочувствия заговорила о заявлении, которое я подала в полицию. Я поняла, что речь пойдет о том, чтобы мы его забрали, и отключила телефон. Она еще много раз меня набирала, но я была не в силах разговаривать – пережила пять дней настоящего ада. Позже я сама ее набрала, но опять не узнала, почему ребенку не вызвали врачей. Зато узнала, какие сейчас ведутся курсы в школе… По слухам, учителя пытаются повернуть ситуацию так, будто я сама сказала везти его домой. А это ложь. Этого не было.
К слову, классный руководитель побывала у матери Жени через три дня после ЧП, принесла конверт с деньгами – от коллектива школы. Но объяснять свое поведение не стала. Не заговорила она об этом и в палате у Жени, куда приходила рассказать о перспективах ЕГЭ.
Вопросы без ответов
Мы связались с директором школы поселка Малое Голоустное Дарьей Хохловой и задали ей один вопрос: „Почему учителя и персонал не вызвали пострадавшему мальчику скорую помощь?“ Однако ответить Дарья Николаевна не смогла.
– Я была в отпуске, вышла только на этой неделе и всей картины пока не знаю, поэтому не могу пояснить, что там произошло.
Тогда мы задали вопрос иначе: „Что должен делать учитель, если школьник получил травму в школе и жалуется на острую боль?“
– Я пока не знаю, что вам ответить. Конечно, на этот счет есть инструкции, правила, но так сразу я не могу сказать…
На этом связь прервалась. Впрочем, чтобы сделать выводы, сказанного вполне достаточно».[14]
На эту историю немедленно реагирует первый участник дискуссии, отвечающий за безопасность. Он справедливо усматривает здесь грубое нарушение должностных инструкций, допущенное школой: «Относительно письма о травмированном ребенке. Школа нарушила элементарное. Скорую должны были вызвать незамедлительно. Наверняка у них на этот счет есть инструкции и приказы. (Что чистая правда. – Е. Я.) Вполне возможно, администраторы хотели скрыть этот случай.
Обсуждать тему можно бесконечно. На замечания и несогласия можно было бы дать комментарии, привести новые аргументы. Круг вновь замкнется, но аргумент останется – ежегодно растущее детское кладбище и койки травматологических отделений больниц. Боже упаси меня обвинять во всем педагогов! Но они были и будут рядом с ребенком, когда родителям „некогда“. А сколько надо платить классному руководителю, чтобы он проявил такт, расположил к себе горе-мамашу да узнал бы от нее, где она работает? Мне один из педагогов заявил, что он не будет интересоваться этим, так как соблюдает закон о персональных данных (??!!). А еще один психолог, что в прошлом году при разборе суицида заявила: „От меня он (ребенок) отказался, я и не стала с ним работать“. У нее, кстати, была приличная зарплата.
Вместо резюме: замечания, заметки запомнились. В конце концов, это еще одни грани проблемы. И спасибо моим оппонентам, искренне! В своей практике использую, будет что предъявить и моим начальникам».
Свою лепту в дискуссию вносит заместитель директора авторитетного, имеющего высокий рейтинг лицея, которая в качестве бабушки столкнулась с проблемой в собственном (!) образовательном учреждении: «В обществе действительно исчезает доброжелательность и стремление сделать приятное другому. Несколько дней назад моя дочь пришла с родительского собрания со слезами. Учитель сказал: „Мне противно брать в руки тетрадь ученика с плохим почерком!“ И это сказала учитель высшей категории, руководитель МО учителей математики!
А моя внучка, ученица 5-го класса, очень плохо пишет. Мы всю начальную школу работали над этой проблемой, она специально ходит в кружок по рисованию, но пишет коряво! Я перечитала разные рекомендации, но ничего пока не получается.
Но ведь в классе не только моя внучка плохо пишет, есть и другие дети. С каким настроением пришли другие родители с собрания? Почему нельзя принимать ребенка таким, какой он есть? Быть просто к нему доброжелательным?»
Своеобразным резюме, подводящим предварительные итоги дискуссии, следует признать точку зрения педагога, более тридцати лет стоящего у учительского стола. Кроме того, он заместитель директора по науке крупного образовательного комплекса, автор ряда научно-методических работ, адресованных педагогам. «Мне кажется, что начатый многими разговор о печальной участи учителя и образования в современной России при всей очевидной правде имеет один общий изъян. Все письма по умолчанию предполагают, что были времена, когда положение учителя было лучше, чем сейчас.
Между тем, скорее всего, оно всегда было тяжелым, что, видимо, следует из неразрешимого противоречия, характерного для самой профессии, которая, с одной стороны, требует „высокого призвания“ и „аскетического служения“, а с другой – является самой массовой из всех профессий так называемого умственного труда.
Чтобы не множить сущности, сошлюсь лишь на Н. В. Гоголя („Ревизор“), А. П. Чехова („Человек в футляре“), К. Г. Паустовского („Повесть о жизни“), где учителя выглядят не лучшим образом. Вспомним и многочисленные советские фильмы, и несколько американских о двух типах учителей. Один тип – одинокие „подвижники“. Другой – многочисленные „серые и равнодушные“. Общий взгляд как публицистики, так и художественных произведений – в том, что учителя либо просто не соответствуют своему имени, либо вынуждены нести непосильный крест.
И в нашем случае все, что написано участниками дискуссии, так или иначе сводится всего к двум позициям:
1) учитель не виноват и будет хорошим… если убрать то-то и то-то и дать то-то и то-то;
2) учитель должен делать свою работу, несмотря ни на что…
Полностью разделяя второй взгляд и стараясь (безусловно, недостаточно!) ему следовать, могу лишь добавить как работающий уже 48 лет школьный учитель, а также историк педагогики и образования, что второй путь единственно возможный, поскольку никто и никогда не давал учителю того, что ему надо, а, наоборот, во все времена всячески мешал ему работать. В некоторые из времен мешал „даже до смерти, и смерти крестной“ (Послание св. ап. Павла к Филиппийцам, 2: 8).
И в утешение напомню превосходное стихотворение Александра Кушнера:
- Времена не выбирают,
- В них живут и умирают.
- Большей пошлости на свете
- Нет, чем клянчить и пенять.
- Будто можно те на эти,
- Как на рынке, поменять.
- Что ни век, то век железный.
- Но дымится сад чудесный,
- Блещет тучка; я в пять лет
- Должен был от скарлатины
- Умереть, живи в невинный
- Век, в котором горя нет.
- Ты себя в счастливцы прочишь,
- А при Грозном жить не хочешь?
- Не мечтаешь о чуме
- Флорентийской и проказе?
- Хочешь ехать в первом классе,
- А не в трюме, в полутьме?
- Что ни век, то век железный.
- Но дымится сад чудесный,
- Блещет тучка; обниму
- Век мой, рок мой на прощанье.
- Время – это испытанье.
- Не завидуй никому.
- Крепко тесное объятье.
- Время – кожа, а не платье.
- Глубока его печать.
- Словно с пальцев отпечатки,
- С нас – его черты и складки,
- Приглядевшись, можно взять.[15]
Написано в 1978 году, когда положение учителя было вряд ли лучше, чем теперь. Поскольку я это могу подтвердить как свидетель. (32 часа в неделю, классы по 40–42 человека, 16 классов, классное руководство, три дня продленки, обязательная работа в каникулы, ленинский зачет, обязательные проф., комс., пион., прочие собрания, обязательная летняя работа в отпуск в лагере труда и отдыха. 125 руб. [инженер зарабатывал 160 с премиями, рабочий – 200 и больше].)
С уважением.
Без надежды, но с твердостью».
Свою точку зрения выразил приходской священник: «Рассуждения участников дискуссии весьма противоречивые – каждый видит со своей колокольни, и каждому трудно спуститься или взойти на колокольню другого. Человек по своей греховной искаженности инертен, а потому плывет по течению – может быть, куда-нибудь и вынесет. Увы.
Вы правы – народу нужны потрясения, чтобы измениться. Но наша личная человечность может проявляться не во всеобщем движении, а лишь в личностном взаимодействии – чем я в данную минуту, в данную секунду могу помочь данному человеку. Мне (как единице) не дано охватить мир и его окрестности, но конкретному человеку можно оказать помощь. Вот притча: после морской бури, которая вынесла на берег множество живых морских существ, маленькая девочка поднимала морские звезды и бросала их в море. Взрослый человек, который увидел столь необычное занятие ребенка, был весьма удивлен: „Ты же не можешь всем помочь! Зачем ты делаешь это?“ – „Зато я могу помочь этой звезде“, – ответила девчушка, бросая в море очередную морскую звезду.
Когда-то я был неверующим человеком, безразличным к вопросам веры. Но слово одного священника во мне многое перевернуло. Слово было публичное, сказанное для большой группы. Но откликнулся на это слово только я, – не резко, не сразу – но все стало по-другому. Вопрос: зря ли он проповедовал? Изменился ли после этого мир? Увы, мир в глобальном смысле не изменился. Но на ту минуту изменился мир хотя бы одного человека. А через него, возможно, в будущем тоже что-то поменяется.
Мы не в состоянии изменить мир в целом. Но мы с вами можем по мере возможности открывать детям новые стороны бытия конкретного человека.
Поэтому для многих, кто читал дискуссию, все прошло мимо, а для кого-то – новая ступенька к осознанию себя.
Уныние – грех. Но уныние – это грех личный, соединенный, простите, с гордыней. Гордыня оттого, что хочется изменить весь мир, а они не хотят меняться. А может быть, помочь одной душе, которая в данный момент и данную секунду нуждается в заботе, любви, понимании. „Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов“.