Психология обиды и вины. Том1. Обида как средство самопознания
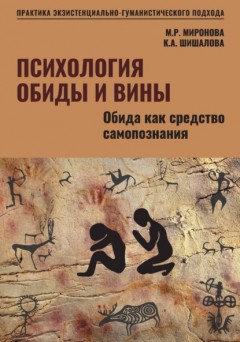
ПРЕДИСЛОВИЕ
Начнем с признания: нас заставили написать эту книгу. Сами мы никогда бы не решились собрать воедино такое количество наблюдений, догадок и гипотез. Но коллеги, благодаря которым эти наблюдения, догадки и гипотезы, собственно, и возникали – в процессе исследовательских и технических семинаров из серии «Практика экзистенциально-гуманистического подхода» – настаивали на обобщении полученных данных, а также на том, чтобы была книга, «как у людей», как в других «нормальных» научно-практических сообществах. Мы выражаем им глубокую благодарность и клянемся отомстить за наш почти четырехлетний тяжкий труд в рудниках психологической науки и практики – им же все это придется читать!
Необходимо сказать пару слов о нашем замечательном сообществе. Оно берет свое начало в долгосрочной обучающей программе «Искусство психотерапевта», которое с конца 1990-х и до 2005 года проводилось в Петербурге и Москве под руководством Джеймса Бьюджентала. Непосредственным организатором этой работы была замечательная Мертл Хиири. Из программы в 1999 году родилась супервизорская группа, которая стала ядром будущего сообщества. С 2009 года стали проходить первые исследовательские семинары в экзистенциально-гуманистическом подходе, в 2012 году родилась долгосрочная программа обучения «Искусство терапевта а la russe», а потом была создана образовательная организация АНО ДПО «Экзистенциально-гуманистическое образование», что вывело сообщество на новый уровень1.
Будучи вынужденными создать этот небесспорный и неканонический текст, мы все же признаем свою ответственность за все, что мы в него внесли, а также за то, чего внести не удалось. В какой-то момент нам пришлось просто перестать его писать, смирившись с его принципиальной неполнотой, спорностью и несовершенством. Небольшим утешением для нас является то, что неполнота и несовершенство являются неотъемлемыми свойствами человеческой натуры, а мы все еще продолжаем настаивать на том, что остаемся людьми, несмотря на профессиональную принадлежность.
Основной нашей задачей было написать книгу, которой могли бы пользоваться консультанты-практики, потому что мы считаем, что наше понимание феноменов обиды и вины позволяет существенно продвинуться в решении практических вопросов обращения с этими чувствами, а именно – уменьшить страдания и превратить их в опыт, который потом можно применять в жизни. Мы скорбим по поводу того, что наш текст, в силу его практичности и ориентированности на современную нам реальность, очень быстро устареет. Тем более что мы начинали его писать в совершенно другом мире, когда не было ни пандемии, ни безумной геополитической напряженности.
Нам кажется, что получившийся текст можно использовать в качестве гида-путеводителя по феноменам обиды и вины и по выходам из них. Мы постарались сделать этот путеводитель максимально подробным и полезным, годным к использованию психологами разных подходов. Хочется надеяться, что свою пользу при минимуме вреда извлекут из него и те люди, которые интересуются своими переживаниями, стремятся их понять и получше с ними обращаться.
Практически все примеры выдуманы или взяты из личной жизни, а не из рабочей практики авторов. Совпадения случайны и вызваны лишь общей для всех нас человеческой природой.
Мы старались выбрать самые обыденные примеры, целенаправленно демонстрируя феномены на материале, как можно более безобидном, чтобы само чтение не превратить в страдание и не травмировать читателя.
Помимо всех перечисленных, мы ставили перед собой еще одну серьезнейшую цель – побудить читателей к размышлениям, к поиску собственных путей решения обозначенных в тексте проблем. Для этого мы использовали рубрику «Вопросы внимательному читателю» (в тексте они обозначаются как ВВЧ). Они позволили нам ощущать себя в диалоге с читателями, что очень важно в нашем подходе. С этой же целью мы довольно редко даем здесь собственные ответы на эти вопросы, а отнесли их в приложение, которое выложено на сайте existedu.ru.
Кроме того, мы почти никогда не подводим итоги главы или даже части. Мы считаем, что ответы препятствуют возникновению собственных вопросов, а подведение итога – приостанавливает мыслительный процесс. Для того чтобы было легче сохранять структуру, мы часто размещаем в начале каждой главы подробный план, а также берем на себя смелость по шагам описывать последовательность работы.
Благодарности
Материал для этой книги собирался, осмысливался и обсуждался в течение почти десяти лет в рамках исследовательских и практических семинаров «Практика экзистенциально-гуманистического подхода».
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в этом процессе – соглашался благосклонно выслушивать новые идеи, рисковал проверять их на себе, делился с нами своими размышлениями, переживаниями и опытом.
Особенно благодарим тех, кто читал первые наброски рукописи и брал на себя труд сообщить нам о своих реакциях.
Мы надеемся, что будет полезно, и даже увлекательно. Приятного прочтения!
ВВЕДЕНИЕ
Мы не претендуем на истину. Только на мнение.
Авторы
POU STO (που στω)
Буквально это греческое выражение означает «место, где стою» или «место приложения сил», «место, где есть надежная опора». Это выражение обычно связывают с Архимедом2, который, по слухам, обещал перевернуть Землю, если у него будет такое место. Нам больше нравится вполне законное понимание этого выражения: «место опоры, откуда начинается движение». Мы вслед за Джеймсом Бьюдженталом используем это словосочетание, когда обозначаем фундамент, на котором далее строим наши догадки, гипотезы и особенно цели и способы работы, практические действия. В нашем сложном деле психологического консультирования обозначать такой фундамент совершенно необходимо, иначе трудно понять логику мышления и действия авторов. Фактически это описание аксиом, на которых базируется дальнейшая практика. Таким заголовком в тексте мы каждый раз обозначаем изложение наших убеждений и взглядов, на которых основана конкретная тема.
Именно такое POU STO мы представляем во введении к нашей книге. Все, что написано ниже, является для нас фундаментом.
В конце ХХ века американский психолог и психотерапевт Джеймс Ф.Т. Бьюджентал описал пять фундаментальных оснований работы специалиста в экзистенциально-гуманистическом подходе в психологии и психотерапии (Bugental J.F.T.) [4].
1. Вера в то, что все психологические проблемы человека берут свое начало на экзистенциальном уровне – уровне бытия человека в мире. Благополучие человека зависит от степени его знакомства с основными экзистенциальными данностями – конечностью, телесностью, отдельностью-но-связанностью, способностью действовать и не действовать и способностью к выбору, а также с принятием указанных данностей в собственной жизни.
2. Вера в то, что человек уникален, бесконечен в развитии, принципиально неполон и не завершен, пока жив, и не познаваем до конца3.
3. Уверенность в том, что основной фокус работы психотерапевта – субъективное клиента, основная задача – помощь клиенту в знакомстве с собственным субъективным и раскрытии его потенциала, а основное орудие работы – субъективное психотерапевта.
4. Уверенность в том, что экзистенциально-гуманистическая терапия является жизнеизменяющей, и основные изменения происходят при работе в здесь-и-теперь клиента, в живых взаимоотношениях клиента и терапевта.
5. Убежденность в том, что не стоит ограничивать поиск в субъективном какой-либо специальной методологией, не стоит делить методы и методики на приличествующие и низкие. Методический плюрализм расширяет границы и позволяет использовать весь накопленный в работе опыт.
Несмотря на то, что психологические концепции устаревают все быстрее и быстрее, сейчас, в первой четверти XXI века, в России сформулированные Джеймсом Бьюдженталом положения, на наш взгляд, по-прежнему позволяют эффективно исследовать реальность и искать новые пути помощи клиентам в психологическом консультировании4.
Так получилось, что ЭГП – один из самых сложных подходов в мировой психотерапии – в России был введен в практику государственной помощи населению с начала 1990-х годов. В результате можно сказать, что российский ЭГП является одной из самых демократичных версий этого подхода, вполне доказавшей свою действенность и эффективность за десятилетия практики в нашей стране в один из самых острых моментов ее истории.
Рожденный в США гуманистами Р. Мэем, Дж. Бьюдженталем, И. Яломом, основанный на идеях европейских философов-экзистенциалистов А. Камю, Ж.-П. Сартра, Э. Фромма, вобравший в себя концепцию диалога М.М. Бахтина и страсть великой русской литературы, подтвержденный практикой жизни и целительства невероятного В. Франкла, экзистенциально-гуманистический подход в России развивался и скреплялся в практике кризисной помощи семьям и подросткам, в социальных проектах для малообеспеченных в лихие девяностые и олигархические нулевые. Отсутствие выраженных догм, определений «хорошего» и «плохого» в психике и развитии человека позволяло и позволяет российским приверженцам ЭГП учитывать нашу быстро меняющуюся и традиционно непредсказуемую действительность в своей работе.
Скорость изменений и характерная для новейшего времени абсурдность реальности породили еще одну особенность реализации ЭГП в России: мы (практикующие ЭГП специалисты) всегда старались и стараемся осознанно и целенаправленно сохранять и воспитывать здравость в себе и клиентах. Критерий здравости личности, на наш взгляд, – способность видеть реальность вокруг и внутри себя, чувствовать себя и других и вести себя так, чтобы добиваться желаемого и при этом минимально вредить себе, окружающим людям и миру вокруг. Такая способность, как нам кажется, обязательна для жизни в мире, который вдруг стал опасно хрупким и предъявляет очень жесткие требования живущим в нем людям.
В целях наилучшего понимания и удобства чтения последующего текста нам необходимо очертить основополагающие понятия, которыми мы пользуемся в своей практике. Они никак не претендуют на истинность и всеобъемлющий характер. Наоборот, мы подчеркиваем, что это практические, даже узкоспециальные определения, необходимые для психологического консультирования в ЭГП в конкретном понимании.
Термин «реальность» очень сложен и многозначен. Анализировать его здесь нет возможности, но и не пользоваться им мы не можем. Поэтому мы вводим свое узкоспециальное и практическое определение реальности. Реальность – это то, что мы считаем существующим помимо нас. Существующим объективно. Это физический мир, мир людей, история общая и личная, как мы ее знаем, обычаи, вероятности событий, возможные способы действий и поведения и предполагаемое будущее. Мы все формируемся в разных условиях, в зависимости от той реальности (обстановки и ситуации во всем многообразии), в которой мы выросли. И мы все по-разному сопротивляемся ей, формируя в итоге уникальную индивидуальную реальность.
Реальность изменчива, поэтому мы все время ее тестируем, пробуем, подвергаем анализу наших чувств и разума, соотносим с реакциями и мнениями других людей. Результатом этого взаимодействия и основным инструментом исследования становится система конструктов «я-и-мир» (Дж. Бьюджентал) [19, 20], на которую человек опирается в своих прогнозах, оценках и дальнейших построениях. На протяжении всей жизни человек, взаимодействуя с реальностью, изменяет свою систему конструктов «я-и-мир», меняя себя, свои отношения с другими людьми, свои представления о реальности и саму реальность (existedu.ru) [1, 2].
Понять человека, не понимая этого взаимодействия, невозможно. Именно это взаимодействие человека с реальностью является основной мишенью, задачей и смыслом совместной работы психолога-консультанта и клиента.
Реальность и наше восприятие реальности формируются в пространстве экзистенциальных данностей, определяющих наше существование в этом мире. У нас есть подозрение, что список данностей может быть гораздо шире, но безусловно, первыми и основными выделяются следующие:
• Данность «конечность» – все в этом мире имеет начало и конец, все подчиняется ритмам, в каждом рождении заложена будущая смерть, в каждом начале – окончание;
• Данность «телесность (укорененность)» – наше сознание, наши способы реагирования, чувства, мысли, взгляды, память, отношения не просто зависят от нашего тела, а являются его производной в той же степени, в какой наше тело является производной от характера, личности, образа жизни и других особенностей сознания и психики. Данность телесности имеет еще и такую сторону, которую можно назвать укорененностью – а именно, это зависимость формирования человека (включая тело) от среды (способов питания, климатической зоны, взглядов общества на физическую активность, общественного строя, и т. д.);
• Данность «отдельность-но-связанность» – человек является одновременно социальным и биологическим существом, а это значит, что, являясь биологически отдельным индивидом, он не может ни развиться, ни существовать как человек в отрыве от общества других людей. Мы можем скрыться от других, но каждая мысль, каждое слово, каждый вздох связывают нас с другими людьми. Мы во всем зависим от других людей, но при этом можем поступать самостоятельно как отдельная, независимая единица, несущая ответственность за свои действия;
• Данность «способность к выбору» – это способность человека в состоянии осознанности отбрасывать множество возможностей и отказываться от множества путей, оставляя только одну возможность и один путь;
• Данность «способность действовать и не действовать» – способность человека в состоянии осознанности мобилизовать свои ресурсы для осуществления выбранного действия, активно вмешиваться в течение собственной жизни и в окружающую реальность. Или сознательно этого не делать, позволяя жизни меняться без своего активного участия и принимая последствия своего недеяния. (Дж. Бьюджентал, И. Ялом) [19, 20, 65]
Жизнь человека – это процесс непрерывного столкновения с этими данностями в виде локальных и экзистенциальных кризисов. Нормальность и естественность самого процесса не исключает необходимости снижения драматичности и травматичности этих столкновений. Современная нам реальность меняется стремительно. Люди приобретают невиданные ранее возможности влияния на реальность и на саму природу человека. Специалист вынужден постоянно формировать свое отношение к этим изменениям (например, отношение к эвтаназии, к природе пола, формам телесности, способам деторождения, природе интеллекта и т. п.).
Течение жизни обеспечивается процессом интенциональности (Bugental J.F.T.) [3], то есть процессом превращения желания в действие. Этот процесс происходит под воздействием двух противонаправленных сил: воли и лени. Воля толкает человека к изменениям, к действию, к напряжению и реализации желаний, целей и задач, наполняющих жизнь смыслами. Лень сдерживает движение, стабилизирует процесс, не давая человеку истощить все ресурсы, навредить себе торопливостью и неподъемными задачами.
Особенно важным для психологической практики является описание жизни как процесса сопротивления – воздействиям физической среды, давлению общества, собственным представлениям, страху перед будущим и так далее. Сопротивление человека закрепляется в привычных способах поведения и является объектом пристального изучения в процессе психологической работы, так как, по сути, является закрепленными формами взаимодействия человека с реальностью.
Опираясь на эти определения, мы руководствуемся в работе следующими принципами:
1. Здравый смысл прежде всего
• Соображения здравого смысла всегда важнее любой схемы, потому что ориентированы на актуальную ситуацию и на повышение качества взаимодействия человека с реальностью.
• В работе необходимо уделять равное внимание мыслям, чувствам и поведению, потому что все они с разных сторон, но одинаково значимо отражают наше взаимодействие с реальностью.
• Необходимо с самого начала работы относиться к любому феномену психики и поведения как к имеющему смысл или ценность для жизни человека, даже если такие феномены на первый взгляд кажутся непонятными или даже вредными.
• Важно соотносить результат и затраты на его достижение. Затратами считаются любые ресурсы, привлеченные участниками рабочего процесса к осуществлению процесса и достижению результата: силы, время, деньги, поддержка окружающих и др.
Нужно стремиться к тому, чтобы в результате работы эффективность и качество жизни клиента повышались. Понятия «эффективность» и «качество», безусловно, меняются в соответствии с требованием момента. Но мы считаем, что они всегда должны включать аспекты здоровья человека, его эмоционального комфорта, общения с окружающими и ощущения осмысленности жизни.
2. Понимание предшествует изменениям
Понимание (не путать с согласием) с точки зрения помогающего экзистенциально-гуманистического взаимодействия означает взаимный процесс общения, при котором участники приходят к общему представлению относительно понимаемого феномена. Понимание в психологическом консультировании обязательно включает: понимание происходящего в жизни клиента, включая логику событий, их процесс и связи, понимание страдания клиента, понимание его потенциала, понимание ресурсов (включая социальные отношения) и актуальной способности к ответственным решениям и действиям.
Понимание клиента требует знакомства с контекстом его жизни, способности представить себе смысл его поведения и функцию его симптома.
Не стоит инициировать и стимулировать клиента к изменениям, ответственным решениям и действиям, если понимание еще не достигнуто.
3. Все и всегда может измениться, постоянно возникают новые знания и концепции, которые следует учитывать. Надо быть готовым в любой момент отказаться от своей предыдущей точки зрения, если она не соответствует здравому смыслу или противоречит новому пониманию. Это не всегда легко – жаль потраченного времени и творческих сил, но любая концепция имеет свои исключения и ограничения. Не существует такой вещи, как раз и навсегда разрешенная проблема, поэтому не стоит и стремиться к поиску «вечных решений». Наличие проблем – признак наличия жизни.
4. У людей могут быть разные реальности и эти реальности равноправны с нашей. В теории этот принцип равноправия своего и чужого давно стал общим местом, но на практике его реализовывать довольно сложно. Нелегко противостоять чисто физиологическому неприятию того, что воспринимается как чуждое (Р. Сапольски) [49]. Огромен соблазн объявить нездоровым то, что непохоже на мое, привычное, знакомое. Ориентироваться здесь, на наш взгляд, можно на эффективность этого «непохожего» в жизни другого, на понимание функции и смысла этого непохожего в жизни конкретного человека.
5. Цель работы психолога
Учитывая все вышесказанное, целью работы психолога является повышение качества жизни и эффективности взаимодействия человека с реальностью – внешней и внутренней. Если выразиться очень приблизительно и очень обобщенно, то цель психологической работы состоит в том, чтобы так или иначе уменьшить страдание и сделать возможным счастье клиента, не забывая при этом о его здоровье, близких людях, социальной и жизненной реализации сейчас и, возможно, в будущем.
6. Поиски смысла жизни
Психолог не является носителем смысла жизни клиента. Но вполне может сопровождать его поиски.
Можно сказать, что современный мир полон обид. Самые крупные общественные движения (например, феминистские, националистические) вдохновляются идеями компенсации многолетних или даже многовековых обид. Так же можно сказать, что во многом мир сосредоточен на идее искупления вины, например, в экологическом движении, в переустройстве и перераспределении общественных благ. Это если не обращаться к политике и религии. Каждый конкретный человек тем более озабочен обидами и виной – ведь он состоит в близких, эмоционально значимых отношениях, действует, ведет себя, вольно или невольно становится причиной множества событий в жизни других людей и, соответственно, несет за это ответственность и переживает вину. Поэтому важнейшая вещь – исследовать эти феномены и определить их природу, стараясь не отвлекаться на болезненные вопросы политики, религии и прошлого.
Естественно, психологические концепции и теории никак не могли обойти вопрос «что такое вина и обида». Но на наш взгляд, теорий все-таки слишком мало, если учитывать масштаб и важность этих явлений.
Несмотря на очевидную значимость феноменов вины и обиды в человеческой жизни и в практической работе психологов, литературу, полностью посвященную этим важным переживаниям, найти не так просто. В психологии и медицине довольно часто возникает ситуация, когда основополагающие феномены не вызывают вопросов, потому что сложно выделяются из общего течения жизни, их трудно сделать объектом исследования, потому что они составляют фон. Но совсем обойти вниманием эти важные вещи невозможно ни в одном подходе. Наше представление о существующих концепциях не претендует на полноту и глубину, нам важно обозначить основные направления мысли специалистов в разных парадигмах и в разные времена. Это необходимо еще и потому, что они формируют отношение к этим феноменам у широкого круга людей, профессионалов и непрофессионалов. А новые взгляды уже вынуждены учитывать сложившиеся в широких массах мнения и сами формируются под их влиянием. Как правило, научная психологическая концепция – даже очень взвешенная и разумная, – становясь популярной, поляризуется, генерализуется и теряет оттенки, а с ними вместе часто и адекватность.
Начнем с вины, так как к ней, видимо, исследователи относятся серьезнее, поэтому делается больше попыток изучать ее природу и наличествует больше сформулированных взглядов.
Безусловно, такое понятие, как вина, издавна пытались исследовать и понимать представители различных философских и религиозных течений, начиная с Аристотеля с его «Метафизикой». Можно сказать, что аристотелевское учение о причинности, наряду с трудами многих других философов, стали основой для большинства психологических концепций. Изучая труды Аристотеля, можно сделать вывод о глубоко субъектном характере переживания вины и об особенной важности этого переживания. Как замечают исследователи, если русский перевод слова «причина» в трудах Аристотеля заменить на дословный перевод греческого слова ατιον (этион) как «виновное или ответственное», то становится понятно, что речь идет именно о «причинении», то есть о влиянии с последствиями, что обращает нас к обсуждению авторства и субъектности как психологического явления.
Ниже мы очень коротко остановимся на основных, как нам кажется, психологических концепциях вины, а особенно на тех положениях, которые имеют значение для психологической практики.
Вину разделяют на подлинную (рациональную), невротическую и экзистенциальную (онтологическую).
Подлинная вина – это переживание, которое сопровождает реально существующий проступок, признанный плохим не только обиженным и виновным, но и окружающими людьми.
Невротической виной принято называть переживание, оторванное от реального действия, или переживание по поводу поступка, который не признается окружающими достойным такого переживания. К невротической традиционно относят и болезненные явления: навязчивые воспоминания, стремление к наказанию и самонаказанию.
Экзистенциальной или онтологической виной называют переживание, вызванное ощущаемой разницей между тем, на что я способен, и тем, что я делаю. Экзистенциалисты называют такую вину путеводной звездой, направляющей самореализацию. Иногда к этому же классу вины относят иррациональные переживания, связанные с жизнью и смертью – родительскую вину, вину перед умершим, вину выжившего и т.п.
Многие исследователи отмечают, что переживание вины довольно часто сопровождается психологическим феноменом, который называется расщеплением. Имеется в виду не медицинский аспект этого явления, а общепсихологический. В зависимости от подхода разные авторы замечали разные причины и способы расщепления личности, формирующие внутренний конфликт: я и сверх-я в классическом психоанализе (З. Фрейд) [55], я-реальное и я-идеальное (К. Хорни) [56], личность и дистанцирование личности от себя (П. Тиллих) [53], разные субличности – обвиняющий и обвиняемый – и множество других.
Чрезвычайно важными для нас являются наблюдения разных психологов относительно функций вины:
• Фрейд понимал функцию вины как сопротивление контакту с другими и миром;
• К. Хорни [56] прозорливо отметила функцию переживания вины в качестве замены действию;
• И. Ялом [65], Р. Мэй и другие экзистенциальные психологи понимают уже упомянутую онтологическую вину как побуждение человека к самореализации и авторству своей жизни.
Основатель гештальт-подхода Ф. Перлз [41], хотя традиционно рассматривал вину и обиду как явления патологические (нарушенное слияние), был одним из немногих, кто объединил их в целостный комплекс переживаний. Связь вины и обиды также отмечал в своих работах А. Кемпински [27]: он считал, что в их основе лежит стремление к справедливости.
Оба этих автора полагали, что вина и обида могут переходить одна в другую.
Ключевые рекомендации по работе с переживанием вины в психологическом консультировании практически во всех подходах схожи и в основном заключаются в том, чтобы избавлять клиентов от тягостного переживания.
Обиде в качестве предмета изучения повезло меньше, потому что обиду большинство авторов изначально считают незрелым, лишним и даже патологическим переживанием. Мы отметили наиболее часто встречающиеся концепции.
• Обида как остановленный аффект. Чаще всего – подавленный гнев, оторванный от реального события (О.А. Апуневич, О.С. Архипкина) [9, 11].
• Обида как переживание, сопровождающее фрустрированную потребность. С этой точки зрения, обида – вполне законное и здравое чувство (Г.М. Бреслав) [17].
• Обида как манипуляция поведением других людей с целью заставить любить, вступить в более близкий контакт (Э. Берн) [14].
• Обида как «детское» чувство, как реакция из субличности «ребенок» (Э. Берн) [14].
• Обида как манипуляция позицией жертвы с целью получить блага от конкретного человека или от сообщества. (Э. Берн, М. Джеймс, Д. Джонгвард) [14, 23].
• Обида как эмоциональная реакция, указывающая на расхождение ожиданий и реальности (Ю.М. Орлов) [40].
• Обида как переживание удара по образу «я», по самооценке (К. Хорни) [56].
• Обида как сигнал о нарушении социальной ситуации и контакта (А. Кемпински) [27].
Ключевые рекомендации практиков в большинстве подходов для клиентов – пересмотреть свои ожидания, не допускать возникновения незрелого переживания.
Наши претензии к большинству этих концепций не столько теоретические (психика бесконечно сложна и многообразна, каждая из этих теорий имеет право на существование), сколько чисто практические – они чаще всего не дают нужного эффекта в работе, не способствуют достижению целей психотерапии (см. выше).
Кроме того, очень редко можно встретить описание психологической работы, направленной на выход из вины и обиды с помощью других людей. А ведь именно в этой области нужно искать способы здравого переживания вины и обиды, исходя из их социальной природы. Способам выхода из переживания тоже уделяется очень мало внимания: фактически есть попытки описать только прощение, хотя это не единственный выход. Но и эти попытки – крайне малочисленны и по большей части созданы в другие времена. Процесс прощения пытались описать Л. Кольберг [30], Ж. Пиаже [44] и другие первопроходцы в деле психологической практики. Отдельно хочется отметить подробный, практичный и более современный взгляд на прощение Р. Энрайта [62].
Но все же чаще всего вина и обида, даже если они рассматриваются как межличностные феномены, в психологической практике приобретают характер внутриличностной проблемы, личного бремени, от которого стоит избавиться.
Именно этот парадокс послужил основной причиной наших исследований и побудил нас написать эту книгу. А кроме того, нас подталкивала огромная потребность – наша собственная и наших клиентов – разбираться в своих обидах и винах. На наш взгляд, обида и вина составляют едва ли не половину всех реальных запросов в практике психологического консультирования.
Основой нашего взгляда на феномены вины и обиды послужили следующие наблюдения:
Вина и обида всегда возникают вместе, в самой яркой обиде всегда присутствует некая вина (хотя бы на уровне «зачем я так подставился»). А в самой тяжелой вине – обязательно есть обида («почему мне недостаточно ясно объяснили, что это плохо»). Такое наблюдение навело нас на мысль, что вина и обида составляют единый комплекс переживаний.
Вина и обида возникают исключительно в отношении тех, кто ощущается как «свои». Наполнение этого круга зависит то того, насколько широко человек трактует и переживает это понятие. Для кого-то свои – только члены семьи, а кто-то обижается на погоду и извиняется перед муравьями на тропе.
Соответственно, на наш взгляд, основная функция комплекса переживаний «вина-обида» – ориентация в системе «свой–чужой», которая вшита в систему конструктов «я-и-мир» каждого человека. Всякий человек, встречаясь с любым феноменом общественной жизни (дружба, приятельство, любовь, семья, родительство, рабочий коллектив, профессиональная общность, политическая принадлежность, полоролевая или мировоззренческая идентичность), формирует и постоянно меняет свое представление о собственной принадлежности к кругу «своих» и постоянно очерчивает круг «чужих». Более того, как полагают нейрофизиологи, система определения «свой–чужой» обеспечена несколькими разноуровневыми системами головного мозга, включая очень глубокие и древние образования (напр., Р. Сапольски) [49]. А вина и обида являются психологическими коррелятами этой нейрофизиологической системы.
Анализируя случаи стойкой вины и обиды у разных людей, мы обратили внимание на то, что эти феномены не поддаются влиянию времени и не тускнеют, в отличие, например, от горя или даже страдания. Таким образом, на наш взгляд, психика оформляет только очень важные и нужные переживания. Вторым интригующим общим свойством этих феноменов является то, что они практически навсегда «склеивают» обиженного с обидчиком, виноватого с тем, перед кем он виноват. Такие особенности природы этих переживаний делают необходимым поиск способов выхода из них в практике психологического консультирования.
Острота переживаний, их сила и длительность, на наш взгляд, являются доказательством их особой важности в жизни человека как члена сообщества (семьи, группы, коллектива, нации, народа и так далее). Естественно предположить, что вина и обида являются проявлениями экзистенциальной данности отдельности-но-связанности (Дж. Бьюджентал) [19, 20]. Скорее всего, они могут служить маркером переживания человеком экзистенциального кризиса, связанного со столкновением с этой данностью.
Логично предположить, что эти феномены если не полностью регулируют наши эмоционально-значимые отношения, то играют в них огромную роль. Соответственно, отношение психологической теории и практики к таким базовым феноменам как к незрелым и патологическим – как минимум странно.
Далее мы представим подробное описание феноменов обиды и вины, разделив их исключительно из соображений удобства описания, но будем постоянно напоминать, что это совместно и взаимно разворачивающиеся феномены.
Экзистенциально-гуманистическая психотерапия (далее ЭГП) по сути своей является феноменологическим подходом, основанным на всестороннем рассмотрении и анализе конкретного явления, поэтому логика рассмотрения и анализа вины и обиды у нас именно такая – с разных сторон, под разными углами зрения, для того чтобы создать максимально полное описание их проявлений в процессе взаимодействия человека с окружающим его миром.
Возможно, стремление создать максимально объемный взгляд помешало нам быть ясными и определенными. Просим читателей не обижаться, так как мы не виноваты в том, что человек так сложно устроен, а вина и обида – настолько всепроникающие переживания.
ЧАСТЬ I. БАЗОВОЕ ОПИСАНИЕ ОБИДЫ
POU STO Обиду переживают все. Кому не знакомо это горькое чувство, от которого сами собой наворачиваются слезы, перехватывает дыхание, хочется кричать, топать ногами и требовать, чтобы все было исправлено немедленно, сейчас же? Чтобы все сию секунду извинились и начали вести себя как положено! И вообще я от них уйду! И пусть им будет плохо без меня! И они пожалеют!
На сегодня обида – одно из самых неоднозначных человеческих чувств. С одной стороны, оно традиционно презирается и старательно искореняется, Интернет полон советов, как отучить обижаться детей, родителей, супругов и коллег. С другой стороны, обида культивируется и даже идеологизируется. Стало модно искать, вспоминать со всеми подробностями и последовательно предъявлять обиды родителям и вообще родственникам, охватывая несколько поколений. Некоторые считают даже неудобным не иметь подробного и продуманного списка обид к властным фигурам, начальству, к представителям противоположного пола и случайным прохожим, которые делают что-то не так, как мы. На наших глазах обида политизируется и делается идеологическим принципом, по которому люди разделяются на группы и лагеря. В такой ситуации изучать обиду становится еще сложнее.
Но все равно приходится, потому что обида как феномен сопровождает нас всю жизнь. Это часть нашей человеческой природы. Каждый день мы находим новую причину и повод обидеться, каждый день мы сталкиваемся с обидами окружающих нас людей. Очевидно, что и для работы, и для жизни, и для психологического консультирования необходима достаточно ясная и практичная концепция обиды, максимально свободная от модных идеологических и политических веяний. Совсем освободиться не получится, но мы очень постараемся.
Рискнем предложить собственный взгляд, сформулированный с позиций полезной функции и смысла любого психического феномена.
Как мы уже обозначили во Введении, с нашей точки зрения, обида – часть встроенного (напр., Р. Сапольски) [49] глобального механизма определения «свой-чужой», регулирующего качественный состав социума и направляющего поведения индивидуума.
Цель этого механизма – допускать к общению, совместной жизни и произведению потомства только своих, а также регулировать поведение индивида в соответствии с правилами проживания в данном социуме.
В упомянутом механизме вина отвечает за правильную (соответствующую нормам) реакцию индивида в случае, когда он сам нарушает нормы общежития, а обида является средством демонстрации другому члену или другим членам сообщества того, что, по мнению индивида, обидчик или группа обидчиков нарушили правила общежития. Очевидно, что это врожденные механизмы, частично доставшиеся нам в наследство от предков. Доказательством (помимо данных нейрофизиологии) может служить то, что экспрессия (мимика, пантомимика) вины и обиды одинакова для всех детей любой расы и любой культуры, а также то, что мы с легкостью различаем экспрессию вины и обиды у многих социальных (стайных) животных. При этом обида, если можно так выразиться, имеет более ясный врожденный характер (у детей до трех месяцев есть даже такой рефлекс) – мы не в силах ее контролировать, она возникает помимо воли непосредственно в процессе событий.
Основа обиды – врожденная цепочка реакций и действий человека, возникающих, когда кто-либо из его окружения ведет себя «неправильным» образом. Неправильным – значит не соответствующим тому образцу «правильного поведения члена моей стаи» («своего»), который сформирован у человека к этому моменту. Причем в этой цепочке реакций и действий важно не только собственное чувство обиды, которое, как и любое чувство, является интегральной оценкой ситуации, но и собственное демонстрируемое поведение. Экспрессия обиды – яркая и ясная, она явно рассчитана на определенную реакцию обидчика: «Если ты меня обидел и не отреагировал определенным образом на мою экспрессию обиды (не продемонстрировал вину и не извинился) – значит, ты чужой». Демонстрация обиды прослеживается у всех стайных и живущих семьями социальных животных: обижаются собаки, лошади, обезьяны и др. Обижаются только на своих, на чужих злятся и нападают. Люди поступают точно так же.
Далее в книге мы намеренно усиливаем, укрупняем и детализируем все эффекты, так как хотим создать более полное феноменологическое описание. Мы вполне отдаем себе отчет в многообразии, индивидуальном характере и многослойности обиды. Наша цель – создать каркасное описание, которое поможет построить стратегию и тактику работы с обидой в психологическом консультировании в экзистенциально-гуманистическом подходе.
Нам представляется (из личного опыта), что книги о человеческой природе читать непросто, потому что при этом неизбежно затрагиваются наши собственные переживания, сформировавшиеся взгляды, вспоминаются соответствующие, не всегда приятные, эпизоды из жизни. Чтобы облегчить этот процесс, время от времени мы будем вставлять в текст вопросы для внимательных читателей, которые помогут им выявить и сформировать собственный взгляд на обсуждаемые феномены и снизить интенсивность переживаний.
ВВЧ5: Как вы полагаете: обида – это хорошо или плохо?
Глава 1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБИДЫ
POU STO Обида возникает в определенных ситуациях. Мы не претендуем на универсальный список таких ситуаций – безусловно, они меняются в соответствии с изменениями жизни, но наш список представляется нам базовым – описывающим ситуации, в которых обида возникает, можно сказать, обязательно.
Конечно, не все описанные ниже условия в каждой ситуации проявляются в полном объеме, но с практической точки зрения почти всегда имеет смысл обращать внимание на ситуацию и контекст возникновения любого феномена. Стоит упомянуть, что приведенные ниже ситуации многократно описаны в других подходах и даже в других науках (в социологии, например). Все они имеют различные названия в терминах разных подходов и наук. Мы сознательно уходим от терминологии, наше описание предназначено для практического анализа ситуации, которым могли бы пользоваться разные специалисты, не слишком отвлекаясь на терминологические разногласия.
Наиболее часто встречающиеся условия, способствующие возникновению обиды (ниже рассмотрим каждое более подробно):
1. Недостаточность ресурса у индивида (реальная или воображаемая):
• информационная недостаточность;
• физическая слабость;
• низкий статус в сообществе;
• уязвимая позиция.
2. Наличие настоятельной потребности, удовлетворяемой только в конкретном взаимодействии (реально или иллюзорно).
3. Несубъектное взаимодействие:
• нарушение правил;
• при прямом нарушении соглашений, в том числе общественных;
• при несовпадении внутренних описаний правил или содержания роли у участников взаимодействия;
• особый случай составляют несубъектные иллюзорные отношения;
• частным случаем иллюзорного взаимодействия является взаимодействие дефицитарное.
4. Субъектное взаимодействие (взаимодействие, в котором оба обладают свободой воли и влияют на процесс и результат взаимодействия).
Информационная недостаточность
Здесь речь идет о ситуациях, в которых мы просто не знаем, как положено себя вести. Когда нам неизвестно, кто перед нами – близкий или нет, когда близкого мы принимаем за чужого, а чужого – за своего. Если такая ситуация создается намеренно, то обида бывает очень резкой. Вспомните, как вы реагируете, когда обнаруживаете, что вам что-то недоговаривают или намеренно вводят в заблуждение. Информированность – основа поддержания единства сообщества, основание чувствовать себя принятым членом общества, группы, стаи. Потребность знать, что происходит у соседей, друзей, близких и дальних приятелей входит, возможно, в список витальных потребностей, обеспечивающих жизненно важное ощущение безопасности. Специалисты по приматам свидетельствуют, что сплетни есть даже у павианов (Р. Сапольски) [49], причем они играют важнейшую роль в сплочении сообщества и социализации каждого индивида. Вранье своим у всех народов считается тяжким грехом (относительно чужих правила разные). Искажение и урезание информации воспринимается людьми как подрывная деятельность против сообщества, а не только против индивида. Поэтому, обнаружив такие действия, мы зачастую не только обижаемся, но и испытываем особый, так называемый праведный гнев, который, как и обида, держится долго и легко воспроизводится при воспоминании о событии. Те, кто считают, что недосказанность – меньший грех, чем прямая ложь, скорее всего, ошибаются. Реакция на лжеца – обычный гнев, обиды там меньше. Соответственно, и проходит быстрее. Видимо, лжеца легче понять «по-человечески». Реакция на недосказанность, на жонглирование информацией – отторжение, автоматическое присвоение статуса «чужой», потому что манипуляция информацией производится с позиции «извне сообщества», извне отношений и общего информационного поля (Э. Блекбэрн, Э. Эпель) [15].
Физическая слабость
Наверное, каждый из нас замечал, что в некоторых ситуациях мы становимся очень обидчивыми, например, в ситуации болезни, когда не купленные близкими лекарства, не принесенный вовремя стакан воды или недостаточно, как нам кажется, усердный уход за нами вызывают горькую обиду до слез, до мимолетных детских мыслей «вот я умру, и тогда вы поплачете». Подобное, конечно, крайний случай, но такие реакции очень понятны. Они возникают, видимо, как следствие температуры, приема лекарств, ограниченной функции коры головного мозга и соответствующего снижения способности воспринимать ситуацию адекватно. С точки зрения выживания это вполне оправданная вещь, потому что яркая экспрессия обиды действительно автоматически вызывает у близких чувство вины и стремление заботиться и уделять внимание заболевшему члену «стаи» в большем объеме, что действительно повышает выживаемость. Случается, когда такое поведение закрепляется, особенно у детей, хронически больных или пожилых людей. Закрепление свидетельствует о том, что человек не верит в свою способность получить внимание иным способом. В других подходах это называется вторичной выгодой. Но, на наш взгляд, подобное название сбивает с толку, потому что заставляет относиться к получаемому таким образом вниманию как к лишнему, незаконному. С нашей точки зрения, внимание и забота со стороны близких – основа выживания, необходимая так же, как воздух, еда и вода. Внимание и забота – один из способов организации экзистенциальной данности отдельности-но-связанности (Дж. Бюджентал) [19]. Поэтому они не бывают лишними или незаконными. Неудобным, неприемлемым, вредным, на наш взгляд, может быть только способ их получения.
Низкий статус в сообществе
Проще всего проиллюстрировать такое условие на примере ребенка. Дети обидчивы. Во многих случаях обида – единственный способ для ребенка обратить на себя внимание, заставить себя слушать, потратить на него время и силы. Думается, очень многие из нас могут вспомнить эпизоды из детства, когда ты вдруг обнаруживаешь, что с помощью обиды можешь заставить взрослых перестать злиться, уделить тебе время и просто взять на руки, приласкать. Нужно сказать, что очевидный низкий статус в сообществе заставляет нас ярко обижаться и во взрослом состоянии. Например, каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с очень обидчивыми сотрудниками, которые переживают свой статус как низкий. Ключевое слово – «переживают», потому что выполняемая роль (вахтер, дворник, курьер) может быть действительно для кого-либо непрестижной, но иногда конкретный человек, выполняющий данные обязанности, может свой статус воспринимать как высокий и, как следствие, не обижаться, а своим поведением и отношением даже поднимать статус и престиж работы. Обида «низкостатусного» сотрудника или лица на «непрестижной» работе возникает и развивается, если у человека нет иных способов повысить свой статус до статуса личности, «имеющей право влиять на происходящее». Здесь необходимо хотя бы упомянуть важность того, чтобы наша автоматическая вина при виде обиженных больных, слабых и низкостатусных членов сообщества оставалась с нами и дальше. Она делает нас социальными существами, заставляет заботиться о детях, стариках и других слабых. С такой точки зрения важно не изолировать их от более сильных и высокостатусных. Правда, излишне акцентировать это тоже не стоит. У нас очень пластичная психика, и автоматизмы в ней не вечны.
Уязвимая позиция
Уязвимость возникает в ситуации большой откровенности или открытости, незащищенности. Например, когда партнер знает твои больные и слабые места, когда твои чувства открыты и беззащитны. К подобным относятся также ситуации, в которых не работают или отключены постоянно действующие психологические защиты. Например, общение учитель-ученик, в котором каждое слово учителя имеет для ученика особое значение и отключена обычно включенная у взрослого человека защита обесценивания (то, что чаще всего называют «критическим мышлением»). В обычной ситуации, прежде чем принять что-либо новое на веру, мы вначале отодвигаем это от себя, лишаем статуса «правдивого факта», чтобы оценить со своей точки зрения, «объективно»6. Если авторитетная фигура наделена особым статусом непререкаемости или истинности, то даже неосторожное слово может в прямом смысле уязвить, то есть нанести глубокую рану и остаться обидой на десятки лет. В безоговорочно уязвимой позиции находятся по отношению к друг другу любящие люди, супруги, родители, дети, друзья. В такой же безоговорочно уязвимой позиции пребывает больной в отношении врача.
Стоит особо выделить позиции – психолог и клиент. Терапевтические отношения7 в психологическом консультировании предполагают открытость и беззащитность (отсутствие защит) с обеих сторон. Уязвимы и клиент, и психолог. В некоторых психологических подходах считается, что психолог не должен раскрываться личностно, а обязан оставаться в профессиональной позиции, которая в разных подходах предполагает разную степень усеченности эмоций, экспрессии, искренности, вовлеченности и т. п. В реальной жизни такая защищенность и невключенность получается редко даже у представителей психоанализа или когнитивно-поведенческого подхода. В гуманистически ориентированных подходах личность психолога, а значит, его эмоции, мировоззрение, представление о том, что приемлемо и что неприемлемо, что обидно и что не обидно, является рабочим инструментом. Соответственно, в такого рода подходах психолог особенно уязвим. Обида в уязвимой позиции практически неизбежна, не стоит даже пытаться ее предотвратить. Хотя помнить о такой возможности, как и о том, что клиент все-таки более уязвим, несомненно, стоит. К счастью, сама ситуация близости, искренних и открытых отношений позволяет быстро прощать и лечить обиды.
В каждой ситуации бывают свои особенности и дефициты ресурса. Мы описали базовые варианты. Необходимо помнить, что, если имеются признаки таких ситуаций, то, скорее всего, человек может испытывать обиду. С этой точки зрения, обидчивость у детей и пожилых можно снизить, если подчеркивать их высокий статус.
Если человек чувствует себя уверенным, сильным и защищенным, он не обижается. Он или не замечает неправильных действий со стороны других в отношении себя, или немедленно их прощает, или гневается открыто (но про гнев мы как-нибудь напишем отдельно).
ВВЧ: Как, на ваш взгляд, можно было бы восполнить другие формы дефицитов и снизить обидчивость?
Обида возникает, когда человеку отказывают в удовлетворении такой потребности. При этом данная потребность и способы ее удовлетворения должны быть приняты и одобрены большинством членов сообщества. Например, отношения маленького ребенка и мамы. Все знают, что временами ребенок хочет оказаться на руках именно у мамы, и никакие другие руки его не устраивают. Самые нежные объятия бабушки или папы все равно вызывают дикий обиженный рев и крик «Хочу к маме!» Нам понятно, что для такого поведения у ребенка есть не только психологические, но и физиологические обоснования, и его потребность наилучшим образом удовлетворяется именно – и только – в таком взаимодействии с мамой8. И чем больше людей согласны с тем, что мама должна брать ребенка на руки, когда он того так страстно желает, тем сильнее обида у ребенка, если ему отказывают в этом. По мере взросления, по мере того как уменьшается чисто физиологическая часть потребности ребенка в маме, психологическая тоже слабеет и все больше становится иллюзорной. С возрастом ребенок обнаруживает, что и папины, и бабушкины объятия достаточно хорошо успокаивают. Но ему может по-прежнему казаться, что именно мама должна удовлетворять его потребность в близости. Здесь дело уже не в потребности, а в законах, правилах, в том, «как должна вести себя хорошая, достойная мать». Особенно если вокруг много людей, которые тоже так считают. Если по каким-либо причинам потребность ребенка в именно этой близости с матерью при таком окружении не удовлетворяется, то возможно возникновение очень стойкой, глубокой и обширной обиды, причем не только на маму, но и на всех остальных людей и даже на весь мир. Такими обидами занимаются современные теории привязанности (Дж. Боулби, Л.В. Петрановская) [16, 42]. Что интересно, в сообществах, где длительное теплое общение с матерью не считается необходимым, обида на отказ в удовлетворении этой потребности не возникает или, по крайней мере, не фиксируется надолго9.
Возьмем менее эмоциональный и идеологически нагруженный пример. Скажем, нам не с кем пойти в кино, мы зовем с собой друга, а он отказывается. Иногда это не вызывает обиды, а иногда бывает очень обидно. На наш взгляд, обида возникает тогда, когда нам хочется пойти в кино именно с этим человеком и когда есть убежденность, что, если мы близкие друзья, то должны ходить в кино вместе. И отказываясь, он не только берет под сомнение наш статус близких людей, свой статус близкого нам человека, но и ставит нас в неловкое положение – положение одиночки, которому не с кем пойти в кино. Опять же, если в обществе нет такого правила, что в кино ходят с друзьями, то обида может и не возникнуть. Есть примеры существенно проще, знакомые каждому. Представьте себе, что вы сильно устали на работе, едете домой, мечтая об отдыхе, предвкушая, скажем, ванну с пеной, которую вы недавно купили именно для такого случая. А тут такое – нет горячей воды. Кому-то станет просто досадно, но кому-то – обидно до слез. Отдых никуда не делся – мы дома, нет работы, времени достаточно. Но хочется именно в ванну с пеной. Другое не подходит! И обида наша огромна, причем не на какого-то сантехника, аварию – это слишком мелко для нашей обиды. В такие моменты мы говорим о «несчастной жизни», «гадской стране», «проклятом мире». На меньшее наша обида не согласна. Видимо, в некоторых случаях сама сила стремления и законность ожиданий кажется нам основанием для непременного исполнения желаний. И обиды, если ожидания не исполняются10.
ВВЧ: Вспомните ситуацию, в которой вы чего-либо ждете от конкретного человека и никак не можете согласиться на то, чтобы это дал вам кто-нибудь другой. А также ситуации, в которых чего-либо ждут от вас и не соглашаются на переадресацию. Откуда, на ваш взгляд, берутся эти ожидания?
Речь идет о взаимодействии, в котором один или оба участника не мыслятся обладающими всей свободой воли и влияющими на процесс и/или результат взаимодействия. В общем, это такое взаимодействие, в котором человек – скорее статист или орудие. Несубъектные взаимодействия бывают самых разных видов и уровней – от чисто физических (противовес на качелях) до строго социальных (трудовая единица, занятая в сфере психического здоровья). В современном мире предполагается, что человек – субъект и автор своей жизни, обладающий очень широкой свободой воли и отвечающий за последствия своих действия. Мы безусловно с этим согласны, но практика заставляет нас сделать несколько замечаний.
Полностью субъектное состояние и полностью субъектные отношения, на наш взгляд, невозможны, т. к. человек постоянно является и субъектом, и объектом одновременно. Например, если мы ведем совершенно искренний и открытый разговор с другим человеком, берем на себя ответственность за слова, за эффект, который они произведут, мы при этом не перестаем быть физическим телом с определенным весом, а также налогоплательщиком, единицей народонаселения и т. д. Здесь мы не будем вдаваться в сложные теоретические рассуждения на данную тему. Для психологической практики безусловно значимо следующее: человек в каждый момент времени вольно или невольно является участником довольно большого количества несубъектных взаимодействий. Это взаимодействие, в котором его свобода воли и его возможность влиять на результат в той или иной мере ограничены. Например, соглашаясь быть пассажиром метро, мы соглашаемся на значительное ограничение своей физической свободы и своего влияния на результат, но у нас есть очень серьезные и ясные ожидания в отношении результата – мы уверены, что доедем до определенной станции. Пассажира метро совершенно не интересуют самочувствие машиниста или размер ипотечных выплат начальника станции. И машинист, и начальник станции для пассажира существуют только в виде функции «машинист» и «начальник станции». Со своей стороны, «начальник станции» ожидает от «пассажира», что он будет стоять или сидеть смирно, честно оплатит проезд, не оставит после себя мусора и не испортит оборудование. Как человек машинист вполне может понять, что кто-то боится ездить в метро. Но функцию «машинист» не интересует, как функция «пассажир» борется со своими паническими атаками. Таким образом, несубъектное взаимодействие регулируется правилами и различного рода договорами, явными или неявными, формальными или неоформленными. Соответственно, при несубъектном взаимодействии обида возникает в следующих ситуациях.
Нарушение правил. Например: мы подходим к метро и видим, что дверь закрыта, первым делом мы испытываем обиду: «Как так?!». Такая обида легко переходит в гнев и столь же легко выражается во всем известной обсценной (нецензурной) лексике в адрес тех, кто управляет этим процессом, то есть властей разного рода.
Прямое нарушение соглашений, в том числе общественных. Например: официант отказывается обслуживать ваш стол просто так, без причины. Или приятель, с которым вы-таки договорились пойти в кино, опаздывает или вообще не приходит. Сила обиды в данном случае зависит от того, насколько нерушимым считается нарушенный договор.
Несовпадение внутренних описаний правил или содержания роли у участников взаимодействия. Например: подчиненный считает, что начальник должен заботиться о его эмоциональном состоянии, это входит в его обязанности. А начальник считает, что его обязанности – только следить за качеством и сроками выполняемой мной работы. Отношения «начальник–подчиненный» несубъектные, они не предполагают выяснения отношений, внутри них этот конфликт неразрешим. Для разрешения конфликта надо создать новый договор, для чего требуется перейти в субъектную позицию или использовать посредника.
Особый случай составляют несубъектные иллюзорные отношения. При них предполагается, что все члены сообщества, к которому мы себя причисляем, одинаково понимают определенные несубъектные отношения. Скажем, все считают, что воровать нехорошо или что стоит быть вежливыми.
Вот самый простой пример. Мы идем по улице в незнакомом месте, ищем кого-нибудь, кто покажет дорогу. Это конвенциальное, несубъектное взаимодействие, то есть взаимодействие, определяемое договором, в котором люди выступают носителями правил. Он мог бы звучать так: «Если на улице тебя вежливо спросили, как пройти в библиотеку на соседней улице, то твой долг вежливого человека и местного жителя – ответить честно, если знаешь, что ответить». Причем это взаимодействие с определенной долей риска, в нем мы опираемся на наши ожидания, что незнакомый человек будет вежлив и ответит нам на совершенно нейтральный вопрос. Мы выбираем того, кто кажется нам авторитетным, солидным и безопасным, безусловно соблюдающим правила – пожилую женщину интеллигентного вида, спрашиваем дорогу и в ответ слышим… мат. Возникает обида, часто очень сильная, с растерянностью и дезориентацией. Потому что действия женщины нарушают наши представления о том, как ведут себя «люди нашего круга».
Мы чувствуем себя жестоко обманутыми, потому что женщина выглядела как «своя», должна была быть безопасной, вести себя как положено, вежливо. Рациональных причин ждать от нее такого поведения, кроме ее интеллигентного вида, у нас, вообще-то, не было. Тем сложнее нам объяснить свою обиду и сложнее от нее избавиться. Переживания в ситуациях иллюзорного контакта или иллюзорных договоров для психологической практики составляют самую большую проблему – их не только сложно, но и рискованно анализировать. Изучая иллюзорные представления клиента, психолог неизбежно оказывается в роли обидчика, т. к. иллюзия от анализа разрушается, соответственно, в начале такой работы обиды множатся, а не сокращаются. Собственно, к ситуациям иллюзорного взаимодействия во многом можно отнести и само взаимодействие психолог-клиент. Слишком много нереалистичных ожиданий, непроясненных договоренностей, умолчаний и скрытых реакций. И не сказать, чтобы за это отвечал только клиент. Психологи тоже вносят свою долю в эту путаницу. Тем восхитительнее то, что мы все же друг друга понимаем!
Частным случаем иллюзорного взаимодействия является взаимодействие дефицитарное (когда в дефиците время или информация). Недостаток информации заставляет наш мозг дописывать, додумывать необходимую картину. В таких случаях наш образ собеседника и образ его действий упрощается почти до гротеска. Например, в чьем-то сознании понятие «иностранец» состоит из следующих определений: ничего не знает о России, богатый, все время улыбается. При таком образе иностранца встреча с хмурым, слегка оборванным специалистом по русской истории из Кембриджа может вызвать нешуточные переживания и обиды. Мы действительно часто обижаемся на тех, кого совершенно не знаем, просто потому, что они непохожи на «наших» и не соответствуют нашим, часто упрощенным и схематичным, ожиданиям.
ВВЧ: Вспомните, случалось ли вам сталкиваться с таким разрушением ваших иллюзий и что вы делали после этого?
Под субъектным взаимодействием понимается такое взаимодействие, в котором оба участника обладают свободой воли и влияют на процесс и результат взаимодействия. При отношениях субъект-субъект правила и даже договоренности играют меньшую роль, на первый план выходят само взаимодействие, его согласованность и единое межличностное пространство. Правда, полностью субъектные отношения встречаются редко. Обычно субъектные отношения – это часть конвенциональных отношений, писаных и неписаных договоров, например, супружеских, дружеских, отношений коллег, детско-родительских отношений и т. п.
В таких отношениях обида возникает тогда, когда партнер реагирует и действует не так, как мы ожидали.
Например: ребенок упал, ему больно, а мама, вместо того чтобы взять его на руки и успокоить, говорит «вставай»; или тот самый друг сказал, что в кино пойдет не с нами, а с друзьями из клуба.
Несовпадение ожиданий порождается самим фактом близости и существованием единого межличностного пространства субъектных отношений. Именно близость и единое пространство дают нам основания верить, что мы все понимаем одинаково, и тут же обнаруживать, что есть разница. Обида от несовпадения ожиданий – естественный эффект близости, искренности, понимания. Соответственно, обида – непременный спутник близких отношений. Вопрос только в том, как на нее реагировать.
ВВЧ: Как вам кажется, бывают ли такие отношения, при которых обида невозможна?
Глава 2. РЕАКЦИЯ ОКРУЖАЮЩИХ НА ОБИДУ
Реакция окружающих на непосредственное наблюдаемое событие * Реакция окружающих на рассказ об обиде * Отношение к обиде в обществе
POU STO Отношение окружающих к обиде представляется нам делом довольно загадочным. Исходя из нашей точки зрения, реакция группы или авторитетного члена группы – важнейшая составляющая целостного комплекса вина-обида и должна быть обращена именно на соблюдение правил, на поведение, укладывающееся в рамки свой-чужой. То есть реакция окружающих должна или подтвердить законность обиды, или дать понять обиженному, что его ожидания неоправданны и он неверно понимает правила. Таким образом, реакция группы должна выполнять функцию ориентации, легитимизации и поддержки. Фактически реакция окружающих должна завершить эмоцию обиды.
Здесь мы описываем прежде всего «реакцию группы», потому что считаем, что даже единичный наблюдатель при виде ситуации обиды реагирует как группа – в соответствии с правилами сообщества, к которому принадлежит.
С реакцией группы и членов группы на непосредственную демонстрацию переживания обиды есть несколько существенных проблем.
Реакция группы на обиду может быть непосредственной, когда группа («свои») является свидетелем всей ситуации. Тогда и группа, и отдельные ее члены реагирует в контексте ситуации, ориентируясь на собственные свидетельства. Непосредственные реакции ближе к действительности, дают меньше возможностей и времени для создания иллюзий и глобальных обобщений. Но даже здесь однозначность реакции нарушается, т. к. разные люди видят ситуацию по-разному, даже присутствуя при событии. Всем нам эта ситуация знакома по детективным сериалам, где мы потешаемся над попытками полицейских выяснить, какого цвета была машина, совершившая ДТП. Даже ясным днем в показаниях непосредственных свидетелей цвет машины варьирует от серого до красного. Что уж говорить о сложных морально-этических аспектах поведения.
Группа как коллективный носитель правил редко реагирует одновременно и слаженно.
Исключение составляют ситуации, в которых:
• группа небольшая, всем хорошо видно и слышно, все челны группы являются непосредственными свидетелями события (в одной комнате, на видеозаписи);
• группа достаточно однородная (группа детского сада, школьный класс, спортивная команда, бригада на производстве, комната в общежитии и т. п.);
• группа по каким-либо причинам не может разойтись, ее члены не могут уйти и пережить свои реакции вдали от обиженного и вынуждены реагировать на демонстрацию обиды немедленно и все разом.
Жестче и яснее всего реагируют группы, члены которой ограничены в праве ее покинуть немедленно. Для иллюстрации достаточно вспомнить собственный опыт или рассказы о пребывании в детских лагерях, на военных сборах, в коммунальных квартирах, офисных совещаниях и т. п. Тогда вокруг обиженного и обидчика часто возникает общая свара, а потом формируются коалиции в поддержку того или другого.
Группа в человеческом обществе практически всегда разноуровневая и может реагировать на нарушение правил прямо противоположным образом в зависимости от контекста. Например: офис может тихонько поддерживать собрата, обиженного на начальство, но вслух выражать полную солидарность с начальством, чем усугубляет боль и растерянность обиженного. В этом случае реакция группы сбивает с толку и умножает обиды.
Очень часто некоторые случаи объявляются группой частным делом двух ее членов, и она отказывается выступать носителем правил. Раньше подобное называлось соблюдением приватности. В таких случаях группа вмешивается лишь в том случае, когда участник приватных отношений обращается к группе за поддержкой, причем чаще всего через авторитетного члена, которому делегируется роль носителя правил – сельский староста разбирает семейные ссоры, воспитатель детского сада вмешивается в отношения детей, священник разрешает сложные морально-этические вопросы. При такой форме разбора обиде все еще есть место, ее можно демонстрировать, на нее адекватно реагируют – замечают, оправдывают или объявляют незаконной. Если такая система ломается, то обида «провисает», не разрешается, копится.
Группа вообще, как правило, реагирует прямолинейно и довольно однообразно. На сложные реакции способен только отдельный человек. Зато группа создает морально-этический фон и набор реакций, на который может ориентироваться отдельный носитель морали и нравственности.
В современном мире неопределенных и неоднозначных ситуаций становится больше, потому что законы общежития теряют жесткость, а жизнь усложняется. Мы все чаще обращаемся не за мнением группы или авторитетных людей, а за юридической защитой. К сожалению, понятие о справедливости и морали в лабиринтах закона потерять очень легко, а обида как повод для обращения там вообще не рассматривается11.
Чем больше неопределенности в обыденной жизни человека, тем чаще он оказывается один на один со своей обидой – без поддержки группы или близких, без ориентира на правильно-неправильно, без надежды завершить свою обиду. Всем известной иллюстрацией такого положения может служить ситуация с домашним насилием в тех случаях, когда оно не регулируется законом. Нежелание окружающих вникать в сложную и неопределенную ситуацию близких семейных отношений обусловлено не столько равнодушием и жестокостью, сколько инстинктивным пониманием неприменимости жестких однозначных правил к ситуации субъектного близкого взаимодействия в семье.
Если непосредственных свидетелей ситуации не было, тогда люди реагируют именно на рассказ о ситуации, на повествование, и вот здесь начинаются серьезные проблемы.
Создается ощущение, что рассказы об обиде изначально не предполагались, что все автоматические реакции должны происходить при непосредственном наблюдении окружающими событий обиды12 и участии в ситуации. Возможно, когда-то, у далеких предков, обида была жестко привязана к ситуации и, видимо, реакция должна была развиваться по схеме: действие обидчика – демонстрация обиды пострадавшим – автоматическое чувство вины или его отсутствие у обидчика – группа встает на сторону обиженного, заставляя обидчика принести извинения или искупить вину, или, наоборот, поддерживает обидчика и тогда разъясняет обиженному неоправданность его обиды. На этом инцидент завершался и вовне – восстанавливались отношения или обидчик изгонялся, и внутри – чувства обиженного и обидчика разрешались и уходили.
Очевидно, что в современном мире это не так. Межличностные взаимодействия происходят скрыто, без свидетелей, и, более того, огромная их часть разворачивается в поле иллюзорного, не физического, взаимодействия – в уме. Мы довольно редко можем предъявить другим собственно факт обиды. Хотя в последнее время, благодаря цифровизации нашей жизни, есть возможность предъявить съемку или переписку, но все равно контекст произошедшего придется объяснять, а он-то и составляет самое главное. Кроме того, обиды могут переживаться человеком в течение десятилетий, а рассказ порой следует лишь спустя годы после самого события.
В результате тот, кто рассказывает о своей обиде, часто не находит понимания и сочувствия. Например, рассказу об обиде, нанесенной в конкретной, нетиповой ситуации, сложно сочувствовать, потому что слушатель в отличие от рассказчика не питает относительно обидчика никаких ожиданий (это ведь не он заблудился и ждал помощи в поиске дороги от бабушки – «божьего одуванчика»). Но тот же слушатель вполне посочувствует рассказу об обиде, возникшей в типовой общей ситуации, например, в ситуации несубъектного взаимодействия (присоединится к обиде на чиновника, продавца или начальника).
Довольно часто рассказ о нанесенной обиде вызывает вовсе не сочувствие, а раздражение – оттого что ожидания рассказчика слушателем, не включенным в контекст ситуации, воспринимаются неоправданными, глупыми, незаконными. Но еще чаще над обидами смеются. Смех защищает слушателя от тяжелого переживания обиды, в которое не хочется погружаться, от боли, страха, гнева, растерянности. Он же позволяет увидеть ситуацию извне, увидеть то, что не видно рассказчику или даже найти решение ситуации. Таким образом, насмешка может помочь рассказчику, но довольно часто вызывает вторичную травматизацию, еще более глубокую обиду и одиночество. С точки зрения обиженного, смех слушателя поддерживает обидчика.
Можно сказать, что человеку, решившему поделиться своей обидой, очень сложно получить сочувствие и завершить свое чувство обиды, за исключением тех ситуаций, когда обида происходит в какой-либо понятной общесоциальной или общегрупповой ситуации (например, если бы в ситуации, когда мы с вопросом «Как пройти в библиотеку?» обратились не к бабушке, а к аккредитованному волонтеру с бейджем, поставленному на перекрестке, чтобы показывать дорогу). Возможно, поэтому при рассказе о нанесенной обиде люди часто стараются подстроить историю под общепонятный шаблон (обман, предательство, измены). Таким образом мы получаем сочувствие, но отрываем свои переживания от реальности и лишаемся шансов на истинное их понимание – как со своей стороны, так и со стороны собеседника. А непонятое, не выраженное, не высказанное другому чувство по закону незавершенного действия (гештальта)13 остается с нами надолго, если не навсегда.
Стоит сказать еще несколько слов об отношении окружающих и общества в целом к переживанию обиды. Наверное, нет другой негативной эмоции, которая в современном обществе вызывала бы столь единодушное осуждение, раздражение и осмеяние (политику и идеологию сейчас не берем). Самая частая реакция на детскую обиду со стороны взрослых и даже сверстников – осмеяние и «законное» издевательство: «На сердитых воду возят, на надутых – кирпичи». Слово «обиженный» даже служит в качестве эвфемизма для обозначения человека недалекого, незрелого, социально бесправного, а в уголовном жаргоне – для наименования жертвы сексуального насилия. Такая позиция общества создает определенный способ реагирования на переживания обиды у самого человека: заставляет его скрывать, вытеснять и подавлять обиду. Не получая реакции окружающих, люди лишаются шанса обогатить свой опыт, разобраться в новом контексте, новых ситуациях, научиться общаться с людьми другой группы. Более того, у нас есть подозрение, что отсутствие открытой реакции окружающих (группы, авторитетов, просто близких людей) ставит под сомнение само существование неписаных правил общежития, создающих контекст социальной жизни. Особенно это касается детей и детских групп.
Реакция общества, окружающих настолько важна и неоднозначна, что мы будем обращаться к ней специально в каждом разделе.
ВВЧ: Понаблюдайте, какие ситуации обиды наиболее характерны для вас, для вашего лучшего друга, для коллег по работе, для близких (мужа/жены, детей).
Глава 3. ПЕРЕЖИВАНИЕ ОБИДЫ
Собственно переживание обиды (эмоции). Взгляд изнутри * Переживание обиды. Взгляд снаружи на то, как обиженный выражает свои переживания * Проявления обиды
POU STO Итак, в ответ на нарушение правил другим человеком мы автоматически реагируем определенным образом: у нас возникают переживание обиды, экспрессия обиды и определенные действия обиды. Такие переживания динамично развиваются, перетекая одно в другое, взмывая и растворяясь. А еще они воспринимаются окружающими, и они, в свою очередь, на них реагируют, что является важнейшей частью переживания.
Необходимо сказать несколько слов об особенности переживания обиды. Обида, как и вина, даже в большей степени, не тускнеет со временем. Могут пройти десятки лет, а обида помнится, как будто она случилась только что – так же ярко, всеобъемлюще, больно. Наверное, именно поэтому мы считаем обиду детским чувством – потому что даже не вспоминаем детские обиды, а с ходу погружаемся в них и чувствуем себя теми детьми, которые когда-то горько плакали и всем своим существом переживали несправедливость.
Наше описание переживания отличается от канонического, включая не только эмоции, но и телесные реакции, поведение, мысли и даже умозаключения. Нам важно максимально полно описать весь феномен переживания, не деля его на части. Кроме того, обиду как непосредственную реакцию на нарушение правил вполне можно отнести к пиковым переживаниям, а они часто (а может быть, и всегда) включают в себя еще и измененные состояния сознания, внутри которых все сливается и перемешивается.
Вихрь эмоций
Как правило, для обиды характерно не одно конкретное переживание, а сразу вихрь эмоций, которые в более или менее развернутом виде представляют примерно такую цепочку:
• Шок («Как так?!»).
• Растерянность («И что теперь?»).
• Возмущение («Как так можно?!», «Со мной так нельзя!»).
• Обида («Я с тобой больше не играю!», «Я тебе больше ничего не дам!»).
• Досада («Ну вот, опять неприятности!»).
• Стыд («Со мной что-то не так…»).
• Испуг («Мамочки! Напали!»).
• Сомнение и страх утраты, обращенный в будущее («Неужели в этих отношениях / в этом обществе больше ничего не будет?»).
• Сомнение и страх утраты, обращенный в прошлое («А было ли что-то хорошее вообще в наших отношениях?»).
• Гнев («Щас как дам!»).
• Злость («Ну, я ему покажу!»).
• Чувство вины («Как я это допустил?!»).
• Ужас («Все?!»).
Необходимо упомянуть еще более сильное переживание (которое мы назовем экзистенциальным ужасом), нередко возникающее в результате шока и глобального одиночества, вызванного ощущением утраты связи с социумом. Основная его характеристика – ощущение глобальности всех переживаний и фатальности, бесповоротности происходящего. Словами его выразить трудно, хотя бы потому, что оно обычно очень кратковременно и до вербальных форм просто не доживает, но оно может быть выражено следующей фразой: «Все, больше ничего не будет».
Горькая сладость
Невозможно обойти вниманием еще одну уникальную особенность переживания обиды – ее несомненную сладость. Говоря о сладости, мы имеем в виду трудно уловимую, но, несомненно, положительную часть обиды. Каждому знакомо то гордое ощущение «я обиделся», с которым ребенок поворачивается спиной к взрослым и уходит или стоит, ожидая их реакции. В такой момент его ощущение своей исключительной правоты и праведности, этического превосходства настолько сильное, что он в состоянии покинуть взрослых, он считает себя сильнее. Если точно припомнить какие-либо ситуации детской обиды, что довольно сложно, потому что обычно это обида до семи лет, то можно ощутить то состояние этического торжества, когда: «Я решаю, что такое хорошо, и что такое плохо, а вы – плохие и глупые, потому что ведете себя неподобающим образом. А раз вы плохие и глупые, значит, я хороший и умный»15. Ребенок, безусловно, мысленно не произносит таких слов, но если понаблюдать за детьми, то этот миг, когда обидевшийся ребенок находится на пике «нравственной высоты», виден очень хорошо. – ребенок полон сил и отваги и способен на поступки с далеко идущими последствиями (например, «по-настоящему» уйти из дома). Вероятно, горькая сладость – это еще одно обеспечение функций обиды, побуждающее человека изучать правила и жить по правилам. Может быть, эта сладкая часть обиды является непосредственным вознаграждением за охрану правил общежития, за то, чтобы «жить по совести», а, возможно, и анестезией, позволяющей переживать шок.
Взрослые, как правило, в такой момент больше упиваются праведным гневом – особым видом гнева, который представляется человеку «законным», этически оправданным. Ему можно отдаваться без ограничений и без последующего чувства вины.
Дети и взрослые могут в момент обиды переживать еще и жалость к себе. На наш взгляд, она входит в набор врожденных, социально значимых эмоций. Жалость позволяет нам самостоятельно исцелить некоторые раны, позаботиться о себе.
Непосредственная эмоциональная реакция на человека, который обижается рядом с нами, очень эмоциональная и довольно сложная по составу. Невозможно остаться равнодушным, находясь рядом.
Видя, как кто-то обижается на нас, мы испытываем в ответ вину, возмущение, раздражение, гнев, довольно часто – сильный агрессивный импульс. Обиженного хочется пнуть, стукнуть, встряхнуть. Видимо, это сложная реакция: во-первых, на обрыв контакта, во-вторых, автоматическая реакция на собственную обиду, которая является частью вины, в-третьих, стремление выровнять позиции и сбросить обиженного с пьедестала «нравственного эталона».
Наблюдая, как кто-то обижается на кого-то или рассказывает нам про свою обиду, то мы тоже испытываем сильные чувства. Первым возникает автоматическое ощущение вины, а затем сложная смесь чувств, в которой превалируют раздражение и гнев. Мы попеременно испытываем гнев то в отношении обидчика, то в отношении того, кто обижается. Нам не нравится, что нас вовлекают в этот поток автоматических реакций. Из-за гневной окраски реакции нам сложно сочувствовать. Гораздо легче сказать обиженному, что он сам виноват. В немалой степени эти агрессивные чувства поддерживаются внутренним ощущением того, что мы не можем вылечить его боль, потому что это обязанность обидчика. Это он должен просить прощения и возмещать ущерб, это его, а не нас, обиженный может простить, это ему он будет, а может, и не будет мстить.
Безусловно, в таком, скажем так, подробном виде реакцию на обиду мы осознаем нечасто. Смена эмоций и мыслей, их чередование происходит очень быстро, почти мгновенно, в свернутом виде. Полный перечень этих переживаний доступен, в основном, профессиональным свидетелям обиды (психологам, психотерапевтам, юристам, медиаторам, руководителям, режиссерам и т.п.), которые владеют техниками «медленного наблюдения»16. В данном случае мы хотели подчеркнуть почти автоматический характер агрессивной реакции на обиженного человека, которая вызвана по большей части нежеланием присоединяться к боли, а выражается обычно в «сам виноват». Такая реакция, естественно, не помогает ни обиженному, ни обидчику.
ВВЧ: Какие из описанных эмоций для вас наиболее знакомы? Что явилось новостью? Какие ощущения наиболее характерны для вас, когда вы наблюдаете за обиженным близким или, наоборот, за незнакомым человеком?
Невербальная экспрессия обиды * Вербальная экспрессия обиды. Взгляд снаружи (реакция обидчика, реакция наблюдателя) * Действия обиды. Взгляд изнутри (обрыв контакта, изоляция, ответное нападение, обвинение). Взгляд снаружи (реакция на обрыв контакта, на нападение, на обвинение) * Атрибуты экспрессии обиды
POU STO В данном случае экспрессией мы называем вербальное и невербальное выражение обиды. Обида может выражаться прямо и непосредственно в момент события, вызывающего обиду, может быть сдержана, скрыта, подавлена, отсрочена.
Невербальная экспрессия обиды
Мимика обиды двойственная – наполовину зажатая, наполовину агрессивная. Видимо, именно это обстоятельство долгое время поддерживало представления об обиде как о подавленном гневе. Выше мы писали, что в ситуации обиды возникает множество разных эмоций, соответственно, мимика в момент переживания и в последующих воспоминаниях об обиде может быть многообразной, отражающей вихрь эмоций. Существует врожденная мимика обиды: надутые губы, нахмуренный лоб, наклон головы («рогами вперед») и взгляд исподлобья. Наиболее ярко выраженной полную мимику и пантомимику обиды можно наблюдать у детей до пяти лет – они надувают губы, нахмуривают лоб, опускают голову, резким движением скрещивают руки на груди кистями вниз, локтями вверх и отворачиваются от обидчика. Также характерны: мимика удивления, возмущения, страха, слезы, жалкая улыбка, ищущий взгляд – они могут относится к моменту растерянности и шока.
У взрослого человека телесное выражение обиды привычно подавляется и распознать обиду бывает сложно (в этом случае она совершенно теряет смысл как демонстрация ради реакции окружающих). Соответственно, мимика бывает стертая и относится скорее к гневной или растерянной. Телесно обида может выражаться в затруднении дыхания, напряжении горла, шеи, плеч, спазмах внизу живота, в тихом, тонком – детском – голосе, зажатой фиксированной позе, вегетососудистых реакциях (побледнение-покраснение, повышенное давление). И, конечно, в стремлении отвернуться, обозначенным иногда реализованным, иногда только намеченным поворотом или наклоном головы или просто судорожным подергиванием подбородка. Наверное, можно сказать, что для обиды в целом характерны фиксированность и напряженность мимики и позы, и это отражает основную суть обиды – обрыв контакта, демонстрацию своих переживаний17 и ожидание реакций обидчика и сообщества.
Вербальная экспрессия обиды
Проявления обиды
Выше мы уже попытались составить список коротких фраз, которые могли бы соответствовать разным эмоциям, характерным для переживания обиды. Здесь стоит только добавить, что для вербального выражения обиды больше всего характерны (кроме рассказа о действиях обидчика) быстрые смены фраз, выражающих обиду и вину, постоянные перескоки с себя на обидчика, с обидчика на себя. И вообще характерно недоговаривание фраз, постоянное повторение одних и тех же слов, некое хождение по кругу. Например, такие фразы: «Как он мог?!», «А я куда смотрел?!», «Ну как же так можно?», «Он же обещал, так ведь нельзя!», «А я, дурак, повелся…», «Все, никогда больше!», «Я к нему больше не подойду». Такая пляска мыслей сильно затрудняет анализ и самоанализ.
ВВЧ: Что вы знаете о том, как ваша обида проявляется в лице и в позе? Как бы вы предпочли, чтобы окружающие реагировали на вашу обиду?
Реакция обидчика
Реакция обидчика на выраженную обиду может быть разной. Если обида произошла случайно, не было намерения обижать и хочется восстановить отношения, то демонстрация мимики обиды будет вызывать у него автоматическое чувство вины, стремление приблизиться, не дать увеличить дистанцию и разорвать контакт.
Если обидчик уверен, что он прав и считает обиду неправильной, то он будет предпринимать действия, направленные на то, чтобы обиженный перестал демонстрировать обиду («Прекрати», «Что ты надулся!», «Не обращай внимания на мелочи»). А еще он станет возмущаться, если обиженный будет по-прежнему демонстрировать обиду. Наблюдение за обиженным в этом случае не доставляет обидчику удовольствия.
Необходимо выделить отдельно случаи, когда смысл поведения обидчика – вызвать обиду. Например, когда группа детей дразнит одного. В этом случае они объединяются против «чужого», и, с их точки зрения, он должен переживать обиду – плакать, кричать, надуваться, отворачиваться. Потому что он ошибочно принимает их за своих. Пока тот, кого дразнят и обижают, обижается, он безопасен для обидчика. Потому что суть обиды – демонстрация, а не нападение. По сути, обида обессиливает обиженного. Обиженный становится опасен только тогда, когда перестает обижаться и начинает злиться. Именно поэтому дети стараются вызывать именно реакцию обиды.
Точно такое поведение мы можем увидеть и у взрослых, которые из интереса, для развлечения, в каких-то манипулятивных собственных целях стараются именно обидеть партнера. И тогда, естественно, наблюдая экспрессию обиды, чувствуют удовлетворение.
Реакция наблюдателя на яркое выражение обиды
Когда мы видим яркую реакцию в ситуации, к которой непричастны, то чувства и реакции неоднозначны. Довольно часто мимика обиды (надутые губы), поскольку она подчеркнуто детская, у взрослых вызывает автоматическую реакцию умиления. Что не мешает всем нам раздражаться, пугаться, возмущаться, ощущать вину и обижаться в ответ. Частично мы заражаемся ярко выраженными чувствами, частично они возникают в ответ. Это и автоматические реакции, и привычные нам личные способы переживания и поведения, и те, к которым мы присоединяемся, если рядом кто-то реагирует более ярко, быстро и авторитетно. Яркий эмоциональный и сложный ответ окружающих довольно часто мешает исследованию ситуации и разрешению конфликта. Например, реакция умиления у свидетеля обиды в ответ на выраженную обиду людей старше десяти лет может повергнуть в ярость, и обида рискует перейти в гнев и даже драку, но уже с наблюдателем. Кстати, побить свидетеля моей обиды как-то очень естественно, поскольку свидетель представляется существенно менее опасным, чем обидчик, его бить не так страшно. В отношениях со свидетелем нет обездвиживающего, обессиливающего влияния обиды. На него удобно выплеснуть гнев и возмущение.
Одной из самых неприятных, заводящих ситуацию в тупик, реакций на проявление обиды являются ирония и смех. Если опираться на теорию возникновения смеха, как обезболивания, то его появление очень понятно. Смех не дает вовлечься в довольно тяжелые чувства. Не дает развиться боли и гневу у наблюдателей. Зато он усиливает и множит обиду у того, над кем смеются. Для него фигура обидчика разрастается, вбирая в себя насмешников.
ВВЧ: Какие внешние проявления обиды кажутся вам смешными? Какие позы и выражения лица вызывают у вас автоматическую реакцию, то есть всегда вызывают определенные чувства?
Действия обиды (действия, поведение, включенные, «встроенные» в целостный механизм обиды как части механизма определения «свой–чужой»)
Взгляд изнутри
– Обрыв непосредственного контакта с партнером при сохранении психологической связи.
Обидевшись, мы отворачиваемся от партнера, уходим, явно или неявно показывая, что мы обиделись. Особенность такого обрыва контакта состоит в том, что мы ждем реакции обидчика – начиная с того, что он побежит за нами с извинениями и утешением и заканчивая ожиданием приговора суда над ним. Все то время, пока обижены – от нескольких минут до десятков лет – мы помним об обидчике, находимся с ним в связи. Мы всегда готовы предъявить ему наши обвинения.
– Изоляция.
Обидевшись и не дождавшись от обидчика положенных действий, мы решаем, например, что такую обиду прощать нельзя, и никакие действия обидчика не искупят нанесенного вреда. Это решение может быть принято через несколько секунд, но может быть и не принято никогда. Всем нам знакомы люди, которые обижаются сразу и, что называется, насмерть, у которых бессмысленно просить прощения. Такие люди, обидевшись, становятся просто недоступными для контакта. Они как бы окукливаются и некоторое время пребывают в отрыве – не только от обидчика, но и вообще от общения. Иногда изоляция может прерываться какими-нибудь эмоциональными всплесками, вызванными стремлением донести свою обиду до обидчика. Причем даже «окуклившись», обиженный ждет «правильных действий» от обидчика или от окружающих и не может прекратить ждать, пока обида не пройдет. Но обида не проходит сама, потому что действительно требует совершенно определенных действий или от обидчика, или от социума, или от обиженного. Как следствие, в изоляции обиженный оказывается крепко связанным с обидой и обидчиком без надежды на разрешение.
– Ответное нападение или нападение в ответ на нанесение обиды.
Это действие, вызванное в основном гневом, который переносится, по-видимому, гораздо легче, чем растерянность, вина и одиночество. Поэтому гнев довольно часто подменяет обиду, заменяет ее, служит «хорошим» (эффективным, но дорогостоящим) средством выхода из изоляции. «Праведность» обиды служит дополнительным разрешением для демонстрации гнева и во многих случаях позволяет перейти к агрессивным действиям. У детей обида очень часто выливается в физическую агрессию в отношении обидчика. Учитывая, что физическое насилие является частным случаем физического контакта (existedu.ru) [1], оно реально позволяет восстанавливать отношения с обидчиком, не «окукливаясь» и не изолируясь. С точки зрения современного социума, это, конечно, неправильно. Но с точки зрения близких отношений в стае вполне функционально: подрались и тут же помирились. «Если вы шимпанзе – помириться легко» (Р. Сапольски) [49].
– Обвинение в ответ на обиду.
В отличие от демонстрации обиды и ожидания реакции, обвинение – активное действие и физически переносится существенно легче, потому что не требует затрат энергии на сдерживание, фиксацию, которые, по данным нейрофизиологов, значительно превышают затраты на само действие. Но в первую очередь, обвинение – это естественная реакция, потому что проистекает из самой сути обиды как действия, участвующего в регуляции отношений «свой-чужой». Это попытка вызвать вину у обидчика, а значит, заставить вести его себя «правильно», в соответствии с моими ожиданиями от члена моей стаи, то есть снова сделать его «своим». За примерами далеко ходить не надо: каждый может вспомнить свое желание кого-либо обвинить в момент переживания обиды или досады. Например, в ссоре – мы всей душой стремимся обвинить другого, вызвать у него чувство вины, и тем облегчить себе примирение. Недаром самое большое количество обвинений мы получаем от самых близких людей: детей, супругов и родителей. Обвинение, безусловно, является наиболее быстрым (как и физическое насилие) способом удостовериться в близости наших отношений. Если он чувствует вину (извиняется, оправдывается, ищет способ загладить вину) – значит, он свой.
Но с точки зрения более отдаленной перспективы отношений между людьми обвинение вызывает слишком многообразные и плохо контролируемые последствия. Недаром во многих культурах есть даже специальные формы обвинения, предполагающие обязательные ответные действия обвиненного. В современном обществе этим занимается суд и аналогичные организации. Что лучше – традиционные ритуалы обвинения-извинения-искупления или судебная процедура – мы не знаем. Наверное, зависит от ситуации.
Взгляд снаружи
Здесь мы не будем делить описание на взгляд обидчика и наблюдателя, потому что выше уже почти все описано.
Обрыв контакта вызывает три типа реакции:
• Побежать, утешить, объяснить, что не хотели обижать, извиниться.
• Ответную обиду и обрыв контакта со своей стороны («Ну и уходи»). Возможно, где-то в глубине души или мозга мы вместе с нашими предками считаем, что обрыв контакта сам по себе является нарушением правил общежития. И обижаемся, когда собеседник отворачивается.
• Удовлетворение состоянием обрыва контакта (если именно в этом состояла цель). Так довольно часто ведут себя подростки в отношении мам. Сказать матери что-нибудь такое, чтобы она глубоко обиделась, для подростка означает обеспечить себе несколько часов или даже вечеров без нотаций, нравоучений и расспросов. Мама думает, что, не общаясь, она выражает обиду и наказывает ребенка, а подросток в этот момент блаженствует в тишине.
Как правило, последующая самоизоляция обиженного вызывает у окружающих гнев, агрессию, страх и растерянность. Причем в отношении изолированного человека могут быть еще реакции жалости и отвращения. С точки зрения нейрофизиологии отвращение – это реакция на чуждость (Р. Сапольски) [49]. Соответственно, для отношений отвращение наиболее опасно, потому что хорошо запоминается, быстро закрепляется и имеет неявное, неосознаваемое содержание18.
Нападение вызывает вполне естественные реакции – гнев и агрессию, а также страх и растерянность.
А вот обвинение может вызывать ту самую автоматическую реакцию, на которую оно и рассчитано: если обвиняющий убедителен (по существу или эмоционально), то возможно возникновение автоматических вины и стыда. Вина и стыд у некоторых (многих!) людей могут быть привычными реакциями на обвинение, возникающими в любом случае, независимо от ситуации.
Об этом речь пойдет позже. Здесь важно лишь упомянуть, что указанные действия обиды запускают сильные, малопредсказуемые и плохо контролируемые реакции у окружающих. Последствия таких реакций, уже не связанные непосредственно с ситуацией и фактом обиды, далее могут существовать самостоятельно как вина и стыд, возникающие автоматически – в определенной ситуации, при обсуждении конкретных тем. Осознать, откуда они взялись, очень сложно. Например: большинство из нас стесняется громко кричать, когда кругом люди. Каждый из нас может воспроизвести ощущение неловкости в ситуациях, когда говорим громче положенного или даже кричим. Но вряд ли мы можем вспомнить истоки данного ощущения. Хотя можно предположить, что оно зародилось в ситуациях из детства – или в детском саду, или в начальной школе, или в семье.
ВВЧ: Какие действия обиды характерны именно для вас? Как на них реагируют окружающие? Как вы сами склонны реагировать на описываемые выше действия?
Атрибуты экспрессии обиды
Завершая описание переживания обиды, мы хотим подчеркнуть, что атрибутами, (неотъемлемыми свойствами) переживания обиды являются:
• вихрь эмоций, центром которого является возмущение;
• ощущение фатальности и глобальности (в норме как на короткое время, так и до нескольких часов);
• автоматический характер возникновения в определенных ситуациях. До раннего подросткового возраста обида не рефлексируется, она и возникает, и разворачивается полностью автоматически, напоминая при этом базовую стрессовую реакцию («бей, беги, замри») и по рисунку переживания, и по действию19. Человек старше подросткового возраста обижается тоже автоматически, однако может осознанно решать, продолжать ему обижаться всерьез или нет. Но такое возможно только в отношении не очень важного, того, что не воспринимается угрозой существованию личности.
Пока мы люди, мы не можем равнодушно наблюдать обиду человека. Если нам все равно, когда кто-либо кого-либо обижает, значит, кто-то из участников ситуации – не человек.
Глава 4. ФУНКЦИИ ОБИДЫ
Основная функция обиды и ее проявления (сигнал о нарушении правил, выявление принципиально чужого, похожего на «своего», способ обратить на себя внимание обидчика и группы, способ вызвать у обидчика определенное поведение, последнее средство слабого против сильного * Способ почувствовать себя равным с обидчиком* Способ сделать субъектным несубъектное взаимодействие * Более локальные, индивидуализированные функции (обеспечение паузы, средство самопознания, средство самообучения, альтернатива гневу и агрессии, компактная машина времени)
POU STO Под функцией мы понимаем полезное для выживания индивида действие. Функции психического феномена могут быть самые разные – универсальные, ситуативные, инструментальные, стратегические, тактические, используемые постоянно или временно. Только необходимо помнить, что функции психического феномена не стоит оценивать с точки зрения этики, принятой в данное конкретное время в данном конкретном сообществе. То, что кажется нам неправильным, инфантильным, недопустимым, нечестным и т. п. вполне может оказаться необходимым для выживания или вообще не тем, чем кажется. Например, прогулы школьных занятий у младших подростков, по данным статистики, примерно в 20% случаев вызваны не желанием похулиганить или ленью, а повышенной потребностью в кислороде. При обследовании у таких прогульщиков довольно часто диагностируют проблемы с сердцем.
При поиске и анализе функции необходимо как можно дольше придерживаться безоценочного феноменологического подхода. Это сложно, но в общем возможно. Функцию любого психического явления можно рассматривать, как минимум, с четырех позиций.
С точки зрения интересов существования группы и социума – например, желание быть похожим на других (быть «своим») и соответствующее ему поведение человека существенно упрощает внутригрупповую ситуацию и делает способ управления группой менее грубым и в какой-то степени полуавтоматическим.
С точки зрения сугубо индивидуальной «внутрипсихической» ситуации – желание быть похожим на других может быть существенным двигателем определенного поведения (конкурентного или конформистского); мерилом в процессах самооценки (когда самооценка ставится самим индивидом в зависимость от степени собственной похожести или непохожести на других); мотивацией для обучения; способом получения определенных благ и т. п.
С точки зрения регулирования способов взаимодействия между индивидом и социумом – например, непреодолимое желание просмотреть утром новости своих друзей, безусловно, является вкладом в осознание человеком своей позиции внутри референтной группы и может помогать ему быть похожим на других, но явно этого не демонстрировать. Такой способ взаимодействия с социумом можно назвать замаскированным конформизмом.
А можно еще вычислить функцию психического явления с точки зрения достигнутого результата. Проанализировать, что получает человек в результате реализации конкретного поведения, какой смысл он вкладывает в полученный результат.
Основная функция обиды – неагрессивная реакция на нарушение правил «своим», сигнализирующая нарушителю и группе о том, что, с точки зрения обиженного, правила были нарушены. В отличие от агрессивной реакции обида дает возможность обидчику или группе восстановить равновесие, извинившись или восполнив вред. Реакция группы должна подтверждать правоту обиженного или обидчика и, соответственно, законность или незаконность обиды.
Основная функция очень многогранна и многозначна. Она по-разному проявляется в разных обстоятельствах. Имеет смысл рассмотреть отдельно наиболее часто встречающиеся проявления.
Сигнал о нарушении правил
Данная функция не требует особого пояснения, т. к. совпадает с основной, но необходимо отметить, что этот сигнал часто бывает неосознанным, странным, почти подпороговым20. Нам кажется, что немалую часть обид, которые окружающие относят к «иррациональным», составляют как раз обиды в ситуациях, когда правила нарушаются неявно или негрубо. Например, в многочисленных ситуациях нарушения неявных обещаний. Нам обещают «не обидеть» при расчетах, а платят существенно меньше, чем мы надеялись. Такие обиды мы помним особенно долго, потому что сочувствия от окружающих не дождешься – сам ведь виноват, не прояснил условия. Более сложная ситуация, когда подруга-красавица говорит своей подружке: «Ну наконец-то ты накрасилась. Выглядишь как человек». Звучит как похвала, но какая-то обидная. Этакое двойное послание – похвала-насмешка, а ведь дружеские отношения не предполагают насмешек и оскорблений. Это нарушение правила «так ведут себя друзья».
Сложнее дело обстоит в ситуациях неоднозначных, игровых, многоплановых, в которых сплетаются многочисленные разноуровневые правила. Представьте себя на роскошном застолье, в конце которого предполагается исключительный торт. Людей много, но должно хватить на всех. Вы твердо намерены попробовать торт: ждете десерта, отказываетесь от многочисленных деликатесов на этапах закусок и горячего – бережете место в желудке, ресурсы печени и разрешенных калорий. Вносят торт. Он прекрасен, полностью отвечает вашим ожиданиям, неимоверно соблазнителен. Его начинают резать. Мысленно вы намечаете для себя вон тот кусочек с необычным украшением, которое вам очень хочется попробовать. И тут некто шустрый кидается к торту, подхватывает «ваш» кусочек и сжирает его на ваших глазах. Вам обидно. Очень. Возможно даже до слез. Но такую реакцию приходится сдержать и затолкать подальше, чтобы никто не увидел. Потому что предъявить-то для жалобы нечего. Правила слишком размыты и многообразны. На нарушение какого правила вы среагировали? «Надо всем раздавать еду по очереди», «надо спрашивать, кто какой кусочек хочет», «нельзя хватать без спросу», «надо давать мне то, что мне хочется»? Определить нарушенное правило, выбрать из множества – совсем нетривиальная задача, но без ее решения не сформулировать жалобу для окружающих, не сделать обиду явной и понятной. Какое поведение должна осудить группа? Именно в таких ситуациях трудно получить ее однозначную поддержку. А обида настоящая, сильная, стойкая, потому что ее невозможно обсудить, и она подрывает ощущение знания правил, по которым происходит жизнь в нашем сообществе, подрывает уверенность в себе. Она сигналит о потенциальной опасности для нас – если подобное будет повторяться, мы будем часто испытывать чересчур сильные эмоции и рискуем навлечь на себя опасные реакции сообщества! Для того, чтобы с этим справиться, нужно или изменить свои ожидания, или изменить правила сообщества, или (самый радикальный вариант), уйти из данного сообщества.
Психологи в силу своей профессии вообще против того, чтобы чрезмерно и длительно подавлять эмоции, но сигнал из разряда «почему-то мне обидно, а почему, не понимаю» требует особого внимания и анализа. Потому, в частности, что обида имеет свойство накапливаться. Практика показывает, что множество мелких обид, не проясненных, оставленных без облегчения и решения, имеет свойство спрессовываться и формировать особую готовность обидеться в любой момент по любой причине, даже совсем незначительной. Работать с такой спрессованной обидой очень сложно, поскольку человеку почти невозможно вспомнить все эти ситуации и последовательно их проанализировать. Лучше реагировать на такие сигналы сразу, в момент возникновения смутного чувства «что-то мне обидно».
Выявление принципиально чужого, похожего на «своего»
Мы довольно редко пользуемся таким способом осознанно. Но если мы обижаемся на человека, которого считаем своим, а он категорически не понимает, о чем мы пытаемся сигналить, и на нашу обиду реагирует не чувством вины, а равнодушием или смехом, то мы невольно (автоматически) начинаем сомневаться в том, что он «свой». Маскировка «под своего» – одно из самых распространенных средств манипуляции. Например, нам говорят: «Вы – самый лучший!», и мы тут же ощущаем говорящего «своим» – он ведь так хорошо нас знает, думает так же, как мы, чувствует так же, и вообще явно хорошо понимает не только нас, но и всю эту жизнь. А потом тот же человек заявляет: «Выполните, пожалуйста, тестовое задание, чтобы мы могли решить вопрос с категорией по зарплате». Нам становится страшно обидно, потому что первое противоречит второму: зачем же меня проверять, если я «самый лучший»? Наниматели в данном случае притворяются «своими», а потом ведут себя как «чужие» в расчете на растерянность, шок и неспособность быстро и обоснованно отреагировать на сложную ситуацию. Ну или просто не понимают ничего в эмоциональных реакциях, не предполагают, что они могут возникнуть.
Способ обратить на себя внимание
Очень эффективный способ, потому что задействует автоматические механизмы. Нарушение правил общежития и, как следствие, выпадение из круга «своих», по-видимому, очень важно для выживания группы, раз оформляется автоматическими психофизиологическими реакциями. Поэтому на человека, демонстрирующего яркую обиду, обязательно будет обращено внимание не только членов его группы, но и всех людей, в чьем поле зрения он находится. Последующие действия могут быть разными, но внимание ему обеспечено. Нужно сказать, что человек может не всегда осознанно использовать свою обиду таким образом, особенно если он не совсем взрослый или находится в одной из ситуаций, описанных выше. Прежде чем осуждать его за манипуляции, хорошо бы вначале понять, в чем дело, почему и зачем он выбирает столь обоюдоострое оружие. Родителей и педагогов часто удивляют дети, предпочитающие негативное внимание равнодушию. Такие дети готовы получить любое наказание, лишь бы их заметили, выслушали, занялись ими. Лишь бы почувствовать себя среди «своих». Родители и педагоги охотно их ругают, лишают сладкого, прогулок и компьютера, и очень удивляются тому, что шалости не только повторяются, но и становятся все изощреннее, обиднее. Негативное внимание, похоже, не насыщает потребность. Это способ обратить внимание, но и только. Вслед за негативным должны следовать позитивное, истинное внимание и сочувствие – только они позволяют почувствовать себя «своим» и насытить подобный голод, вылечить одиночество и страх.
Способ вызвать у обидчика определенное поведение (чувство вины, извинение, искупление), показывающее, что обидчик все-таки «свой»
Хорошо действует только в родительско-детских отношениях. Иногда еще на супругу или супруга или очень близкого друга. В основе эффективности этого способа лежит общая система сигналов и обширные, глубокие знания о том, чего, собственно, добивается человек, демонстрируя обиду: чтобы мама взяла на руки, папа поиграл, бабушка дала конфету, мама помогла с уроками, папа дал денег на кино и т. п. Будучи взрослыми, мы, как правило, переоцениваем возможность влиять на поведение других людей с помощью автоматических реакций. Мы не учитываем, что с возрастом лишились внешних признаков «детскости», усиливающих автоматические реакции взрослых (К. Лоренц) [33].
Одно дело – обратить на себя внимание, и совсем другое – вызывать определенное поведение. Мы все знаем, что, даже испытывая чувство вины, мы совершенно не обязательно извиняемся, не говоря уже об искуплении и возмещении вреда. В наше время правила, определяющие поведение «своих» настолько многообразны, неопределенны и зависят от контекста, что даже ближайшие «свои» могут среагировать на наши сигналы совершенно неожиданным для нас образом. Например, получив от ухажера букет цветов, девушка демонстрирует обиду. Предположим, ей показалось, что цветы дешевые или недостаточно красивые. В ее представлении ухажер должен дарить ей розы на длинных стеблях, числом не менее 15 (видимо, девушка очень молодая и неопытная). Так что, получив букет ромашек, она чувствует себя уязвленной в самое сердце. С ее точки зрения, заметив ее оскорбленное лицо и позу, молодой человек, если он ее любит, должен тут же все понять, выбросить ромашки в урну и помчаться за розами. Со своей стороны, молодой человек, в силу влюбленности внимательный и чуткий, безусловно замечает ее обиду, но никак не может связать это с качеством букета, на поиски которого он потратил время и усилия. Ведь его мама, например, считает ромашки самыми романтичными цветами, в отличие от стандартных букетов. Поэтому молодой человек в данном случае будет чувствовать себя смущенно и неловко, но ему и в голову не придет побежать за розами. Несмотря на размытость подаваемых сигналов, такая функция демонстрации обиды используется очень часто и на нее весьма полагаются взрослые люди в близких отношениях, причем одинаково как мужчины, так и женщины. Что вполне понятно, ведь когда-то в отношении родителей данная функция работала достаточно хорошо.
Последнее средство слабого против сильного
Обида – последнее средство слабого против сильного, способное обеспечить ему внимание и помощь и останавливающее агрессию. Технически такая функция никак не отличается от вышеописанного способа влиять на обидчика с помощью демонстрации обиды. Так же, как при целенаправленной манипуляции, действительное переживание обиды в данном случае необязательно. Достаточно проявить обиду ярко и ориентироваться при этом именно на этого «сильного». Действует средство только в том случае, если сильный и слабый безусловно являются «своими» – ведь жизненно важно, чтобы твою мимику и позу прочитали правильно, и в ответ возникла «правильная» реакция. На чужого демонстрация обиды не подействует. Каждый родитель знаком с ситуациями, когда ребенок, даже просто угрожая «обидеться», останавливает любые самые жесткие воспитательные действия родителей (в то время как находящийся в подобной ситуации «чужой» взрослый совершенно не реагирует на такие сигналы). По сути, это манипуляция, но не стоит поспешно осуждать детей и принимать решение не поддаваться. У слабого «члена стаи» должно быть средство не дать сильному нанести себе вред, иначе у сильного не будет иных ограничителей, кроме физического подавления. Чувство вины и жалость к обиженному в ответ на демонстрацию обиды – существенно более тонкий и безопасный инструмент регуляции и прекращения агрессии, чем драка или запугивание. Каждый родитель знает, насколько сильно могут выводить из себя дети. Маленькие – криком, упрямством и проказами. Большие – наглостью, глупостью, упертостью, попытками соперничества… Список бесконечен. Чем ближе и теснее отношения, чем больше родитель обеспокоен, тревожится и заботится о ребенке, тем выше вероятность вспышек гнева и даже ярости. В таком состоянии родитель может быть физически опасен для слабого и хрупкого ребенка. С этой точки зрения очень хорошо, что у слабого ребенка есть способ автоматически прекратить ярость сильного взрослого, демонстрируя обиду или угрожая обрывом контакта. То же самое можно сказать и про женщину в отношении мужчины, и про старика в отношении более молодого и сильного человека. Хотя тут есть и опасность – тот, кто считает себя принципиально слабым (возможно, на глубоко подсознательном уровне) в отношении любого партнера, может привыкнуть демонстрировать обиду при любой угрозе напряжения. Тот, кто не умеет по-другому обращать на себя внимание и отстаивать свои интересы, тоже может привычно вести себя таким образом, ограничивая и свой поведенческий репертуар, и свое развитие. Не стоит забывать, что «слабый» в данном случае рискует, так как экспрессия обиды (открытая спина, застывшее тело) физически безопасна для возможного «агрессора», она не предполагает активного сопротивления и делает обиженного легкой добычей для агрессора, который по каким-либо причинам не реагирует на подобные сигналы так, как ожидается. Так что эта функция – на крайний случай.
В данном случае автоматизм реакции работает в обратную сторону: мы не обижаемся на чужих, мы на них гневаемся или убегаем в страхе. Когда правила или договоренности нарушаются теми, кого мы не считаем своими (например, высокое начальство), мы не обижаемся, а злимся, протестуем, ощущаем безнадежность и т. п. Представим себе, что директор нашего учреждения вдруг приказал нам в нарушение всех договоренностей работать без выходных. Если мы относимся к этому директору как к стихийному бедствию, человеку из другого мира, вообще не-человеку, то мы не обижаемся, а гневаемся, плачем, сетуем на судьбу. Но если мы видим в нем человека («такого, как я») – например, на прошлой неделе он с большим удовольствием участвовал в капустнике или поддерживал светскую беседу в столовой, то мы именно обижаемся. И нам хочется с треском уволиться, но перед тем пойти к нему и все высказать как своему в надежде вызвать чувство вины и раскаяние. В такой момент мы чувствуем его равным себе.
Совсем другой пример: все приемные родители знают, что приемные дети поначалу не обижаются на них – могут бояться, замыкаться, злиться, но не обижаются. Демонстрировать свою обиду приемные дети начинают только тогда, когда готовы считать родителей своими, а себя – способными им противостоять.
Таким образом, если мы хотим почувствовать себя с кем-либо равным, мы можем попробовать обидеться на него. И наоборот – если мы на кого-то обижаемся, значит, ощущаем его равным себе. Ощущение равенства в данном случае – вариант ощущения принадлежности к одному сообществу, к одной стае, к одному виду21.
Имеется в виду следующее – вступая в любое несубъектное взаимодействие, мы можем сделать его субъектным, обидевшись на партнера. Каждый может вспомнить ситуацию, когда демонстрация той или иной степени обиды меняла качество взаимодействия в совершенно формальных отношениях. Например, чиновник, который разговаривает с нами, не поднимая глаз и не отрывая трубки от уха, в ответ на обиду может заговорить с нами по-человечески как с равными, а не как с функцией. Тоже самое касается замотанных врачей, усталых воспитателей и учителей, водителей маршрутки, и т. д. Обижаясь на человека и давая ему это понять, мы автоматически присваиваем ему статус «свой», который меняет его способ осмысления ситуации и, естественно, его поведение. Конечно, такое происходит не всегда и не со всеми. Многим из нас свойственно настолько сливаться со своей функцией-ролью, что мы действительно (временно, как мы очень на то надеемся) утрачиваем способность переживать некоторые человеческие чувства. Прежде всего это относится к сочувствию и сопереживанию – способности понимать эмоциональное состояние другого через собственный опыт. Способность испытывать сочувствие – основа всех остальных социальных чувств – вины, обиды, частично стыда, любви, благодарности, дружбы, симпатии, враждебности и т. п. Механизмы сочувствия, его связи и отношения с сопереживанием, эмпатией, эмоциональным заражением, отвращением, ксенофобией, сексуальной и поисковой активностью и многим другим мы обсуждать здесь не будем ввиду совершенно иных поставленных целей. Достаточно просто упомянуть, что связь есть, самая прямая, широкая, глубокая и очень жизненная.
ВВЧ: Какие основные функции обиды, на ваш взгляд, имеют право на существование? От каких стоит избавляться? Почему?
Обеспечение паузы, остановки в общении и жизни вообще
Состояние обиды, в котором изоляция является частью переживания, позволяет легче держать паузу, которая зачастую необходима для обдумывания. Состояние паузы автоматически прекращает суету и позволяет услышать нечто важное. Некоторые даже сознательно имитируют обиду, чтобы побыть в одиночестве. Особенно подобное характерно для подростков или других людей, которым очень сложно обеспечить себе уединение иными способами. Например, многодетные родители, люди, лишенные собственного рабочего места, и т. д. Если человек заявляет, что он обижен и не хочет ни с кем разговаривать, окружающие могут посчитать законными, обоснованными его одиночество и нежелание общаться и оставляют его в покое.
Важно только помнить, что обида, дорогостоящее и многоплановое чувство, вызывает у окружающих множество неоднозначных реакций, с которыми нам по выходе из паузы придется иметь дело.
Средство обращения к себе, своим потребностям и чувствам – средство самопознания
Данная функция инструмента самопознания после подросткового возраста выходит на первый план. Обрывая контакты с другими, обидевшийся человек невольно начинает лучше слышать себя. В таком состоянии можно неожиданно посмотреть на себя с другого ракурса. К примеру, увидеть, что я считаю: именно меня надо в первую очередь спрашивать, какой кусочек торта мне хочется взять. Или вдруг осознать, что облегчить обиду мне помогает что-нибудь сладкое. С этой точки зрения обида – бесценный инструмент, потому что позволяет видеть скрытое и осознавать неосознаваемое в других обстоятельствах. Глубинные установки, ожидания и представления, сформированные много лет назад и тогда же погруженные в бессознательное, благодаря обиде всплывают и могут быть осознаны. Осознав свое желание получать лучшее и в первую очередь, я тем самым получаю возможность подумать и решить, что с этим делать дальше. Осознав свое стремление утешать себя сладким, ощутив его сверхважность в своей жизни, можно получить шанс переоценить свои пищевые привычки и отношение к еде.
Средство самообучения
Еще одна функция обиды – средство самообучения, позволяющее человеку постоянно пересматривать свои правила и приводить их в соответствие с правилами и ценностями своего социума. Стремление избавиться от неприятных чувств не только сейчас, но и на будущее, может способствовать расширению инструментария, освоению новых способов анализа собственных переживаний и перестройки отношений, поведения и элементов системы конструктов «я-и-мир»23.
Обида, безусловно, является средством самообучения, принуждающим нас пересматривать систему конструктов «я-и-мир», т. е. постоянно оценивать свои внутренние правила и приводить их в соответствие с изменяющимися правилами и ценностями нашего социума. Упоминавшаяся выше любительница роз на длинных стеблях может обнаружить благодаря своей обиде, что, например, большинство ее сверстников вообще никому не собираются дарить цветы. А ее ожидания не соответствуют современному негласному договору о приличных знаках внимания. Обнаружив это, девушка может научиться не ждать таких подарков, или хотя бы прямо говорить о своих ожиданиях, если отказаться от роз душа не позволяет.
Прочие функции обиды
У обиды могут быть и менее общие, более конкретные, индивидуальные и ситуативные, проявления и функции, ориентированные на решение узкоспециализированных задач.
Обида является приемлемой альтернативой гневу и агрессии в ситуациях, когда выражение последних опасно. Она достаточно сильная и яркая, позволяет выражать широкий спектр эмоций.
Обида представляет собой компактную «машину времени»: погружает нас не просто в воспоминания – прошлое буквально оживает со всеми ощущениями и переживаниями. Обида не тускнеет со временем и не забывается десятки лет. Если надо вспомнить какой-либо период времени, погрузиться в прошлое – вспомните свою обиду из того времени и окажетесь там почти наяву.
Функций может быть еще множество у каждого человека, у каждой группы, в разных ситуациях. Психика, решая свои задачи, обычно пользуется уже готовыми механизмами, как мы – готовыми конструкциями для построения дома. Правда, и у нас, и у психики в разных случаях получается по-разному. Особенно в спешке, стрессе, при дефицитах и глобальных угрозах. Сейчас это как никогда верно – в мире глобального и мгновенного обмена информацией, когда на проверку новых и отбраковку негодных или слишком затратных способов добиваться своего времени не предусмотрено вообще, древний механизм обиды требует осторожности.
ВВЧ: Какие функции обида выполняет в вашей жизни? Чем отличается ваша обида от обиды других людей? Какие необычные функции обиды вы замечали у других людей?
8
Глава 5. ДИНАМИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ ОБИДЫ
Рождение обиды * Эмоциональные переживания (шок, вихрь эмоций, стыд) * Одинокая пауза (не в силах общаться с обидчиком; торнадо обвинений и самообвинений;
описания ситуации и вопросы к ней) * Обращение вовне (контакт с обидчиком по горячим следам; контакт с обидчиком через мнение групп) Анализ ситуации* Возвращение в контакт, выяснение мотивов обидчика и тестирование внутренних норм * Выход из обиды (быстрое растворение; осознание неправомерности обиды, изменение представлений о правилах; прощение, месть, искупление вреда, наказание обидчика, расчеловечивание
POU STO Любой психический феномен не возникает ниоткуда, ни одно психическое состояние или явление не происходит мгновенно, хотя у нас может сложиться такое впечатление по причине того, что психические процессы протекают очень быстро. Гораздо быстрее, чем средняя скорость осознавания. Для того чтобы наблюдать процесс развертывания психического явления, надо владеть «техниками медленного наблюдения», то есть обладать специальным умением сосредотачиваться и фиксировать множество мелких изменений состояния, из которых потом можно создать динамическую модель, подобно тому, как из множества кадров создается фильм. Подробное описание этапов переживания необходимо, чтобы осознавать логику процесса, иметь возможность искать поломки, имея приблизительный «план местности», и вообще лучше понимать себя и других. Под динамикой переживания мы понимаем не только эмоции, но и суждения, и действия – все, что происходит от момента возникновения обиды до ее завершения.
Содержание этой главы – результат усилий десятков высококвалифицированных специалистов-психологов, которые на протяжении нескольких лет исследовали обиду и динамику ее переживания у себя и у других на семинарах, посвященных обиде и вине24.
Если представить себе процесс нормального переживания обиды, то он будет состоять из нескольких этапов, которые обозначим ниже. Они не всегда очевидны, не всегда каждый из них разворачивается до конца явным образом, но присутствуют они всегда. Для иллюстрации динамики обиды мы подобрали несколько разных примеров. Большинство примеров, на наш взгляд, довольно безобидны, но кому-то из читателей они могут показаться странными, вычурными или вообще непонятными, а у кого-то, наоборот, вызвать острую личностную реакцию. К сожалению, подобное неизбежно при чтении психологической литературы. Мы не хотели никого обидеть.
Обида, как мы уже отмечали, возникает только в процессе общения с человеком (или группой), который считается «своим». В определенных описанных выше ситуациях. Например, подруга не поздравила с днем рождения. В данной ситуации есть все условия для возникновения обиды: потребность в отношениях с конкретным близким человеком, «законное» (оправданное) ожидание от нее определенных действий, которые подкрепляются социальными и внутренне принятыми нормами отношений. Отказ подруги от поздравления лишает человека ожидаемого удовольствия и подтверждения дружеской связи. Или бывший партнер по бизнесу, с которым мы разошлись полюбовно и договорились дружить, вскорости переманивает ценного сотрудника. С нашей точки зрения, он нарушает нормы дружеского общения и ведет себя непорядочно, с его точки зрения – это только бизнес и ничего личного.
Итак, с этого момента запускается механизм обиды.
Шок («Ну как же так?»)
На наш взгляд, шок углубляется и расширяется еще несколькими ошеломительными ощущениями-мыслями-решениями:
• утрата связи с человеком («Я ее тоже не буду поздравлять!», во втором случае – «Он мне больше не друг и не партнер!»);
• утрата связи с собой («Разве можно со мной так поступать?», во втором случае – «А я, дурак, ему доверял!»);
• утрата почвы («Но люди же так не делают!.. Или делают?», и во втором случае: «Но ведь это же непорядочно. Или в бизнесе можно все, даже с партнерами?»).
Эмоциональный вихрь
Со временем шок проходит и развивается эмоциональный вихрь. При сильной обиде в горле стоит ком, дыхание затруднено, эмоции скачут: от возмущения и гнева к горю, жалости к себе, ощущению страшного одиночества и обратно – к праведному гневу. Человек ощущает себя как на американских горках. В тяжелых случаях болят живот, голова, першит в горле, на глазах выступают слезы, хотя довольно часто не помогают даже рыдания, потому что рыдания могут помочь пережить горе и одиночество, но гнев и возмущение возвращают человека обратно к шоку, и весь цикл разворачивается заново. Набор основных переживаний и их последовательность очень индивидуальны и зависят от возраста, жизненного опыта, социальной и культурной принадлежности, эмоциональности и еще множества разных характеристик конкретного человека. Общими для всех людей характеристиками переживания описываемой фазы являются цикличность и разнообразие. То, что мы не всегда способны уследить за разными переживаниями, не говорит об их отсутствии. Ниже мы подробно остановимся на признаках различных переживаний, включенных в обиду, и способах их распознавать.
Стыд
Через некоторое время, устав от энергетически затратных эмоциональных переживаний, отреагировав так или иначе (откричавшись, отругавшись, отплакавшись, рассказав кому-либо, приняв успокоительное или горячительное), человек начинает ощущать стыд за то, что он так сильно, по-детски реагирует на «такую глупость», и к эмоциональной буре добавляется активное самоосуждение. В качестве примера мы не стали брать страшные обиды на предательство, те, которые во всех языках называют смертельными (некогда такие обиды было принято смывать кровью обидчика). При тяжелой, смертельной, обиде стыд тоже возникает, но гораздо позже, правда, человек стыдится не столько своего переживания, сколько своего бездействия, неспособности справиться. Такое самоосуждение не менее активно и не менее глубоко, чем стыд за «детские» реакции. С переживания стыда начинается следующий этап.
ВВЧ: Какие чувства первыми приходят на ум, когда вы думаете о своей обиде? Знакомы ли вам эти цикличные скачки – от шока и возмущения к гневу и горю и обратно?
Этот этап может длиться от нескольких минут до десятков лет.
Человек чувствует, что не в силах общаться с обидчиком. Даже если подруга вспомнила и попыталась поздравить нас постфактум, мы постараемся не поднять трубку и даже не прочитать смс. Не хочется общаться не только с подругой, но и вообще с кем-либо. Возникает мучительное ощущение собственной оторванности от людей, причем виновником такого ощущения переживается обидевшая нас подруга. В ситуации с переманившим сотрудника партнером – в этот момент нельзя даже представить себе выяснение отношений с ним. Разговор представляется чем-то невозможным.
Из глубины души поднимаются чудовищные обвинения в адрес обидчика («Она меня никогда не любила, она меня использует», «Он мне улыбался, но на самом деле всегда ждал момента, он всегда мне завидовал»), которые тут же переходят в самообвинения («А я, как дура, ее всегда поздравляла… А может, я ее обидела?», «А я, идиот, ничего не замечал. Или он мне мстит за что-то?). Торнадо обвинений и самообвинений погружает человека в пучину вины и обиды – припоминаются все самые страшные собственные грехи и самые жуткие обиды, перенесенные ранее. Обвинения и самообвинения постепенно доходят до абсурда и прекращаются. Длительность такого процесса зависит от глубины и ширины вышеозначенной пучины, т. е. накопленных за жизнь непрощенных обид и неискупленной вины. В тяжелых случаях острая фаза длится несколько дней – это огромная нагрузка на организм, человек реально бывает не способен осуществлять самые простые действия, ему трудно даже усидеть на месте. Или, наоборот, он не в состоянии встать.
Постепенно человек успокаивается и становится способен размышлять. Обвинение и самообвинение складываются в определенную историю события и конкретные вопросы. Например: «Моя лучшая подруга не поздравила меня с днем рождения, хотя я ее всегда поздравляла. Она знает, как мне важно, чтобы она меня поздравила. Она специально это сделала или нет?» Или: «Мой бывший партнер, который утверждал, что не имеет никаких претензий по разделу бизнеса, переманил к себе моего главного бухгалтера. Он старается доказать, что лучше ведет дела или просто старается меня разорить? Это что – мы теперь конкуренты и мне тоже так можно?» Иногда, сформулировав однозначное описание ситуации и поставив вопросы, человек успокаивается (или истощается) до такой степени, что следующий этап в переживании обиды пропускается и множество переживаний остаются невыраженными. При таком развитии событий гнев, возмущение и вопрос «кто прав, а кто виноват?» уходят в фон и действуют на поведение без осознания. Если подобного не происходит и возмущение вкупе с недоумением и болью остаются достаточно сильны, то вопрос «кто прав?» запускает следующий этап переживания обиды.
ВВЧ: Что вы делаете в одинокой паузе? От чего зависит ее длительность у вас?
Всем знакомы горячие реакции такого типа: «Ну скажи, я ведь права?», «Ну как же можно этого не понимать?» «Как мне на это реагировать?»
Непосредственный контакт с обидчиком по горячим следам
Если гнев и возмущение очень сильны, а обидчик доступен для разговора, человек предпринимает попытку сразу доказать обидчику, что тот категорически не прав («Тебе на меня наплевать, для тебя дружба – пустой звук», «Ты ведешь себя непорядочно, так дела не делаются»).
На данном этапе вступить в диалог, как правило, не удается, цель такого поведения – не объяснить суть своих переживаний, свое понимание ситуации, а заставить обидчика признать свою вину. Довольно часто в этот момент мы не понимаем, что нами движет, и искренне считаем, что говорим о своих чувствах и объясняем свою позицию. Хотя на самом деле с точки зрения функции обиды такие действия направлены на охрану собственных ценностей, собственного понимания норм и законов общения. Даже если удается заставить другого признать вину, ситуация с высокой вероятностью повторится, т. к. мотивы действия обидчика и собственные реакции не были по-настоящему поняты. Получив обвинение в пренебрежении дружескими связями, подруга может обидеться в ответ, формально извиниться, определив наши переживания как «пунктик» или особую обидчивость. Хотя, возможно, уже на этом этапе ситуация исчерпает себя и закончится: если, например, обидчик ярко переживает вину и совершит положенные действия (извинится), иначе говоря, поведет себя, как «свой». В таких случаях обида далее становится не нужна и утихает сама по себе.
Но зачастую, чем более резкие обвинения мы бросаем, тем менее вероятно «правильное» поведение обидчика. Даже если обидчик чувствует себя «правильно» (то есть виноватым), сила высказанных ему обвинений, гнева и возмущения может воспрепятствовать адекватному выражению вины. Уж слишком сложные и противоречивые чувства возникают в ответ на обвинение.
Получив обвинения в непорядочности, бывший партнер по бизнесу и приятель, скорее всего, оскорбится и перестанет быть нашим приятелем. Даже если в глубине души сам считает свои действия сомнительными.
Столь же вредоносен другой распространенный вариант поведения, основанный на «не переработанной» обиде – ничего не объяснять, никого не обвинять, но всячески демонстрировать свою обиду. Обидчик, несомненно, почувствует себя неловко, ему будет понятно, что в ваших отношениях что-то разладилось, но без объяснения у него зачастую нет даже шанса понять, кто и что сделал не так. Ситуации человеческого взаимодействия слишком сложны и неоднозначны: если на детской площадке один ребенок отнимает у второго игрушку и обиженный кричит и плачет, обидчик вполне может сообразить, что, собственно, пошло не так. Но в ситуациях «ты не поздравила меня с днем рождения», «ты не имел права сманивать у меня главного бухгалтера» или, например, «я тебе еще летом говорила, какой подарок хочу получить на Новый год» связи между действием и обидой слишком неявны, слишком разбросаны во времени, чтобы обидчик мог легко и без объяснений понять, что именно он сделал не так. Более того, если подруга считает, что дружба необязательно предполагает поздравление с днем рождения, или бывший партнер по бизнесу полагает, что у ценных кадров должен быть выбор работодателя и они могут сами решать, где им лучше, а муж убежден, что жене лучше самой себе покупать подарки, то ситуации просто обречены на повторение, а «обидчик» даже не поймет, чем, собственно, вызвано охлаждение в отношениях. Возможно, он даже будет считать себя вправе обидеться на немотивированный, с его точки зрения, обрыв контакта.
Значительная часть нашего общества убеждена, что объяснять причину своей обиды – значит ронять свое достоинство, унижаться. Мы довольно часто встречаемся с утверждениями, подобными сакраментальному: «Если ты этого не понимаешь, то объяснять бесполезно». На наш взгляд, такая позиция приводит не к сохранению достоинства, а к потере контакта. Конечно, объяснять свою позицию, говорить о своих чувствах довольно непросто и рискованно, потому что мы демонстрируем уязвимость и рискуем не получить понимания. Но по-другому разрешить обиду и улучшить отношения вряд ли возможно.
Опосредованный контакт с обидчиком – через мнение группы
Если немедленный разговор с обидчиком невозможен, обиженный человек идет другим путем. Сформировав в одинокой паузе описание ситуации (рассказ, историю) и вопросы с недоумениями, обиженный пытается рассказать окружающим о своей обиде, получить поддержку и выяснить, законна ли его обида и кто в данной ситуации прав. Это очень конструктивные действия, хотя со стороны они могут выглядеть как жалобы, кляузы и вынесение сора из избы. Такое отношение к жалобам довольно часто препятствует выносу ситуации на обсуждение вовне и делает обиду практически неразрешимой. Самым жестким примером является сильнейшее нежелание жертв домашнего насилия публично рассказывать о происходящем у них в семье. При очень тесной связи внутри семьи такое «разбалтывание» тайн всем встречным и поперечным обеими сторонами воспринимается как предательство. При этом и нежелание говорить, и нежелание слушать по большей части – автоматические реакции, связанные с отношениями «свой–чужой». Рассказ посторонним об интимных моментах действительно расшатывает тесные связи с обидчиком – на благо или на беду.
На наш взгляд, обсуждение обиженным своего понимания ситуации с окружающими имеет следующие функции:
• во-первых, способствует отреагированию им особо сильных чувств – гнева и возмущения;
• во-вторых, восстанавливает его связи с социумом, делает одиночество не таким всеобъемлющим, смягчает любую глобализацию ситуации – «теперь никогда» или «вечно я…» может поменяться на «с людьми такое случается…» или «все гораздо сложнее, чем казалось…»;
• в-третьих, позволяет получить поддержку от сочувствующих слушателей;
• в-четвертых, многократное проговаривание ситуации позволяет лучше отреагировать эмоции, расширить описание ситуации, выявить какие-то нестыковки, заполнить пропуски, восстановить всю ситуацию полнее;
• и, наконец, если слушатели не встают на сторону обиженного безоговорочно, то он получает возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны, что подготавливает его к следующему этапу переживания обиды.
Отсутствие поддержки со стороны, конечно же, может вызвать вторичную травматизацию, загнать человека еще глубже в ощущение одиночества и глобальной обиды – в таком случае человек, скорее, подвергается давлению, направленному на изменение его системы конструктов «я-и-мир». Грубо говоря, ему объясняют, что его обида незаконна, потому что незаконны его ожидания, вызванные неправильно понятыми законами общежития и общения. В большинстве случаев мы соглашаемся, иногда делаем вид, что соглашаемся, и просто поддаемся давлению обстоятельств. Поддержка сообщества – слишком большая ценность, мы стремимся сохранить ее, даже поступаясь иногда своими мнениями и интересами.
Считается, что мы свободны принимать или не принимать взгляды группы или общества, но не всегда у нас действительно есть такой выбор, потому что не всегда существует возможность осмыслить ситуацию или даже просто воспринять ее как требующую осмысления. К примеру, мы учим ребенка делиться и не обижаться, когда не весь пакет конфет достается только ему, учим быть вежливым и не обижаться на более слабых или младших и иным важным и нужным вещам. Как правило, мы объясняем ребенку, в чем важность и цель такого поведения, но довольно часто просто говорим «так принято, так правильно», и ребенок это принимает. Подобное является одной из форм обучения, создающей непререкаемые, аксиоматические опоры в общении, которые существенно упрощают существование людей в сообществе, но они же становятся тормозом в новой ситуации (например, если тебе не достается ни одной конфеты из твоего пакета), не дают опознавать ее как новую. Иногда мы не сразу понимаем, что наше мнение отличается от мнения других, порой не можем сформулировать различия. В таких случаях срабатывают привычные автоматические и полуавтоматические реакции – согласиться и не протестовать, и обида остается с нами – непонятой, неусвоенной – до тех пор, пока мы не придем в состояние способности (физической, интеллектуальной, эмоциональной, моральной и т. п.) разобраться с этой обидой и этим окружением.
Итак, обсуждение ситуации с разными людьми, которые могут смотреть на действия обидчика с разных позиций, подталкивает нас к следующему этапу.
ВВЧ: Легко ли вам рассказывать о своей обиде? Что для вас важнее: пожаловаться или посоветоваться?
Анализ ситуации
Анализ ситуации происходит в основном во внутреннем диалоге обиженного без непосредственного участия обидчика.
При нормальном течении переживания на данном этапе возмущение и гнев гаснут, острота переживаний сглаживается, и мы становимся способны увидеть остальные свои переживания: стыд, обиду, досаду, вину, горе утраты, одиночество, страх одиночества, желание продолжать отношения. Формируется мотивация на разрешение ситуации, в той или иной степени приходит понимание собственной активной роли во всей ситуации.
Именно на этом этапе происходит опознание переживания обиды и признание факта обиды (легализация) («Да, я обиделась на подругу», «Да, я очень обижен на приятеля»). Такое признание содержит в себе ростки ответственности и готовности приблизиться к реальности событий. Готовности исследовать, что произошло вовне и внутри меня, и чем на самом деле вызваны переживания25(М.М. Бахтин, Р. Мэй) [12, 37].
Происходит определение момента и причины обиды («Да, я обиделась еще в свой день рождения, потому что она не поздравила меня, я ждала до полуночи, но она все равно не поздравила» или «Да, я обиделся, когда узнал, что он увел моего главного бухгалтера и сделал это тайно»).
Формируется определение нарушенной обидчиком нормы («Я обиделась, потому что считаю, что если ты моя подруга, то должна меня поздравить и не имеешь права забывать о моем дне рождения» или «Я обижен, потому что считаю, что в честном бизнесе все должно быть прозрачно и открыто»).
Принимается решение о дальнейших действиях, например:
• разорвать отношения;
• помириться;
• выяснить отношения с целью принять решение;
• не выяснять отношения, законсервировав ситуацию;
• убедить себя «не обращать внимания»;
• возможны и другие варианты.
Начинается процесс тестирования целей и смыслов выбранных действий. Эффективность и оправданность наших решений и действий определяется и ситуацией в целом, и привычными установками. Одни считают, что поговорить всегда лучше, чем не разговаривать. Другие полагают, что токсичные отношения надо рвать, не задумываясь. Психологи, конечно, всегда за «поговорить», но даже психологам понятно, что это имеет смысл лишь при определенных условиях. Понятно, что разговаривать нужно, имея достаточный ресурс времени, сил, внешней поддержки. На разговор стоит идти, более-менее разобравшись с такими активными чувствами, как гнев, возмущение, страх, чтобы не оказаться в опасной ситуации. Также необходимо понимать, чего мы вообще хотим от этого разговора. В приведенных примерах целью разговора может быть:
• донести до подруги свои чувства, например: «Мне показалось, что я тебе больше не важна. Мне было обидно и одиноко»;
• выяснить, почему она так сделала, например: «Ты плохо себя чувствовала, ты была обижена на меня за что-то?»;
• понять, случайна ли эта ситуация или будет повторяться, например: «Давай обсудим на будущее – мне не ждать от тебя поздравлений в принципе, потому что тебе кажется, что это не нужно?»;
• вникнуть, что нужно сделать для подруги, чтобы впредь она поздравляла с днем рождения, например: «Тебе напомнить в следующий раз? Мне будет существенно легче, даже если ты меня поздравишь с опозданием»;
• готовность понять, что нужно нам, чтобы так сильно не обижаться, например: «Она делает так не специально, у нее нет цели меня обидеть, отсутствие поздравления не означает, что мы больше не подруги».
В менее личной ситуации нарушения неписаных правил партнерства целью может быть ориентация в изменившейся ситуации («Возможно, мы теперь конкуренты, тогда я буду вести себя соответствующе») и выяснение, является ли инцидент просто попыткой померяться силами или это действительно диверсия с далеко идущими целями.
ВВЧ: На что вы чаще всего обижаетесь? Как бы вы описали свою обиду, опираясь на этапы анализа ситуации?
Следующий шаг происходит уже вовне – возврат в контакт с обидчиком (разговор непосредственно с ним) с целью разрешить конфликт, рассказать о своих переживаниях и понять поведение другого. В процессе такого обсуждения в норме человек начинает осознавать прежде не осознаваемые собственные представления о правилах и свои ожидания, с которыми его партнер не согласен или которым не в состоянии соответствовать. Мы обращаем на них внимание, только когда они входят в противоречие с реальностью. В нашем примере с днем рождения мы можем неожиданно выяснить, что наш личный нравственный закон звучит следующим образом: «В любой ситуации и в любом состоянии подруга должна меня поздравить с днем рождения (смерть не является извинением)». В варианте с бизнесом правило может выглядеть так: «Достигнутые договоренности не могут изменяться между порядочными людьми ни при каких обстоятельствах». Формулировки здесь очень важны, потому что только при выражении «нравственного закона» словами становится очевидно, что закон нуждается в корректировке. Если его не изменить, то высок риск обижаться каждый год или раз за разом оказываться в позиции обманутого. Кроме того, может осознаться еще и такая норма: «Если она моя подруга, то для нее мои интересы должны быть выше ее собственных». Формулировка выглядит довольно дико, что не мешает ей быть повсеместно распространенной. Во втором варианте может выявиться нарушение нравственного закона, сформулированного следующим образом: «Порядочность превыше всего, даже конкуренция должна быть открытой и честной». Очевидно, что такая норма нуждается в конкретизации и привязке к реальной ситуации. Эти внутренние законы и правила можно изменить, только осознав и проговорив на словах. Именно поэтому обида является первейшим средством самопознания – она позволяет (заставляет) осознавать фундаментальные законы нашей индивидуальной вселенной.
Если обида возникла не на близкого, а на человека, неправильно или недостаточно хорошо выполнившего свою социальную роль (чиновника, обслуживающий персонал, врача), то на обсуждаемом этапе обиженный человек старается разрешить данный конфликт и свою обиду, не вступая в отношения, а переводя его в русло конвенционального конфликта (жалоба, заявление в суд, обращение к адвокату или посреднику). Это вполне допустимое действие обиды. Обычно выигранный суд очень облегчает переживания, иногда полностью растворяя обиду. Судебное решение, принятая к рассмотрению жалоба, вынесенный выговор, возмещение морального вреда или официально принесенные извинения являются мощным доказательством того, что моя обида была справедливой и я верно понимаю окружающую действительность. Государственные и общественные механизмы очень способствуют растворению обиды, потому что являются проводником и носителем норм, разделяемых миллионами людей. Таким образом проявляется зависимость нашего эмоционального состояния не только от качества, но и от количества полученной поддержки. Сотни тысяч подписей в поддержку обиженного государством человека могут перевесить негативное решение конкретного судьи. Или во всяком случае существенно облегчить страдание от несправедливости.
Непосредственное выяснение отношений с обидчиком должно приводить и к пониманию мотивов его действия, которое мы восприняли как обидное. Довольно часто нам приходится корректировать не только наши представления о собственных нормах, но и представления о том, какими нормами руководствуется наш партнер. Например, мы можем обнаружить, что, по мнению подруги, небольшая обида – ничего страшного, даже освежает отношения, и она готова и дальше использовать мелкие нарушения этикета в воспитательных целях, чтобы обиженная проще относилась к жизни. Или что наш бывший партнер и приятель считает переманивание сотрудников просто ходом в некоей игре и совершенно не рассматривает такое действие с точки зрения моральных и этических норм. К сожалению, нередки ситуации, когда мы выясняем, что обида произошла не столько по небрежности, невнимательности, с целью проверки значимости отношений или из-за разного понимания норм взаимодействия, а была нанесена сознательно – с целью обидеть или навредить. Иными словами, мы можем обнаружить, что тот, кого мы считали «своим», теперь стал «чужим» или никогда и не был «своим». Это безусловно болезненно, но несомненно полезно и более безопасно для дальнейшей жизни.
Поняв ситуацию, выяснив мотивы обидчика, осознав собственные нормы и нарушенные ожидания, человек получает возможность разрешить обиду, избавиться от бремени этого переживания.
ВВЧ: Какую тактику вы выбираете, возвращаясь в контакт с обидчиком? От чего это зависит?
Разрешение от бремени (выход из) обиды
Возможны следующие варианты разрешения обиды.
1. Быстрое растворение – в случае обоснованной обиды, т. е. когда «свой» член сообщества действительно нарушил нравственный закон
• Быстрое получение массовой и значимой социальной поддержки, позволяющей больше не считать обидчика «своим». Поддержка в обществе дает нам возможность фактически создать себе другое «свое» сообщество, более «свое», чем то, куда мы входим с обидчиком. Теперь обидчика можно не считать «своим» – значит, на него можно не обижаться, а гневаться и обращаться к правосудию сообщества. Такое «рассвоячивание» – себя или обидчика – вполне предохраняет от будущих обид и заставляет блекнуть прошлые. Правда, годится только для мелких обид и не очень значимых отношений.
• Быстрое извинение от обидчика. Его правильные действия сохраняют за ним статус «своего» и подчеркивают правоту и обоснованность наших желаний, позволяя быстро растворить обиду. Правда, подобное случается, только если между вредоносным действием и извинением проходит небольшое время. Если длительность периода превышает определенный порог (индивидуальный), обида фиксируется и превращается в давнюю, которая так просто не растворяется.
• Немедленное добровольное искупление обидчиком причиненного им вреда тоже относится к правильным действиям, позволяет установить более тесную связь как с обидчиком, так и с сообществом. Искупление вреда позволяет создать общность между обидчиком и обиженным на более широком уровне общего поля (контекста) – исторического, социального, и нравственного. Дело в том, что механизм искупления вреда – очень древний механизм, освященный веками. И готовность обидчика возместить ущерб является для обиженного психологически несомненным доказательством собственной значимости и того, что обидчик – действительно «свой».
Явно выраженная готовность обидчика понести наказание26, что подтверждает правоту обиженного, законность его обиды.
2. При сформированной обиде любой природы и давности, когда обидчик действительно нарушил правила
• Прощение обидчика
обиженным. Прощение может происходить и без участия обидчика. Это сложный психический процесс, который ниже мы подробно опишем отдельным образом.
• Месть обидчику.
Месть – явление чрезвычайно неоднозначное, но реально существующее и имеющее непосредственное отношение к обиде, которое невозможно оставить без внимания. Во многих случаях месть обидчику действительно позволяет обиженному человеку выйти из обиды. Подробнее процесс мести тоже опишем позже.
Расчеловечивание обидчика – лишение его статуса «своего» и статуса человека вообще. Если «чужой» или «не-человек» совершает враждебные действия в отношении меня, я не обижаюсь – я злюсь, гневаюсь или пугаюсь и делаю все возможное с моей стороны, чтобы прервать наше взаимодействие, вплоть до агрессии или бегства.
3. В случае необоснованной обиды: когда наши ожидания оказались неоправданными, или мы нереалистичны в своем понимании нравственного закона сообщества
В такой ситуации разрешением от беремени и выходом из обиды могут быть следующие действия:
• переформулирование своего понимания законов общества, перестройка системы конструктов «я-и-мир»;
• восстановление отношений с «как бы обидчиком»;
• возможно, извинения перед ним или группой за необоснованные претензии и растрату ресурсов. Работа с виной и стыдом (См. Часть IV).
В данном случае самой сложной частью работы является прощение себя за необоснованную обиду и неточное понимание реальности. Практически неизбежен экзистенциальный кризис, вызванный необходимостью изменения и принятия нового образа «я».
ВВЧ: Что для вас является наиболее частым разрешением от бремени обиды?
Глава 6. ОСОБЫЕ ОБИДЫ (С РАСЩЕПЛЕНИЕМ «Я» НА ЧАСТИ)
Особыми обидами мы считаем следующие виды обиды:
• гендерную (мужскую и женскую);
• возрастную (обида явного младшего и явного старшего);
• ролевые обиды;
• обиду на высшие силы;
• обиду на себя;
• давнюю обиду.
Мы выделяем их в особую группу, поскольку они отличаются от других обид общим свойством: они крайне болезненны, их очень сложно объяснить в силу глубокой иррациональности, трудно (а иногда стыдно) выделить вредоносное действие, а, стало быть, их особенно тяжело лечить. И главное, на наш взгляд, они все существуют и реализуются благодаря расщеплению я на части, которые далее мы будем называть субличностями.
POU STO Мы считаем расщепление нашего я на крупные и мелкие части вполне нормальным процессом, относящимся к процессам активной адаптации психики к сложным изменчивым процессам реальности. Патологичным, болезненным расщепление становится, если отрывается от такой своей функции. Останавливаться на этом подробно и обосновывать данное положение в настоящем тексте не совсем уместно, поэтому мы и не будем. Вопроса о природе субличностей и расщепления тоже касаться не будем, дабы не перегружать текст. Скажем только, что в данном случае мы имеем в виду части личности, обладающие определенной долей самостоятельности, часто действующие вразрез с осознанными интересами целостной личности (хозяина). Отщепленные части могут называться по-разному – в соответствии с источником возникновения, механизмом обособления, динамикой существования, размерами, основной функцией и многими другими факторами. Мы же будем пользоваться термином «субличность» как самым распространенным.
Субличности, в нашем понимании, обладают, как правило, упрощенным набором представлений и мнений, а также яркими четкими эмоциями, в том числе самостоятельным страхом смерти. Именно эта относительная самостоятельность и отдельность переживаний субличности от переживаний хозяина и является, на наш взгляд, результатом и свидетельством расщепления. Хозяину переживания субличности подчас кажутся непонятными и даже чуждыми. Особенно если субличность как-либо относится к коллективному бессознательному и архетипам. А субличности, представляющие пол, возраст, социальное положение и высшие силы как раз имеют к ним непосредственное отношение. Поэтому обиды, в которых они задействованы, особенно сильны – их переживания относятся не только к конкретному человеку, которого обидели, но и к части человечества или мира, с которой связана субличность – мужчинам и женщинам, «салагам» и «старикам», врачам, учителям, воинам, начальникам и т. д., ко всем обласканным или обиженным судьбой, одаренным или обделенным талантами.
Важно отметить, что в собственной практике консультирования и наших рекомендациях по работе с субличностями мы исходим из глубокого убеждения, что часть личности всегда хочет блага для человека, которому принадлежит. Вопрос только в том, как она это благо понимает. Поэтому субличности, если они проявляются, надо выслушивать, сочувствовать им, уважать их, потому что с ними придется договариваться. Наш опыт свидетельствует: избавиться от части себя нельзя, даже желать того опасно, потому что однозначно плохого и ненужного у нас внутри нет – мы в это верим.
Опишем особые обиды чуть подробнее, чтобы было понятнее, о чем мы говорим.
Гендерная обида возникает в ситуациях, когда в нас обижают мужчину или женщину, затрагивая самую суть обозначенных понятий. Причем про названную суть каждый может думать в тех терминах, в которых привык. Можно считать, что ядром понятия является Анима или Анимус по Юнгу, или архетипы женщины, матери, Афродиты, Геры, Геи, Кибелы, или мужчины, отца, охотника, Зевса, Аполлона и т. д. Тип мифологии и способ выделения субличности (способ расщепления) не так важен. Важно, что в момент, когда затрагивается гендерная суть, человек ощущает себя не отдельной личностью, а частью чего-то большего – пола, половины человечества. Вредоносное действие, направленное на пол, гендер переживается как попытка стереть, вырвать из череды поколений, лишить не только статуса человека, а чего-то большего. Это кажется странным тому, кто такого не переживал. Но любому, пережившему нападение на «мужчину-во-мне» или «женщину-во-мне», интуитивно понятно приведенное довольно неконкретное и очень иррациональное описание. Но понятно только интуитивно – рациональности в данном вопросе очень не хватает.
К сожалению, дело осложняется и очень непростым отношением к этому вопросу в обществе. Сейчас считается, что личность человека важнее, чем пол, что пол, тем более гендер – нечто изменяемое, чуть ли не наносное, то, что можно менять по собственной прихоти. Это, конечно, очень радикальный взгляд, но он есть, и в работе приходится его учитывать. В психологическом консультировании известно достаточно примеров того, что полоролевая идентичность, гендерная принадлежность для большинства людей не пустой звук, кто бы что ни говорил27. В литературе много исследований о том, как тяжело мужчины и женщины переносят операции, калечащие их половые органы, – на груди у женщин, на мошонке у мужчин. Восстановление собственной гендерной идентичности после операции идет тяжело и долго, и чувства при этом возникают чаще всего иррациональные и труднообъяснимые, причем даже в случаях, когда изменения снаружи не видны и вообще не касаются внешности. Существуют данные о том, что принятие себя как представителя гендера, позитивное отношение к себе как к женщине или мужчине – напрямую связано с выживанием при тяжелых болезнях и после сложных операций.
Здесь нас более всего интересует все же гендерная обида, а не весь комплекс вопросов пола и гендера. На наш взгляд, с такими обидами сложно иметь дело по нескольким причинам.
Во-первых, не всегда понятно, что, собственно, может задеть нас как носителя гендера, как мужчину или женщину – каково содержание индивидуального представления о гендере и гендерных ролях. Иногда это очевидно: например, когда нам заявляют: «Ты не мужчина (не женщина)!», или когда высказывается сомнение в привлекательности человека для противоположного пола («На такую уродину никто и не взглянет», «Какая баба на такого дохляка польстится?»), а еще – когда сомневаются в способности к сексуальному взаимодействию или в возможности иметь детей. Но в нынешней обстановке всеобщей спутанности сексуальный или гендерный подтекст подчас выражается не явно, и мы далеко не всегда знаем, что мы сами вкладываем в свое определение «женское» и «мужское».
Диалог «Женская дача»
Клиент: Да не люблю я эту дачу! Да что вы все пристаете с этой дурацкой дачей! Даже вы ко мне пристаете!
Психолог: Я только спросила!
Клиент (взрываясь): Вот и они все время спрашивают: «Когда на дачу поедем? Ты приедешь на дачу?» Да пропади она пропадом, эта дача!
Психолог: Да что ж там такого на даче?
Клиент: Все! Все плохое!
Психолог: Там все не так?
Клиент: Да!
Психолог: А что там не так – можешь сказать?
Клиент: Там все низкое! Мне, чтобы зубы почистить, на колени надо становиться перед раковиной. Стульчак не поднимается. Я ни одну дверь нормально открыть не могу – все ручки маленькие. Бабье царство проклятое! Теща когда-то все под себя и под дочерей сделала. Они что – хотят, чтобы и я девочкой был?!
Психолог: Ну-у-у… вряд ли.
Клиент: А как еще? Вы представляете, там в сарае – сарае! – обои! Да и сам сарай такой, что мне туда не зайти. Потому что дверь низкая. Мне приходится их звать, чтобы они топор достали!
Психолог: Придется другой сарай строить, мужской.
Клиент: И построю!
ВВЧ: А вам случалось видеть мужское и женское в неожиданных предметах и сферах?
За нежеланием клиента ездить на дачу, стояла, оказывается, гендерно окрашенная обида. Мужчина не находил себе там «мужского места». Ощущал кукольные, с его точки зрения, размеры как отрицание мужского начала и игнорирование его присутствия там, а может быть, даже и нежелание того, чтобы он там находился. В его внутренний образ мужчины и мужского, оказывается, были включены высокие дверные проемы.
Во-вторых, в случаях, когда у нас не получается сразу опознать обижающее высказывание или обижающее действие как гендерно окрашенное, а само переживание обиды чрезвычайно сильно, нам потом очень сложно вообще что бы то ни было сделать с этой обидой – опознать, проанализировать, понять, пожаловаться – не говоря уже о том, чтобы как-то разрешить ее. Сложно именно из-за силы и непонятности переживания.
В-третьих, видимо, работают еще и механизмы психологической защиты, доставшиеся нам от предков. В этнопсихологических исследованиях есть доказательства, что самые страшные и грязные ругательства связаны с обвинением в том, что некто лишен пола (не-мужчина-не-женщина), или нечто странное происходит с его родственниками и происхождением (вспомните самое распространенное матерное ругательство) (М. Мид) [34]. Именно на таких оскорблениях построен русский мат, поэтому его бывает так тяжело слушать и он подчас вызывает автоматическую безотчетную агрессию (Л.А. Китаев-Смык) [28, 29]. В большинстве примитивных культур такие обвинения искупаются только смертью оскорбителя, поэтому, ввиду фатальности реакций, мы, возможно, настроены «не услышать» таких слов, не принять их всерьез. Проблема в том, что это трудно – ведь реакции автоматизированы, и мы, современные люди, услышав подобное, часто тоже хотим убить оскорбителя, хотя и не опознаем такие оскорбления как гендерные. Логика эволюции языка и устной речи приводит к тому, что однажды непростительные проклятия превращаются в обиходные и общеупотребительные ругательства, и все запутывается еще больше. В результате, слыша ругательства, мы сдерживаемся, ругаем себя за то, что обращаем внимание на пустяки, не убиваем, не ругаемся в ответ, а стараемся вытеснить, забыть. Хотя не всем удается – большинство доказанных случаев формирования сексуального насильника начинается с гендерных насмешек, и очень много бытовых убийств происходит после брошенной мимоходом фразы «Ты не мужик». Но подавляющее большинство все же сдерживает первую, убийственную для обеих сторон реакцию. В результате сильнейшие переживания подавляются, вытесняются, уходят в глубокие неосознаваемые уровни личности, чтобы в какой-то момент взорваться по механизму резонанса. Или по механизму «последней капли». В моменты взрыва опознать в таких обидах гендерные можно, только если специально искать и знать, что ищешь.
Четвертой причиной сложностей в опознании обиды как гендерной можно назвать современную идеологию отношения к полу. В силу того, что половые и гендерные роли стираются, границы между ними не такие явные и сам принцип разделения ролей по гендерному признаку ставится под сомнение, наши субличности «мужчина» и «женщина» или другие гендерно-окрашенные части могут осознанно или неосознанно относиться нами к разряду лишних, неуважаемых. Если это действительно так – а такое все чаще случается у подростков, у молодых людей или, наоборот, у старших – то обида, нанесенная носителю пола в нас, может вызвать жесточайший конфликт между ощущением «меня лишили прошлого и будущего, потому что я не смог/не смогла продолжить род, и у меня теперь нет предков и не будет потомков» и сознательной реакцией «да все нормально, это несовременно – обижаться на такое, немедленно перестань, если ты продолжишь, то станешь изгоем». Распутывать такой клубок бывает трудно, долго и болезненно.
Короче, с гендерно окрашенными обидами работать очень долго и очень сложно. И клиенты не всегда соглашаются.
Приведем в качестве иллюстраций следующие ситуации. Пришедший в гости приятель или родственник, окидывая взглядом любовно декорированное помещение, бросает хозяйке: «Да, чувствуется, что дизайном занимался мужчина». Или кто-нибудь в сердцах восклицает: «Что за женщина, которая не умеет готовить (шить, вязать и т. д.)!» Вроде бы ничего особенно обидного и даже, возможно, справедливо, но почему-то ужасно обидно.
В результате таких мимоходом брошенных фраз, может произойти такой, например, разговор:
Диалог «Соблазнительница»
Психолог: Ты выглядишь очень расстроенной.
Клиентка: Да ерунда, ничего такого.
Пауза.
Клиентка (повышая голос): Я же сказала, ничего такого!
Психолог: Да ладно, ладно.
Клиентка (со слезами): Да что ты меня как дуру успокаиваешь? Я же тебе сказала – ничего такого!
Психолог: А чего ты плачешь тогда?
Клиентка (плачет): Да не знаю, но почему-то обидно так, прям не могу.
Психолог: А когда обиделась, кто обидел?
Клиентка (всхлипывая): Вчера-а-а… мы с девчонками в бар ходили. То-се. Ну естественно, про мужиков разговор зашел. Я им сболтнула, что у меня намечается что-то. Ну помнишь, я тебе говорила, с тем парнем?
Психолог: Да, помню.
Клиентка: И тут одна говорит: «Да, соблазнение – это не твое». Все хихикают, я тоже смеюсь, ну, так… противно было немножко… а потом все хуже и хуже. Плюс алкоголь еще. Потом полночи проревела и толком понять не могу, с чего. Чего она вообще? Тоже мне, специалистка. Сама три раза замужем была, дети по бабкам-дедкам раскиданы. Соблазнительница чертова (рыдает). Чего она… прицепилась ко мне? Я сама знаю… что не девушка с обложки. Ну и что! Что теперь мне? В монастырь, что ли? Да ну их всех… И не надо ничего мне! От мужиков – одно горе, ничего мне не надо! Очень надо мне их соблазнять! Пусть вот сама и соблазняет (горько плачет).
Психолог подает салфетки.
Клиентка (продолжая всхлипывать): Спасибо! (Вытирает лицо и говорит решительно.) Наверное, мне надо от тебя уйти к мужчине-психологу!
Психолог: Зачем?
Клиентка: А пусть он мне скажет, женщина я или нет, могу я соблазнить мужчину или нет. Вам же врать не положено и оскорблять клиентов нельзя!
Психолог: И что – поверишь? Если он тебе скажет, что ты нормальная женщина – привлекательная, соблазнительная. Поверишь?
Клиентка (с внезапной ненавистью): Да ни за что! Сдалось мне его мнение! Чтоб я какого-то мужика слушала. И вообще. Везде пишут, что надо освободиться от зависимости от мужчин. Как это… А! «Надо слезть с иглы мужского внимания», вот!
Психолог: А тебе чего больше хочется: соблазнять или освобождаться от зависимости?
Клиентка (опять начинает плакать): Не зна-а-а-а-ю…
ВВЧ: Конфликт каких субличностей можно заподозрить в этом диалоге? На что, на ваш взгляд, так болезненно и эмоционально реагирует клиентка?
Работа с такой клиенткой будет долгой и непростой. Внутри нее борются субличности, которые придерживаются прямо противоположных взглядов, но каждая на свой лад заботится о благе хозяйки. Примирить их и интегрировать будет очень сложно. Потому что любое, даже легкое, касание этой области вызывает бурю эмоций и совершенно реальной боли. Так что работать с этим всем девушку еще уговорить надо.
Не легче приходится и мужчинам. На наш взгляд, их за «недостаточную мужественность» осуждают гораздо жестче. Любовь к вязанию, вышиванию или любым другим традиционно женским рукоделиям может вызвать насмешки друзей и какие-нибудь сексуально-окрашенные предположения. Отказ драться либо неумение, нежелание драться или как-то по-другому проявлять агрессию во многих мужских сообществах могут сделать мужчину или мальчика изгоем. Но бывают и менее очевидные сложности.
Диалог «Антимедицинский»
Клиент: Я пришел к вам в последний раз, потому что мы договаривались. Больше я к вам не приду.
Психолог: Неожиданно… Что-то случилось?
Клиент: Вы сказали моей жене, что мне нужно пройти обследование на бесплодие.
Психолог: Ну да, это обычная практика, оба партнера проходят обследование.
Клиент (сдерживаясь): Мне нет дела до ваших обычных практик!
Психолог: Послушайте, я понимаю, что вы очень сердиты, но я понимаю только это. Я не понимаю, почему вы сердитесь. Мне бы очень хотелось понять.
Клиент (повышая голос): Что тут непонятного? Послать мужика на обследование!
Психолог: И что?
Клиент (в ярости): Да вы меня выставили идиотом! Я что – не мужик уже?
Психолог: Погодите, давайте чуть-чуть притормозим и попробуем разобраться.
Клиент откидывается назад в кресле и пытается успокоиться. Кивает.
Психолог: Как связаны анализы и «не мужик»?
Клиент (глубоко дыша, пытаясь говорить спокойно): А если они что-нибудь найдут? Значит, я не мужик?!
Психолог: Почему?
Клиент (запальчиво): Да им только попадись в руки! Мы с другом как-то напились сильно, его и прорвало: он рассказывал, что ему сказали, будто у него детей не будет, потому что сперматозоиды вялые. Это как это у нормального мужика могут быть сперматозоиды вялые? Какой он мужик после этого? Как ему жить?!
Психолог: Но такое во многих случаях лечится…
Клиент (почти кричит): Слыхал я про эти способы лечения!
Психолог: Да подождите, подождите, давайте все-таки разбираться спокойно, по порядку. У вас и диагноза никакого нет, а вы уже говорите, что вы такое лечение не вынесете.
Клиент: Я все вынесу, здесь не про то речь. А про то, что нормальный мужчина такое допускать не должен!
Психолог: Я не очень понимаю, о чем вы, давайте пока про обследование. Обследование – это всего лишь попытка выяснить, в каком состоянии ваше репродуктивное здоровье, и заранее беспокоиться совершенно незачем.