Наивысшие Упанишады. Том 1. Ишавасья, Айтарея, Тайттирия, Кена, Катха, Шветашватара, Мундака, Прашна, Мандукья
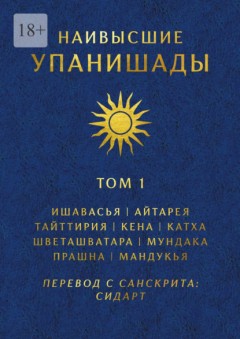
Переводчик Глеб Давыдов
Корректура Артём Кайда, Людмила Картузова, Анастасия Кошенкова, Риши Ковригин
Обложка Марианна Мисюк, Ксения Юрченко
Составитель Глеб Давыдов
Благодарности:
Свами Сарвананда, Свами Сарваприйананда, Свами Гамбхирананда, Шри Раманачарана Тиртха (Ночур-свами),
Свами Тьягишананда, Равиндра Сатхе, Ашит Десаи, Садху Амритдживандасджи и Садху Ачаласварупдасджи,
Свами Локешварананда, Свами Шивананда, Свами Парамананда, Свами Никхилананда, Макс Мюллер,
Т.Н. Сетхумадхаван, Свами Парамартхананда, Свами Видитатмананда, Свами Чинмайананда,
С. Ситарама Шастри, Свами Дайананда Сарасвати, Шри Ади Шанкарачарья
© Глеб Давыдов, перевод, 2025
© Глеб Давыдов, составитель, 2025
ISBN 978-5-0068-0945-1 (т. 1)
ISBN 978-5-0068-1471-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ (от переводчика)
Введение
Литературный памятник? Нет, Упанишады не просто «литературный памятник». А точнее, совсем не «памятник». И даже не му́рти1. Они – живое Слово. В то же время Упанишады нельзя обозначить как сугубо религиозные или философские тексты. Даже слова «древнейшее поэтическое произведение» не могут в точности передать, что это такое, – в слове «произведение» уже затаилась неточность. Как, впрочем, и в слове «древнейшее». Скорее Упанишады можно назвать высокочастотными откровениями, которые хотя и были зафиксированы в поэтической форме великими провидцами (риши) древней Индии несколько тысяч лет назад, остаются и сейчас в полной мере актуальными для любого подлинно живого человека. Перед нами одновременно и поэзия, и духовное учение, и священное Писание, и преисполненные трансцендентного вдохновения мантры-заклинания, трансформирующие ум читателя и доставляющие его в наивысшие планы бытия.
В этой книге – первая попытка поэтического перевода Упанишад на русский язык. При этом термин «вольный перевод» (или «переложение») здесь не работает. Сохранены мельчайшие смысловые нюансы оригиналов. Послания и дух этих Писаний переданы настолько точно, насколько это возможно на русском языке, и при этом – перевод литературный, не академический.
Прежде чем продолжать это предисловие, переводчик должен сделать важное предупреждение: он всего лишь переводчик, а не учёный специалист. Но поскольку подобные издания нуждаются в предисловиях, чтобы дать читателю хотя бы общее представление о контексте, именно переводчику в данном случае приходится писать это предисловие. Ошибки и неточности в этих вступительных статьях вовсе не исключены (вплоть до случайных описок, подобных той, которая вкралась, например, в первое издание перевода «Рибху Гиты», когда в предисловии «Бхагавад Гита» была ошибочно названа «Рамаяной»), и автор заранее приносит читателю свои извинения за это. Сделав это предуведомление, поговорим – по возможности, кратко – о том, что такое Веды, какое место в них занимают Упанишады и о практике переводов этих Писаний. Также краткие индивидуальные введения будут даны к каждой из Упанишад.
Шрути
155 триллионов лет назад был явлен Брахма. Как откровение от Всевышнего Бра́хмана Брахма услышал инструкцию: «Делай Та́пас». Слово «та́пас» обычно переводят как «аскеза» или «подвиг», но оно означает буквально нечто вроде жара, который образуется под птицей, когда та высиживает яйца. То есть Брахме было сказано высиживать – высиживать нечто. Когда он приступил к выполнению этого указания, он услышал звук «ОМ». Это было началом мира. И началом Вед. Из «Ома» начал распаковываться космос, вселенная. И в то же время из «Ома» начали распаковываться Веды. Это было не столько творение, сколько раскрытие уже имевшегося в заархивированном виде Знания. Разархивация. Брахма был первым из Риши.
Кто такой «риши»? Буквальный перевод – «видящий». Риши – тот, кто видит то, что скрыто. Например, видит заложенную в явлении внутреннюю суть, скрытую от обыденного ума, и способен распаковать зашифрованное и помочь увидеть эту суть тем, кто готов к этому и кому это необходимо. Именно такими были те, кто получали в качестве откровения «Веды», которые сами по себе не были созданы, не имеют возраста, а считаются безначальными, существующими вне времени. То есть они были, есть и будут всегда. Риши (в силу особого склада ума, восприимчивости и богоизбранности) только увидели эти Веды, запомнили и передали людям. Первыми риши после Брахмы были божественные сущности Агни, Ваю, Адитья, затем Нарада, Маричи, Атри, Ангирас и другие, через которых постепенно распаковывались Веды.
Другое название Вед – «Шрути» (санскр. śruti), что означает «услышанное» и указывает на их природу как божественного откровения, воспринятого риши в состоянии глубокой медитации. В отличие от Шрути, более поздние тексты, такие как Итихасы (Рамаяна и Махабхарата) и Пураны, относятся к категории «Смрити» – «запомненное». (Хотя Смрити считаются паурушея – то есть имеющими человеческое происхождение, они опираются на Шрути, интерпретируют и развивают её идеи.)
По линии передачи, с особыми ритуальными посвящениями риши передавали гимны и мантры Шрути своим ученикам – из уст в уста. При этом абсолютное значение придавалось божественному происхождению этих текстов, и, соответственно, в святости держалась полная сохранность их смысла и точность передачи – вплоть до малейших оттенков звучания отдельных слогов.
Постепенно сформировалась следующая структура Шрути: четыре основные Веды:
Ригведа – древнейшая часть, содержащая гимны (рик) богам; в ней прославляются такие боги как Индра, Чандра, Варуна, Сурья и др. – вся иерархия богов, выполняющих те или иные функции в проявленной вселенной.
Самаведа – Веда песнопений, основанная на гимнах Ригведы, эта Веда содержит в себе ключи, позволяющие уравновешивать противоречия, неизменно возникающие в мире двойственности. «Сама» так и переводится «равновесие».
Яджурведа – Веда содержит в себе секретные мантры-заклинания, ритуальные формулы и инструкции для жертвоприношений, совершавшихся ради достижения тех или иных практических трансформаций и целей.
Атхарваведа – включает прочие заклинания, философские размышления и практические наставления.
Каждая Веда состоит из четырёх уровней:
Самхи́ты – дословно «полное благо, благополучие», базовые гимны и мантры.
Брахма́ны – комментарии, в которых описана суть разных ведических ритуалов.
Аранья́ки – тексты, передающие тонкие, менее материалистические аспекты ритуалов (служит плавным переходом к Упанишадам).
Упаниша́ды – тексты, которые также называются «Ведантой», то есть буквально «концом Вед», мы ещё поговорим подробнее об этом.
Также Веды (Шрути) подразделяются на три раздела:
Ка́рма-ка́нда – область ритуалов и действий. Она обычно связана с Самхитами и Брахманами, поскольку эти тексты содержат гимны богам и инструкции для проведения жертвоприношений. Здесь содержатся жертвенные ритуалы (яджни) и правила дхармы (праведного образа жизни);
Упа́сана-ка́нда – область поклонения и сосредоточенной практики. Включает мантры, медитацию и преданное служение. Ведические песнопения и ритуальные практики, связанные с концентрацией ума на божественном. Основная цель – углубление внутреннего сосредоточения и духовного подъёма;
Джня́на-ка́нда – область высшего Знания. Именно к этому разделу относятся Упанишады, которые иначе называются Ведантой, то есть «Концом Вед», или «Венцом Вед», точкой, в которой Веды приходят к своей кульминации, совершенству, высшей Цели, а именно: постижению Бра́хмана и освобождению.
Веды долгое время передавались только в устной форме. Однако с наступлением Кали-юги, когда у людей резко стали ухудшаться когнитивные способности, в том числе память, возникла крайняя необходимость зафиксировать их в форме письменной. Эта миссия около 5000 лет назад была возложена на великого риши Вьясу (поэтому также называют Веда Вьясой). Что и было им сделано. Он систематизировал и записал то, что дошло до нас как «Шрути» (а также зафиксировал такие Пураны и Итихасы, как «Шримад Бхагаватам» и «Махабхарата»).
Упанишады и канон «Мукхья»
Слово «упанишады» переводят обычно как «сидеть у Стоп Учителя». Слово это указывает на нечто очень-очень близкое, нечто хорошо знакомое, глубоко внутри понятное и узнаваемое всеми нами. Один современный свами иллюстрировал это следующим примером: это то самое чувство, что заставляет перелетных птиц лететь каждую зиму из одной части света в другую и прилетать именно на то дерево, куда когда-то прилетали её родители, а перед тем – родители её родителей. Нечто родное и знакомое почти на инстинктивном уровне.
Как уже было сказано, «Упанишадами» называется корпус текстов, который по-другому также называют словом «Веданта», то есть «конец Вед» или «вершина Вед». Речь идёт об освобождении и только об освобождении. О Джняне – Знании Естества, Знании Себя как Бра́хмана и Бра́хмана как Себя. Хотя в Упанишадах есть место и космогонии, и ритуалам, однако же и то, и другое в Упанишадах возникает не в качестве некоего самостоятельного аспекта (например, имеющего целью удовлетворение каких-то мирских желаний), а подчинено исключительно одной цели: указанию на выход за пределы, указанию на растворение индивидуального начала в Брахмане.
По сути, Упанишады – это и есть Знание Брахмана. Это синонимы. Они вовсе не очередной источник информационного знания, каких-то философских идей, концепций или сведений о мироздании (а именно так многие поверхностно на них смотрят). К Упанишадам следует относиться как к Гуру, одно прикосновение, один взгляд на которого (или один взгляд которого) способен даровать Спасение от самсары. Слова Упанишад – это не просто слова, а мгновенная свобода, лежащая за пределами слов, и если принимать их именно так, они дадут именно это. В противном случае они могут показаться запутанным мистическим бредом каких-то доисторических блаженных или же чем-то очень умным и философически сложным.
Во многом именно во избежание подобных казусов Упанишады в древности вообще запрещено было передавать неготовым ученикам (о чём прямо сказано во многих Упанишадах). Ученик сначала должен был пройти многолетнюю подготовку – провести в энергетическом поле Мастера долгие годы, наполненные обыкновенным бытовым служением без какого бы то ни было обучения. Кроме того, он должен был быть брамином, уже хорошо знакомым с ритуалами и мантрами других частей Вед и в известной степени утратившим интерес к их составляющей, направленной на мирские достижения. (Редко когда это Знание давалось представителю другой варны, ведь рождение в браминском роде гарантировало по умолчанию высокий уровень – генетически обусловленное благородство, благоприятную культурную обусловленность и соответствующий уровень интеллектуального развития.) В наше время фильтрация происходит иными, менее явными способами, но она есть. Например, даже если книга, которую вы сейчас читаете, и попадёт к человеку, совершенно к ней не готовому, он просто не сможет прочитать её. В лучшем случае – несколько предложений, которые тут же вызовут у него отторжение.
Есть точка зрения, что Упанишады – это знание, которое предназначается исключительно санньясинам (традиционно говоря – браминам, отрекшимся от мирской жизни и в том числе от ритуалов, предписанных Ведами для благой мирской жизни). Шри Раманачарана Тиртха сказал по этому поводу переводчику: «Когда человек хочет этого Знания, качества, которые от него ожидаются, это: абсолютно ничего не желать, отречься от чувства „делания“ и стремления к плодам действий, а также от пристрастий и антипатий. Если это всё присутствует, такой человек уже стал санньясином. Это и есть настоящая санньяса, а вовсе не обритая голова или оранжевая одежда. Всё это тоже имеет место быть, но это „а́шрама-санньяса“. Если же ты оставляешь в стороне всё, что служит помехой твоей медитативности, и выбираешь только Бога, тогда это уже санньяса».
Шри Ади Шанкарачарья же говорил, что единственное условие для передачи и получения Знания Веданты – это вовсе не принадлежность к какой-либо варне или же социальному статусу (вроде ванапраста-а́шрамы или санньяса-а́шрамы), а качество внутренней зрелости ищущего, называемое «мумукшутвой». Мумукшутва – это жажда свободы, искренняя устремлённость к обнаружению Истины.
Традиция говорит о существовании в общей сложности 1180 Упанишад, однако из них человечеству известно лишь около 200, основные из которых образуют канон из 108 Упанишад «Муктика». Каждая Упанишада привязана к одной из четырёх Вед. Эти 108 Муктика-Упанишад делятся в зависимости от направления на «Шайва», «Вайшнава», «Шакти», «Йога», «Санньяса», а также – Упанишады канона «Му́кхья». Слово «мукхья» означает «главные», «основные», «первостепенные». Этот канон образован одиннадцатью (по некоторым данным – десятью) Упанишадами, отобранными в VIII веке Шри Ади Шанкарачарьей и прокомментированными им. Эти Упанишады принято считать самыми древними и важными. Их авторитет был широко признан уже задолго до Шанкарачарьи, и его комментарии этот авторитет закрепили. Упанишады канона «Мукхья» принимаются как Шрути всеми направлениями индуизма. Именно они стали предметом этого перевода:
Брихадараньяка Упанишада
(составит Третий том, идёт работа над переводом)
Чандогья Упанишада
(Второй том, готовится к изданию)
Ишавасья Упанишада
Айтарея Упанишада
Тайттирия Упанишада
Кена Упанишада
Катха Упанишада
Шветашватара Упанишада
Мундака Упанишада
Прашна Упанишада
Мандукья Упанишада
(составили этот том)
Слово «Мукхья» можно перевести также и как «Наивысшие». Как гласит «Шветашватара Упанишада»:
Всепронизывающее Естество —
словно жир в молоке – везде.
Оно корень Са́мо-Позна́ния
и Величие Упанишад,
Наивысших Упанишад.
О переводе
Почему существует так много разных, порой совершенно противоречащих один другому, переводов «Упанишад», да и других священных Писаний, написанных на санскрите? Например, в адвайтических интерпретациях они предстают как тексты, однозначно постулирующие недвойственность, а вайшнавы смотрят на них же совершенно по-иному, в духе двайты. Как такое может быть? Ответ прост: «Санскрит позволяет».
Этот язык называют языком богов не просто потому, что именно на нём записаны Веды и другие священные тексты. И не потому, что Веды считаются апаурушея (нечеловеческого происхождения), что подкрепляет представление о санскрите как языке, воспринятом риши в состоянии медитации. И даже не потому, что звуковая структура санскрита, согласно ведическим данным, отражает космические принципы. Всё это, несомненно, так, но главное проявление его божественности как раз в том, что он интерактивен – он говорит с человеком на том уровне, на котором человек готов – способен и хочет – услышать. Подобно самому Господу (который в Ведах неоднократно характеризуется как исполнитель желаний), сам санскрит – исполняет желания. Как говорит в «Бхагавад Гите» Кришна: «Видь во Мне всё, что видеть желаешь!»
Это многозначный, многослойный язык, порою вполне допускающий и пять, и семь, и десять интерпретаций одного и того же предложения (причём каждая такая интерпретация будет иметь право на существование как грамматически вполне корректная). Многие слова санскрита имеют десятки значений, почти каждая фраза Вед может иметь десятки смыслов и может быть истолкована множеством способов. Перевести эти тексты так, чтобы они оставались столь же многозначными и сохраняли бы в себе хотя бы десятую часть своих исходных значений – невозможно, даже если понимаешь эти значения. По той простой причине, что ни один другой язык не обладает ёмкостью, эргономичностью и интерактивностью, присущими санскриту. Поэтому-то в переводах и создаются многословные комментарии к этим текстам (в сущности, не слишком сложным, если читать их сердцем, а не умом). Поэтому-то и существует так много интерпретаций.
Знакомясь с корпусом переводов Упанишад на английский (и частично на русский), переводчик этого издания встречал иногда абсолютно дикие интерпретации, которые, казалось бы, противоречат даже здравому смыслу, и, однако, в комментариях иногда приводились вполне разумные обоснования этих интерпретаций.
Впрочем, разнообразные интерпретации существуют также и потому, что речь идёт о действительно очень тонких вещах. И всё же по сути своей Упанишады – это тексты достаточно ясные и простые, и лишь в частностях могут производить на современного читателя впечатление туманных и проникнутых неким многозначным мистицизмом.
Мистицизм этот, конечно, есть. Он связан как с отдалённостью от нас этих Писаний во времени (мистицизм, наложенный трансформациями восприятия и языка), так и с тем, что они адресованы в первую очередь браминам, уже хорошо знакомым с предваряющим Упанишады корпусом Вед, с символами и образами этого корпуса, и при этом внутренне готовым выйти за пределы этого корпуса (мистицизм культурных и религиозных символов). Но есть и несколько других причин, по которым в Упанишадах действительно присутствует мистицизм – совершенно особой природы. Это мистицизм таинства, связанный со сложностью оформления в слова настолько высоких и чистых Истин. Кроме того, эти Истины действительно сакральны и эзотеричны, что становится ещё одной причиной такого их оформления, чтобы понять реальное значение этих слов смог бы далеко не каждый, а только хорошо подготовленный (ясный) ум. Остальным же они вполне могут (и даже должны) казаться либо глубокомысленной философией, либо навороченной эзотерикой, либо полной или почти полной бессмыслицей. (Дело к тому же осложняется тем, что большинство переводчиков и смотрели на них как раз одним из указанных способов.) В то время как на самом деле в них выражены самые естественные вещи. Хотя и святые Таинства. (Ведь одно другому никак не мешает.) И в этом смысле Упанишады – это очень естественные и даже простые Послания.
После всего сказанного читатель всё же может задать вопрос: как, однако, определить, какая интерпретация верна, а какая нет? Какой перевод корректен, а какой нет? На этот вопрос можно ответить так: главный и решающий критерий только один, а именно чёткое понимание (или даже непосредственное видение) переводчиком того, о чём говорится в переводимом тексте. Интерпретация должна быть подтверждена садханой переводчика или комментатора, инсайтами, полученными во время этой садханы, инсайтами, согласующимися с утверждениями таких авторитетных Мастеров, как Шри Шанкарачарья и Шри Рамана Махарши. А подтверждён ли перевод истинными инсайтами, читателю становится ясно в процессе чтения – в том случае, если читатель сам пройдёт по представленным в этих текстах указателям и проверит, верны ли связанные с ними утверждения, убедившись на собственном опыте в их истинности или же опровергнув их собственным же опытом. Ведь именно так работает Живое Слово Писаний. Как говорит Муджи, Писание становится священным, будучи подтверждённым в сердце читающего, а до того – это ещё не Священное Писание, а всего лишь ещё один прочитанный или даже непрочитанный текст.
Впрочем, и собственный опыт переводчика тоже не гарантирует полной передачи всех уловленных переводчиком смыслов Писания, поскольку, как уже было сказано, не всё то, что способен вместить и передать санскрит, могут вместить и передать другие языки. Поэтому попытка переводить эти тексты ритмически – это, в числе прочего, жест отчаянья, вызванный осознанием этой невозможности в полной мере адекватно перевести эти Писания на русский язык обычными его средствами. При попытке переводить эти тексты ритмически появляется шанс передать гораздо больше слоёв и смыслов на глубинном энергетическом уровне – минуя фильтры обусловленного ума и избегая большого количества многоярусных ментальных толкований.
Для переводчика эта работа неизменно сопровождалась этим пониманием полной обречённости на провал – самого благотворного ощущения для любой подлинной садханы, ощущения, позволяющего распознать в себе ту силу, которая за пределами любых человеческих возможностей.
Термины и пояснения
В задачи настоящего издания не входит подробное комментирование и разъяснение всего, что может быть непонятным читателю в оригинальном тексте Писаний. Напротив, перевод сделан по возможности так, чтобы у читателя не возникло дополнительной необходимости в каких-либо разъяснениях – так чтобы текст говорил сам за себя и без интерпретаций (хотя всё же кое-где даны необходимые примечания и сноски). Именно с целью по возможности избежать комментирования переведены даже многие труднопереводимые санскритские термины (там, где переводчик нашёл это возможным). Например, для перевода термина «Атман» часто используются слова «Естество» и «Естьность». С другой стороны, некоторые слова оставлены без перевода, так как они вполне могут стать самостоятельными словами русского языка и стоящие за ними понятия в полной мере не передаются ни одним из существующих сейчас в русском языке слов. Например, это касается таких слов, как «тапас» и «джива», которые во многих, хотя не во всех случаях, оставлены в этих переводах в оригинале. Ведь хотя слово «тапас» действительно можно переводить как «аскеза», «подвиг», «труд», но далеко не всегда это в достаточной степени помогает действительно передать суть слова в том контексте, в котором оно звучит.
Однако некоторые комментарии к отдельным стихам всё же сделаны. Знак «+», проставленный рядом с номером или наименованием стиха, означает, что в конце соответствующей Упанишады к этому стиху дан развёрнутый комментарий, разъясняющий, уточняющий или раскрывающий содержание этого стиха, или какого-либо момента в этом стихе (в этом случае также над этим конкретным моментом поставлен знак «*»), или какого-либо нюанса относительно перевода этого стиха.
Упанишады рекомендуется читать вслух – так эти указатели становятся более эффективны даже для самого́ читающего, ведь они изначально оформились в традиции устной передачи Знания, и эта специфика сохранена в представленных здесь переводах.
ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА
Об Упанишаде
«Ишавасья Упанишада» получила своё название по её первым строкам:
īśāvāsyamidaṃ sarvaṃ
«Иша» – это И́швара, Господь. Слово же «васьям» многозначно – его часто переводят как «пронизано», «наполнено», «окутано», «покрыто». Однако в полной мере ни один из этих переводов не передаёт отношений между Господом и тем, что обозначено как «идам сарвам» («вот это всё»), то есть воспринимаемая вселенная. Есть даже интересная версия, что слово «васьям» родственно слову «васана», и таким образом весь этот мир – одна большая васана Господа, то есть некая Его «склонность», скрывающая (очевидно, от Него же самого) истинную природу всего сущего. Впрочем, в этой книге мы без необходимости постараемся не пускаться в дебри подобных интерпретаций. Разъясняющие сноски и комментарии будут даваться только в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть тогда, когда становится совершенно очевидным, что без дополнительных разъяснений основной текст Упанишады останется не совсем понятен читателю, и при этом неясность эта сможет сильно повредить общему восприятию текста (знак "+" означает, что в конце этой Упанишады можно по номеру мантры найти комментарий к ней). Ведь, как уже сказано в основном предисловии к этому изданию, в целом Упанишады – это тексты достаточно ясные и простые.
Однако, вернёмся к «Ишавасья Упанишаде» (хотя она и одна из самых коротких Упанишад, она в то же время и одна из самых сложных, и в ней как раз есть моменты, потребовавшие дополнительных комментариев). Её почитают как одну из самых древних Упанишад (о датировке её оформления ученые спорят, современная наука часто относит её к периоду VI века до н.э., хотя вопрос остаётся открытым). Эта Упанишада представляет собой последнюю главу Шукла-Яджурведы (Яджурведа делится на две части: «Кришна-Яджурведа» и «Шукла-Яджурведа»).
Свами Сарвананда (1885—1970) из ордена Рамакришны, один из многих (но самых авторитетных) переводчиков Упанишад на английский язык, пишет в предисловии к своему переводу: «Согласно анализу Шри Шанкарачарьи, „Ишавасья Упанишада“ прокладывает сразу два пути для духовно-ищущих. Первый путь – путь джняны, для тех, кто склонен к постижению через знание. Второй путь – для тех, кто ещё не достиг необходимой степени развития для посвящения себя Знанию, для полной отдачи себя Богу, для отказа от желаний. Первый путь – для тех зрелых душ, которые уже пресытились выполнением ритуалов, призванных помочь им удовлетворить их мирские желания, и готовы полностью посвятить себя созерцанию истинной природы Атмана. Это единственное, что занимает их. Всё прочее им уже неинтересно. Именно им в первую очередь адресованы стихи 1, а также с 4-го по 8-й. В остальных же стихах так или иначе учитываются интересы и тех, кто всё еще до определенной степени привязан к мирским желаниям. Такие люди, будучи увлечены миром, поклоняются Богу как своего рода всемогущей личности – с целью получить защиту, опору, поддержку, снискать Его милость для достижения мирского счастья или же духовного блаженства, пусть даже и имея в виду некую высшую духовную цель. Вследствие лаконичности этой Упанишады и неясности многих концепций, встречающихся в ней, многие её строфы могут быть интерпретированы по-разному, если не принять эту фундаментальную предпосылку Шанкарачарьи относительно двух путей – пути знания и пути действия – и их взаимной противоположности».
Вот, впрочем, что сам Шанкара говорит в своём вступлении к толкованию «Ишавасья Упанишады»:
«Мантры «Ишавасья Упанишады» не используются в ритуалах, поскольку их цель – просветление, открытие истинной природы Атмана, который не является частью Кармы [то есть ведических ритуалов, направленных на достижение целей].
Истинная природа Атмана <…> состоит в чистоте (неприкосновенности грехом), единстве, вечности, отсутствии тела, вездесущности и прочих качествах, которые противоречат Карме. Поэтому вполне естественно, что эти мантры не используются в ритуалах.
Кроме того, истинная природа Атмана – это не продукт, не модификация, не цель для достижения и не объект, который нуждается в очищении. Она также не связана с деятельностью и наслаждением, чтобы так или иначе быть сопряжённой с Кармой.
Все Упанишады исчерпывающе раскрывают истинную природу Атмана, и такие тексты, как «Бхагавад Гита» и «Мокшадхарма», направлены на ту же цель.
Следовательно, все предписания о Карме обусловлены мирским восприятием, которое приписывает Атману разнообразие, деятельность, наслаждение, нечистоту, греховность и т. д. <…>
Таким образом, эти мантры, просвещая нас о подлинной природе Атмана, устраняют врождённое невежество и приводят к осознанию Его единства, вечности и чистоты, и именно это есть средство для избавления от скорби, заблуждений и прочих аспектов самсары».
Но комментарии Шанкарачарьи к отдельным шлокам действительно содержат классификацию, приведенную выше Свами Сарванандой. Есть, однако, более однозначная интерпретация этой Упанишады. Эта интерпретация дана Свами Вивеканандой, великим учеником Шри Рамакришны. Она сводится к тому, что вся Упанишада без изъятия об одном: видь Бога во всём и живи в соответствии с этим.
Широко распространён и совсем другой взгляд на «Ишавасья Упанишаду» – вайшнавский. Иша (И́швара) при таком взгляде, например, воспринимается не как Брахман-Абсолют, который есть всё, но как Господь Вишну, Высшая личность, обладающая формой и качествами и отличная от джив и материи.
«Всё вот это пронизано Богом» – так звучит уже упомянутая выше первая строка первой мантры этой Упанишады в представленном здесь переводе. Есть знаменитое высказывание Махатмы Ганди по поводу этой строки: «Если все Упанишады и все прочие Писания внезапно превратились бы в пепел, и один только первый стих „Иша Упанишады“ остался бы в памяти индусов, индуизм жил бы вечно».
Фрагмент манускрипта«Ишавасья Упанишады» (стихи 1, 2 и часть 3). XIX в.
ИШАВАСЬЯ УПАНИШАДА
Шанти-мантра+2
- Ом
- Там Полнота, здесь Полнота,
- от Полноты – лишь Полнота есть,
- ведь если отнять от Полноты,
- Полнота Полнотой остаётся.
- Ом Шанти, Шанти, Шанти
- 1.+
- Всё вот это – пронизано Богом,
- Бог повсюду, во всём, в каждой мелочи.
- Всё вкушай в отрешеньи таком.
- Что желать? Ведь всё – это Он.
- 2.
- Если так ты дела вершишь,
- то живи ты хоть сотни лет —
- те дела тебя не запачкают, —
- только так, иначе никак.
- 3.
- Демоническими зовутся
- те миры слепые, унылые,
- где посмертно окажутся души,
- предающие Бога в себе.
- 4.+
- Вне волнений,
- единый,
- всегда до ума,
- в полноте своей
- чувствам-богам* недоступный,
- Он недви́жен,
- но видит движения все —
- в Нём творятся они
- как в пространстве.
- 5.
- Он недвижен и всё-таки движется.
- Далеко Он и всё-таки близко.
- Он внутри всего этого, но
- Он снаружи всего пребывает.
- 6.
- Кто в Себе видит всех и всё,
- и во всём, и во всех – Себя,
- тот теряет страх навсегда,
- ни к чему пристрастий не знает.
- 7.
- А когда ты познал: всё – Ты,
- разве могут какие печали
- иль другие плоды заблуждений
- беспокоить тебя после этого?
- 8.
- Он вездесущий, сияющий,
- не скованный формами, неуязвимый.
- Без жил и без связок, причин или следствий,
- вне добра, вне порока, всевидящий, предначальный.
- Надмирный поэт самосущий,
- основы дающий основам всех оснований.
- 9.
- В зону тьмы погружаются те,
- кто неведенью служит преданно.
- Светит тьма ещё большая тем,
- кто довольство находит в знаниях.
- 10.
- Говорят мудрецы, что ни знания,
- ни неведенье не спасут —
- Суть ни в том, ни в другом, – говорят
- те, кто нам передали Истину.
- 11.
- Понимая: неведенье-знания
- идут вместе, всегда рука об руку,
- ты, пройдя через смерть неведенья,
- обретёшь бессмертие Знанием.
- 12.+
- В зону тьмы погружаются те,
- поклоняется кто пустоте.
- Светит тьма ещё большая тем,
- кто довольство находит в проявленном.
- 13.+
- Эта Истина не в непроявленном,
- эта Истина не в проявлении —
- Суть ни в том, ни в другом, – говорят
- те, кто нам передали Истину.
- 14.+
- Проявление и растворение
- идут вместе, всегда рука об руку,
- и, пройдя через смерть растворением,
- ты бессмертье найдёшь пребыванием.
- 15.
- Золотой плащаницей, покровом
- от меня Твоя Истина скрыта.
- О моё несказа́нное Солнце,
- устрани тот покров, чтоб прозрел я!
- 16.
- Солнце, путник, властитель конечного
- и поддержка всего Ты.
- Ты лучи свои собери воедино,
- направь пучок света в моём направлении,
- чтоб узрел я, преданный полностью Истине,
- Твою форму самую лучшую, из благих благодатную:
- чтоб узрел я, что это Я – это Он.
- 17.
- Пусть воздуху отдано будет дыханье,
- а бессмертному Духу – бессмертное.
- Пусть тленное тело пеплом истлеет навеки.
- Ом!
- Помни волю Его,
- подношением стань Его пламени!
- Помни волю Его,
- подношением стань Его пламени!
- 18.
- О Огонь, благим нас путём
- поведи к цветенью, Всезнающий!
- Отведи соблазны от нас!
- Да святится Имя Твоё!
Так заканчивается «Ишавасья Упанишада»
Комментарии
ШАНТИ-МАНТРА:
- oṁ pūrṇam adaḥ pūrṇam idam
- pūrṇāt pūrṇam udacyate
- pūrṇasya pūrṇam ādāya
- pūrṇam evāvaśiṣyate ||
- oṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
Эта знаменитая шанти-мантра (мантра для настройки ума на восприятие Упанишады) говорит о том, что Полнота (pūrṇatva) по природе своей полна и тогда, когда Она – «там» («То», Неделимое Единое Целое, Ка́рана-Бра́хман), и тогда, когда она представляется воспринимаемой Вселенной, в том числе дживой (мнимо отдельным существом), то есть «здесь» («это», «idam», Ка́рья-Бра́хман). Ведь Она в любом случае остаётся Единым Неделимым Целым, и никогда не уменьшается и не переполнятся. Речь идёт о неизменной Полноте Абсолюта, которая всегда остаётся Полнотой, – о недвойственной Полноте за пределами разграничений на объект и субъект, а не об относительной физической полноте или концепции физической «бесконечности».
«То» («там») и «Это» («здесь») также можно сопоставить с христианским мотивом приведения проявленного мира к гармонии Царства Небесного, о котором молятся в молитве «Отче наш»: «Да приидет Царствие Твое; Да будет воля Твоя и на земле, как на небе».
МАНТРА 1:
- īśāvāsyam idaṁ sarvaṁ yat kiñca jagatyāṁ jagat |
- tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasyasvid dhanam ||
«Всё вот это» (в оригинале «idaṁ sarvaṁ») – «весь воспринимаемый мир», то есть мир, субъективно воспринимаемый личностью через фильтры его обусловленности. «Когда мы принимаем тот факт, что всё это на самом деле Бог, а не то, как мы это воспринимаем, и когда мы тем самым наполняем мир Богом, мы таким образом отрекаемся от своего маленького мирка, признавая, что каждая мельчайшая частица („yat kiñca“) этой вечно меняющейся вселенной („jagatyāṁ jagat“) есть на самом деле Бог», – говорит Шри Раманачарана Тиртха. Вот это и есть подлинное отречение, посредством которого («tena tyaktena») обретается счастье, спасение от страдания, наслаждение жизнью такой, какая она есть («bhuñjīthā»). Видеть во всём Бога, и только Бога, – это подлинная санньяса (отречение от «мира»), а не ритуальная. Йоги Рамсураткумар сказал об этом же: «Если ты хочешь только Бога, почему ты веришь, что существует что-то ещё?»
В свете этого можно дать и более вольный перевод этой шлоки:
- Перекрой весь свой мир лишь Богом,
- Бога видь повсюду, во всём.
- Жизнь вкушай в отреченьи таком.
- Не желай. Всё – Его, и ты – Он.
Последнюю строчку чаще всего переводят так: «Не желай того, что тебе не принадлежит», «Не стремись к чужому богатству». В первых двух строках утверждается, что есть только Бог, и единственный правильный путь – это отречься от какого-либо другого взгляда на мир, кроме как на мир как на воплощение Бога, принадлежащее Богу же (более дуальный вариант: «всё, что происходит, происходит только по воле Бога»). А по поводу последней строки («mā gṛdhaḥ» – «не желай», «не стремись»; «kasyasvid dhanam» – «чьё», «богатство», «ценности») Шанкарачарья говорит так: « [Не желай ничьего богатства] Но чьим может быть богатство? Нет никакого такого чужого богатства, которое кто-либо мог бы желать. То есть: самим созерцанием Ишвары [как всего] всё уже было отринуто [благодаря очевидности], что всё есть только Атман и что следовательно всё принадлежит Атману, который есть всё. Поэтому не желай того, что нереально». То есть: «не желай того, чего нет», ведь любой взгляд на мир и на самого себя как на нечто отдельное от Бога, будет ошибочным и приведёт к выстраиванию воздушных замков и жажде миражей.
Таким образом представленный в тексте перевод этого момента («Что желать? Ведь всё – это Он») – это вольный перевод, который, однако, адекватно отражает суть послания. Дословным же переводом этой строки будет: «Не желай ничего. Ведь всё чьё?».
Не сумев проникнуть в суть приведённого комментария Шанкарачарьи, ум может выдвинуть здесь следующее возражение: «Когда говорится: „Всё – это чьё?“, то тут имеется в виду, что мир принадлежит Богу, а не то, что мир есть сам Бог. Значит буквальный перевод подразумевает двойственность, а поэтический не точен». Для того, чтобы устранить подобного рода сомнения ума, сделаем следующее разъяснение:
Слово «чьё» в данном случае не стоит понимать буквально как «нечто принадлежащее ему, но отдельное от него». Хотя дуалисты склонны толковать эту строчку именно так, это превратное толкование имеет право на существование лишь в целях садханы на относительном уровне. На самом же деле слово «чьё» здесь вообще не подразумевает отдельности или принадлежности. Можно провести аналогию с «частью тела». Мы говорим: «Вот нога, это часть тела, она – принадлежность этого тела». При этом мы четко знаем, что нога не просто принадлежит какому-то телу, а что она его неотъемлемая часть, она вообще не отдельна от тела. Разве нога, будучи частью тела, есть нечто отдельное от тела, но принадлежащее ему (наподобие протеза)? Очевидно, что она тело, а не какая-то отдельно от тела существующая часть. Нога не может рассматриваться отдельно от тела, она не самостоятельная сущность. Так и тут: всё в мире – это как бы части Бога, но части пронизанные Им до мельчайших частиц и никак не отдельные от Него. А в абсолютном смысле у Единства, которое есть Бог, вообще нет частей. Части – изобретение ума. Мы можем смотреть на ногу и говорить о ней как о чем-то отдельным. А когда нас спросят: «К чему, однако, относится данная нога?» Ответ будет: «Ну, вот к этому телу она принадлежит». То есть чья она? Она – его. И однако она – тело, если не делить тело на части, а рассматривать его в его единстве, целостности (таким, каковое оно и есть на самом деле).
Почему, однако, в основном тексте перевода не написано «чьё»? Именно чтобы не смущать ум возможными ложными трактовками, которые могут в нем возникать из-за описанной многозначности слова «чьё».
Впрочем, в оригинальном слове «чьё» есть еще один смысл в контексте этой шлоки: поскольку здесь идёт обращение к дживе с предложением отречься от того, чтобы смотреть на действия как «свои», отказаться от желания получить что-то от этих действий, присвоить себе какой-то обособленный отдельный мирок, задаётся вопрос: «Ты хочешь сделать это своим? Но чьё это на самом деле? Кто Владыка (Ишвара, буквально – владелец) всего этого проявленного мира, никак от Него при этом не отдельного? Это только Бог. Он и Владыка, и Он – сам мир. Так что расслабься. Живи вот в таком отрешении и будь счастлив. Всё в надежных руках».
Как было сказано в Предисловии к этой книге, многозначность стихов Упанишад порой непередаваема. Поэтому там, где она совсем уже не поддаётся полной передаче в рамках стиха, в целях раскрытия этих смыслов мы и даём пословный перевод и разъясняющие комментарии.
МАНТРА 4:
Как правило, «боги» (дэвы) и «демоны» («асуры») в Упанишадах символизируют органы чувственного восприятия (индрии). Функционирование первых просветлено высшим промыслом и святыми Писаниями, а функционирование вторых остаётся во тьме неведенья. Поэтому очень часто, когда речь идёт о «дэвах» (богах) или об «асурах» (демонах), читателю стоит иметь в виду, что это поэтическая форма называния органов чувств, органов восприятия. В переводе же этого конкретного стиха это зафиксировано максимально явно – слово «deváḥ» переведено как «чувства-боги». Многие переводчики на английский (в частности, Свами Сарвананда) переводят здесь его просто как «органы чувств» (senses).
МАНТРЫ 12, 13:
В оригинале на месте слова «пустота» использовано слово asambhūtim, дословно: «не сущее», «не ставшее», «непроявленное».
Поскольку с этим стихом очень сильно перекликается стих 7.24 «Бхагавад Гиты», приведём его здесь вместе с комментарием Шри Раманачарана Тиртхи3.
«Непроя́вленным», «прояви́вшимся»
полага́ют Меня неразу́мные.
Но приро́да Моя вне преде́лов каких-либо,
вне поня́тий и вне переме́н.
Шри Раманачарана Тиртха: «Ключевые слова этого стиха – это paraṃ bhāvam, что означает: трансцендентная природа [запредельная природа]. <…> āvyayam – нетленная, anuttamam – ни с чем не сравнимая, сверхчистая.
Бог уже случился с нами как само наше Естество. Поэтому Шрути называют его aparoksha – непосредственное, неотложное Естество. Он непосредственный. Он всегда здесь как наше внутреннее Осознавание, как «Я ЕСТЬ». «Я есть» одновременно и не имеет формы, и не непроявленно. Оно – несомненное Осознавание, переживаемое здесь и сейчас как сама наша Бытийность. Не обращая на неё внимания, заблуждающиеся существа говорят о Боге либо как о личности – vyakti, либо как о бесформенном, непроявленном – avyakta. Но Он ни воплощённое существо, ни непроявленное. Он все-освещающее сияние, swayamprakāśa – само-сияющая Реальность.
Этот стих также комментируют многие комментаторы еще двумя способами. Некоторые определяют Кришну как avyakta. Они говорят, что только заблуждающийся думает о Нем как о vyakti, индивидууме. А другая интерпретация гласит, что vyaktim āpannaṃ avyaktaṃ manyante означает: «Я Верховная Личность, но люди думают обо Мне как о непроявленном». В действительности как проявленное, так и непроявленное принадлежат природе [пракрити]. Когда что-то появляется в форме, это как наши состояния бодрствования и сна со сновидениями, а бесформенное родственно состоянию глубокого сна [без сновидений]. В состояниях бодрствования и сновидения имена и формы схватываются посредством органов чувств и ума. А о глубоком сне, где мы не схватываем их, мы говорим, что там они не проявлены. Брахман ни проявлен, ни непроявлен. Он – сама природа Экспириенса, aham, «Я». Вот почему Бхагаван называет это paraṃ bhāvam. Хотя мы и переживаем Его как наше собственное «Я», но распознавание того, что это и есть Брахман, еще не снизошло на нас. Это paraṃ bhāvam ajānantah. Нечто за пределами как проявленного, так и непроявленного. Это anuttamam, то есть ни с чем не сравнимое. Ничто не может быть благороднее, лучше или совершеннее, чем То. И оно доступно всегда как само наше Существование, сама наша Осознанность, наша реальная природа. <…>
Вот точный комментарий на этот стих: и vyaktimāpannaṃ, и avyaktaṃ – это заблуждения. Господь ни avyakta, ни vyaktа. Он aparoksha. То, что названо здесь словами paraṃ bhāvam, āvyayam и anuttamam.
Для этого термина «avyaktaṃ vyaktim āpannaṃ» Шанкарачарья дает прекрасный комментарий. Он говорит: «Естество есть nitya-prasiddham – всегда-доступное. Оно никогда не непроявленное, никогда не avyakta». Из этой интерпретации совершенно ясно, что Шанкарачарья отметает и avyaktaṃ, vyaktimāpannaṃ. Он говорит, что Бхагаван ни avyakta, ни vyaktа. Он за пределами vyaktа и avyakta. Он всегда доступен как Естество, как «Я». Не зная этого, люди думают: «До сих пор Бхагаван был непроявленным, а теперь он стал проявленным», или же: «До сих пор он был незнаемым, а теперь он знаемый». (То есть: до тех пор, пока не достигнута джняна, Брахман неве́дом, а когда джняна достигнута, он становится ве́домым.) Однако те, кто думают о Брахмане как о неведомом или ведомом, называются avivekinaḥ, mūdhāḥ – неразумными и дураками. Потому что Брахман ни неведом, ни непроявлен, так же как и не является Он знаемым или проявленным. Он сам Знающий – Чистая Осознанность. Естество всегда здесь».
- МАНТРА 14:
- saṃbhūtiṃ ca vināśaṃ ca yastad vedobhayaṃ saha |
- vināśena mṛtyuṃ tīrtvā saṃbhūtyāmṛtam aśnute ||
Пословный перевод:
saṃbhūtim – проявление, становление, возникновение; ca – и; vināśam – разрушение (небытие); ca – и; yaḥ – тот, кто; tat – это; veda – знает; ubhayaṃ – оба; saha – вместе; vināśena – посредством разрушения; mṛtyum – смерть; tīrtvā – преодолев; saṃbhūtyā – посредством существования; amṛtam – бессмертие; aśnute – достигает
В силу многоуровневой природы санскрита (см. Предисловие к наст. изданию) и глубокой эзотеричности Послания существует очень большое количество самых разнообразных вариантов переводов на английский язык и интерпретаций мантр 12, 13 и 14 – даже внутри традиции Адвайта-Веданты, не говоря уже о других традициях. Здесь дан перевод, согласованный с интерпретацией, которая видится переводчику как наиболее адекватная изначальному Посланию, а именно: тот, кто, испив всю чашу до дна, то есть пройдя через иллюзорную смертность и преодолев эту смертность проявленного мира, пракрити, обнаруживает, что непроявленное – лишь обратная сторона проявленного, находит бессмертие в бытии за пределами и проявленного, и непроявленного (см. также комментарий Шри Раманачарана Тиртхи, приведенный в сноске к предыдущим двум стихам).
Если же брать за основу толкование Шанкарачарьи (где «Я-Естьность» равна концепции Хираньягарбхы, то есть «первого проявления», «космического ума»), перевод в этом случае может звучать так:
- Проявление с непроявленным
- идут вместе, всегда рука об руку.
- В непроявленном смерть познавая,
- обретаешь бессмертье в Я-Естьности.
А толкование будет таким: когда тело умирает и мы видим его смертную природу как природу всего «непроявленного», суть самого «небытия», мы в то же время отчетливо переживаем, что наше корневое ощущение своего существования как чистого, ни с чем не смешанного чувства «Я Есть» неподвержено смерти, и тем самым распознаём, что мы бессмертны.
Как сказал Шри Раманачарана Тиртха по поводу этих стихов «Ишавасья Упанишады» автору представленных в настоящем издании переводов: «В этих мантрах много всего. Можно рассматривать их с точки зрения очень многих измерений. Уже только эти три мантры можно продолжать раскрывать и исследовать бесконечно. Можно бесконечно долго говорить даже только о том, как их интерпретировал Шанкарачарья. И после этого – открывать, открывать, открывать, исследовать. Очень многое в них заложено. Шанкарачарья говорит об этом „Devatā-vijñānam“ [„Божья наука“]».
Еще один вариант перевода, отражающий еще одну из многих возможных интерпретаций:
Проявление с непроявленным
идут вместе, всегда рука об руку.
Умирая страданьями мира,
смертью смерть поправ, найдёшь вечность.
Шри Раманачарана Тиртха: «У Бхагавана Раманы Махарши был опыт переживания смерти в течение нескольких минут. Но когда истинное различение возникает в вас, тот же самый процесс медленно начинается в вас, и это – вайрагья. Вы начинаете видеть, что повсюду бродит смерть. Так говорят Упанишады: смерть слоняется вокруг вас, в разных формах. Человек становится пробуждён, он начинает видеть, что больше не может соблазнять себя какой-то поверхностной жизнью. Деньги не помогут ему. Здоровье не поможет ему. Ни родственники, ни друзья, ни его собственное тело. И всё, что он знает, он забудет, он не может этого удержать. И тогда он ищет что-то, не сделанное из материи или мыслей. То, что вечно. И вот когда ты в таком состоянии, то одного лишь слова Мастера – достаточно. Вот почему Упанишады сделали это таким простым: „Ты есть То“ – кончено. „Я – это Брахман“, и всё. То, что мы переживаем как „Я есть“, – это Брахман. Ахам Брахмасми. Та Истина, которую ты ищешь, сияет в самом центре тебя».
АЙТАРЕЯ УПАНИШАДА
Об Упанишаде
Второе название «Айтарея Упанишады» – «Бахврича Упанишада», что означает «Упанишада многих ригов», то есть Упанишада многих гимнов Ригведы. «Бахврича» – это указание на бахвричу-шакху, то есть ветвь (śākhā) Ригведы, к которой относится эта Упанишада. Тут стоит пояснить, что такое шакха. В ходе устной передачи Вед от учителя к ученику в течение тысячелетий постепенно в разных регионах и у разных групп браминов развивались свои уникальные способы произнесения, запоминания и интерпретации ведических текстов. Эти различия привели к возникновению множества «ветвей», или «школ», каждая из которых имела свою версию (шакху) той или иной Веды, зачастую отличавшуюся от других шакх – иногда минимально, а иногда существенно. Иногда та или иная шакха (или, можно сказать, редакция Веды) имела уникальные, только ей присущие Брахманы, Араньяки и Упанишады.
Итак, «Айтарея Упанишада» входит в состав Ригведы, а конкретно – в состав бахврича-шакхи Ригведы, а еще конкретнее – в состав «Айтарея Араньяки», которая приписывается мудрецу Махидасе Айтареи. Об этом мудреце известно, что его мать была низкого, небраминского происхождения, и даже отец поэтому относился к нему с пренебрежением, так что сыну пришлось пробивать себе дорогу к духовным вершинам собственным трудом (в то время как для браминов этот путь по умолчанию открыт как прямая дорога). В итоге Махидаса Айтарея, благодаря своему та́пасу и молитвам матери, стал великим аскетом и снискал особое расположение божеств.
По оценкам ученых, «Айтарея Упанишада» датируется VI—V веками до н.э., но не будем забывать, что все эти датировки условны и что сами Веды, согласно традиционному взгляду, – вне времени. Они не имеют начала и были всегда.
Некоторые исследователи считают, что вся вторая Араньяка «Айтарея Араньяки» может быть названа Упанишадой, однако Шанкарачарья утвердил точку зрения, согласно которой Упанишадой могут быть названы лишь последние шесть частей второй Араньяки, поскольку именно в них речь идёт об Атмане. (В предшествующих же главах говорится о Пране и Брахме как о Первопричине вселенной и подробно излагаются ритуалы и медитации, связанные с Пранавидьей.) В своём комментарии Шанкара говорит: именно эти части Араньяки, то есть собственно «Айтарея Упанишада», «предназначаются для наиболее возвышенных и стремящихся к полному освобождению от мирских уз», в то время как другие части «Айтарея Араньяки» – «для не столь совершенных или для занятых лишь мирскими обязанностями».
Главные концептуальные составляющие «Айтарея Упанишады» (которые, в то же время, вовсе не самое главное, что содержится в ней) выглядят так:
1. Атман, и только Атман, есть основа этой вселенной (при этом термином «Атман» конкретно в этой Упанишаде обозначена именно Всевышняя Абсолютная Реальность, то есть Параматман, он же Брахман – сущностная основа всего, что есть, – вездесущее, всеобъемлющее Целое);
2. В реальности нет ничего, кроме Атмана;
3. Атман есть Праджняна, или Чистое Сознание, сущностное Я человека. Визитной карточкой этой Упанишады считается одна из четырёх махавакий (великих изречений) всех Упанишад: «prajñānam brahma», то есть «Сознание есть Брахман»;
4. Праджняна (Атман) стал всем – от Индры и Праджапати (создателя всего мира и всех существ) до любого плотного творения;
5. Тот, кто обладает глубоким и непосредственным осознаванием этого единого и единственного Атмана, достигает бессмертия. Это есть Брахмавидья, Знание Брахмана.
Можно сказать, что эта небольшая Упанишада очень сжато передает как космогонию, так и суть Брахмавидьи. Однако всё это лишь слова. Главное, несомненно, скрыто на тонком вибрационном уровне. Как и все Упанишады, «Айтарея Упанишада» не что иное, как прямая передача истинного Знания, и её нужно читать Сердцем, а не умом.
АЙТАРЕЯ УПАНИШАДА
Шанти-мантра
- Пусть слова мои будут в соответствии с мыслями,
- и пусть мысли словам соответствуют.
- Мне открой Себя, Бра́хман само-сияющий,
- так чтоб ум мой и слово могли бы постичь
- то, что передано в Писаниях!
- И пусть эти заветы святые Вед
- не покинут меня никогда!
- Ночь пусть станет единою с днём
- в этой Истине, и да буду всегда я
- думать Истину, Истину речь!
- И пусть это прибежищем станет
- для меня и надёжной защитою,
- пусть прибежищем станет это
- и защитою для учителя!
- И защитою для учителя!
- Ом шанти шанти шанти!
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава Первая
- 1.1.1
- Был лишь Атман вначале, всё это
- было Атманом только, другого
- ничего не мерцало даже.
- Он решил: «А теперь я создам миры».
- 1.1.2
- Сотворил Он миры такие:
- А́мба – мир облаков небесных;
- Маричи́ – мир лучей светоносных;
- Ма́ра-мир – земля, поле смертного;
- А́пах – мир подземных вод первозданных.
- 1.1.3
- «Вот миры, – сказал Атман, – вот есть они!
- А теперь подобает мирам тем
- дать хранителей».
- И прояви́л Он
- из воды беспредельной Пуру́шу4,
- и оформил Его как Я-естьность.
- 1.1.4
- Сидя так над Пурушей, словно птица в гнезде на яйце,
- Атман рот изваял, а из рта вывел речь,
- а из речи вышел Огонь.
- Были явлены ноздри, из ноздрей пошёл дух,
- а из духа-дыхания – воздух.
- И возникли глаза, а из глаз вышло зрение,
- а из зрения Солнце взошло.
- Были явлены уши, из них пошёл слух —
- и четыре стороны света.
- Кожа выросла, с кожей же – волосы,
- с волосами – трава и деревья.
- Сердце тоже открылось, из сердца же – ум,
- из ума возникла Луна.
- Пуп оформился, выдох – с пупо́м,
- а из выдоха – Смерть родила́сь.
- И возник детородный о́рган,
- из которого семя возникло,
- а из семени – во́ды земные.
Глава Вторая
- 1.2.1
- Так те боги явились и па́ли
- в океан бытия великий.
- Наделил их Создатель жаждой и голодом,
- и просили они Его:
- «Сотвори для нас место, в котором
- мы могли б утвердиться и есть».
- 1.2.2
- Он привёл им корову, сказали они:
- «Недостаточно это поистине».
- Лошадь Он им привёл, но сказали они:
- «Недостаточно это поистине».
- Он явил человека: «Вот это —
- хорошо воистину, ладно».
- Он сказал: «Что ж, войдите тогда
- и займите свои места».
- 1.2.3—4
- И стал речью Огонь,
- и вошёл Огонь в рот.
- Стал дыханием Воздух,
- и в нос он вошёл.
- Солнце зрением стало,
- в оба глаза вошло.
- А четыре стороны света
- стали слухом, вошли они в уши.
- Волосами стал бог растений
- и обрёл своё место в коже.
- И, умом обернувшись, Луна
- обнаружила место в сердце.
- Смерть явилась как выдох, вошла
- и нашла своё место в пупке.
- Ну а семенем став, бог воды
- вошёл в детородный орган.
- 1.2.5
- Голод с жаждой сказали Ему:
- «Подыщи для нас место тоже».
- Он сказал: «Меж божеств
- этих всех разделитесь,
- соучаствуйте в них и в местах их».
- Так в любом подношении богу любому
- голод с жаждою стали участвовать.
Глава Третья
- 1.3.1
- Посмотрел Он: «Вот есть миры
- и хранители этих миров.
- А теперь создам для них пищу».
- 1.3.2
- Он вгляделся в глубины вод,
- и из вод оформился сгусток.
- Этот сгусток был пищей воистину.
- 1.3.3
- Сотворённая пища пыталась сбежать,
- Он пытался держать её речью,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли бы мы попросту словом.
- 1.3.4
- Удержать дыханьем пытался,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли бы мы попросту запахом.
- 1.3.5
- Удержать попытался зрением,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли бы мы видом еды.
- 1.3.6
- Удержать попытался слухом,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли бы мы, слушая.
- 1.3.7
- Удержать попытался кожей,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли б мы касанием.
- 1.3.8
- Удержать попытался умом,
- но не смог, ведь если бы смог,
- то наесться могли бы мы думаньем.
- 1.3.9
- Удержать попытался органом
- детородным, не смог, – ведь если бы,
- наедались бы воспроизводством.
- 1.3.10
- Удержать попытался Апа́ной5,
- и поймал её, так что Апа́на —
- это воздух, которым дышит
- усвоение пищи телом.
- 1.3.11
- Он спросил себя: «Как сможет тело
- без Меня пребывать?
- И как
- Мне войти в него?
- Речь – называет,
- обоняет дыханье,
- чувствует кожа,
- думает ум,
- поглощает Апа́на,
- детородный же член выделяет.
- В чём найду себя Я тогда?»
- 1.3.12+
- Щель на черепе Он отворил
- и проник в эту дверь-расщелину —
- эта дверь зовётся проходом,
- где Дитя Блаженства рождается,
- обретая три дома, три образа,
- три пространства-образа-сна,
- три пространства-образа-сна,
- три пространства-образа-сна*.
- 1.3.13
- Так родившись, нарёк Он все вещи,
- но узрел, что все имена —
- имена лишь Его одного,
- Он узрел: любой лик – это Бра́хман,
- и воскликнул: «Узрел Я воистину!»,
- прозвучало это: «Инда́ндра!»
- Стало Именем это Его,
- разлетевшись эхом как «Индра».
- Любят боги загадки воистину!
- Любят боги загадки воистину!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
2.1.1
(Несущие плод должны покинуть сатсанг, пока поётся эта глава.)
- Поначалу в теле душа станет семенем,
- называется семя то завязью.
- Это семя – эссенция силы-энергии,
- что хранилась во всех частях тела мужского.
- Когда муж извергает то семя в женщину,
- он себя размножает, и это зовётся
- рождением первым души.
- 2.1.2
- И становится семя единым
- с этой женщиной, словно бы если
- оно было её продолжением,
- и тем самым не причиняет
- никакой ей боли то семя.
- И питает она Естество то,
- из мужчины в неё вошедшее.
- 2.1.3
- Защищая-питая тот плод,
- и она должна быть напитана.
- И мужчина питает её,
- пока носит она в своём лоне,
- и когда от плода́ разрешается,
- он впоследствии тоже хранит.
- Ведь тот плод и есть сам мужчина.
- И на том этот мир стоит.
- Только этим миры продолжаются.
- Таково второе рождение.
- 2.1.4
- И дитя, который воистину
- сам не кто другой, как отец —
- Естество отцово, что явлено
- в этом новом теле ребенка, —
- продолжает вершить, что назначено,
- занимая место отца.
- А отец, завершая дела,
- обретает ветхость, уходит,
- а уйдя, рождается вновь.
- Таково рождение третье.
- 2.1.5
- Вот что риши сказал об этом:
- «Я в утробе матери зрел
- все рожденья богов,
- заточён был
- сотней стен и оград железных.
- Я разбил их одним ударом
- и легко я вышел на волю!»
- Вамадэ́ва так говорил,
- пребывая во чреве матери.
- 2.1.6
- Так мудрец разрушает оковы,
- отделяя себя от тела,
- разрешая желаний препоны,
- воспаряя на Небо, в рай,
- обретая Бессмертие вечное,
- оставаясь самим Бессмертием.
(Несущие плод могут вернуться в зал.)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- 3.1.1
- Кто же Он, Тот, которому мы поклоняемся?
- Что Он такое, единый тот Атман, и где Он?
- Он воистину То, что видит все формы,
- что слышит все звуки,
- То, что запахи знает, что речью звучит,
- отличает от сладкого горькое То.
- 3.1.2
- Он и сердце, и ум. Восприятие, распознавание,
- различение и понимание, концентрации сила,
- внимания и рассуждения,
- объяснения, памяти,
- к цели стремления, жизнеспособности,
- Он любовь, и желания, и вожделения сила.
- Это всё имена Одного – Сознания, Пра́джни.
- 3.1.3
- Это Бра́хман, Отец всего сущего —
- всех богов и вселенной пяти элементов великих:
- воздух, небо, земля, и вода, и огонь – все они
- размешались в пропорциях разных во всех проявлениях —
- и во всех семенах, и во всём, что рождается —
- из яйца ли, из чрева, из влаги или из почвы;
- в лошадях и в коровах, в слонах и в букашках, и в прочем
- всём, что ходит, летает, и движется или не движется.
- Всё ведо́мо Сознанием, Пра́джней,
- весь мир лишь на Нём установлен,
- и поэтому Пра́джня, Сознание – это есть Брахман.
- 3.1.4
- Тот, кто так осознал своё Естество-Сознание,
- разрешает желаний препоны и ввысь воспаряет блаженно,
- обретая Бессмертие вечное,
- оставаясь самим Бессмертием.
Так заканчивается «Айтарея Упанишада»
Комментарии
- 1.3.12:
- Щель на черепе Он отворил
- и проник в эту дверь-расщелину —
- эта дверь зовётся проходом,
- где Дитя Блаженства рождается,
- обретая три дома, три образа,
- три пространства-образа-сна,
- три пространства-образа-сна,
- три пространства-образа-сна.
Дитя Блаженства – это сын Параматмана (Брахмана), которого в описываемом моменте можно назвать «Дживатман» (то есть это Атман, как бы «ставший» дживой, Атман, проявленный или воспринимаемый как индивидуальное сознание, обусловленное посредством самоотождествления с телом и умом. Когда Творец как Дживатман входит в тело, у него есть три дома, три измерения (пространства) и три соответствующих ему образа (отождествления): состояние бодрствования, состояние сна со сновидениями, состояние глубокого сна без сновидений. Поскольку состояние бодрствования – это тоже, по сути своей, «сон Бога» в отождествлённости с формой, все три названы «образами-снами». Подробности на эту тему даны в «Мандукья Упанишаде», а также в Приложении к ней, опубликованном в этом издании синопсисе «Мандукья Карика», представленном Свами Тьягишанандой.
Единственным поистине пробуждённым состоянием, состоянием не-сна («Турья», состояние-вне-состояний) можно назвать абсолютное, непрерывное, постоянное само-распознавание Сознания-Брахмана.
ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАДА
Об Упанишаде
«Тайттирия Упанишада» входит в состав Кришна-Яджурведы, представляя собой три главы «Тайттирия Араньяки», входящей в эту Веду. Фиксация «Тайттирии» датируется примерно VI—IV веками до н.э., хотя точное время остаётся предметом дискуссий.
Это одна из важнейших Упанишад. В ней сжато и достаточно просто изложены все основные доктрины Веданты.
«Тайттирия Самхита». Манускрипт на пальмовом листе, XIX в.
С названием «Тайттирия» связана следующая история: мудрец Яджнавалкья получил Знание Яджурведы от мудреца Вайшампаяны. Будучи очень продвинутым, гениальным учеником, обладавшим сверхспособностями, Яджнавалкья в некоторый момент стал проявлять признаки гордыни, чем вызвал праведное негодование Мастера. Вайшампаяна велел ученику вернуть полученную им Яджурведу, и тогда Яджнавалкья изверг (в буквальном смысле) этот текст на землю. Вайшампаяна велел другим своим ученикам принять облик тайттири (тетеревов или, согласно более распространенным версиям, перепелов или куропаток) и склевать эти бесценные знания. Так возникла «Тайттирия Самхита». Поскольку перепела малы по размеру, но очень подвижны и осторожны, посыл этой истории, согласно одной из интерпретаций, в том, чтобы вселить в учеников дух этих птиц – дух осторожности, бдительности и рачительности в поисках знания.
Уникальность этой Упанишады в том, что она указывает на природу Брахмана как прямым, так и косвенным способом. Что это значит? В Упанишадах знание передаётся через так называемые «ла́кшана-ври́тти», методы указания на истину. Существуют два типа таких лакшан: «татастха-лакшана» – это косвенное указание, Брахман определяется в них через связь с известными явлениями. Например, широко известное: «Я поклоняюсь тому Брахману, из которого возникло всё Творение». Здесь не говорится прямо о том, что такое Брахман, а только то, что Он – То, из чего или благодаря чему возник мир. То есть дано определение через некий вторичный признак. Это подобно тому, как если бы мы на вопрос о том, «виден ли ваш дом отсюда и, если да, то какой именно это дом?», отвечали бы: «Это тот дом, прямо над которым сейчас летит вон та птица».
Второй метод называется «сварупа-лакшана». Это прямое указание. В случае с «Тайттирией» такой прямой сущностной ла́кшаной стала легендарная мантра «Satyam Jñānam Anantam Brahma» – «Бра́хман – Знание, Жизнь, Бесконечность», или в прозаическом дословном переводе: «Брахман – это Бытие, Знание и Беспредельность». Это указание непосредственно на Брахман вне зависимости от того, имеет ли Он какое-то отношение к творению, – указание вообще вне каких-либо связей с чем-либо (вне качеств, гун, атрибутов, действий). Эта «сварупа-лакшана» указывает на Брахман как Он есть. (Другая широко известная «сварупа-лакшана», указующая на Брахман прямо, звучит как «Saccidānanda», «Бытие-Сознание-Блаженство»).
В каждом слове мантры «Satyam Jñānam Anantam Brahma» содержится смысловой ряд, который тут же разворачивает ум от мира воспринимаемых отдельных вещей к всеобъемлющей Целостности. И это не какие-то абстрактные понятия, а то, что глубоко в сердце известно каждому человеку, а потому отзывающееся внутри:
– Слово «Брахман» переводится как «нечто очень большое» (а безотносительно к каким-либо сравнительным характеристикам «большое» есть не что иное, как «всеобъемлющее», «безгранично огромное»).
– Слово «Анантам» переводится как «не имеющее границ», «беспредельное», «не имеющее конца» (не имеющее никаких границ в пространстве, то есть вездесущее; не имеющее границ во времени, то есть бесконечное, вечное; не имеющее границ отождествления с конкретным объектом, то есть единое неделимое целое, вне которого нет ничего другого).
– Вариантами перевода слова «Сатьям» могут быть: «Бытие», «Естьность», «Естество», «Реальность», «Истина». Все они, однако, по своей сути, синонимичны истинному значению слова «Жизнь». Это То, что на самом деле Есть. То, что воистину существует. То одно, что по-настоящему может называться Живым – Жизнь Вечная, неподверженная смерти, не имеющая «смерть» в качестве своей противоположности. «Сат» – Чистое, не ограниченное формой, временем и пространством Существование. «То, что существует, никогда не может не существовать», как гласит «Бхагавад Гита».
– «Гнянам» – то Знание, которое, опять же, не ограничено временем, пространством, формами. Чистое непрерывное бесконечное Сознание, Осознавание (не Осознавание какой-то конкретной вещи или явления, а Осознавание само по себе, «Чит»).
По своей структуре «Тайттирия Упанишада» универсальна: включает в себя как признаки «Ка́рма-ка́нды» (аспекта Вед, уделяющего внимание дисциплине, ритуалам, медитациям, этике и морали в повседневной жизни и т. п. – в основном такова первая часть Упанишады), так и чистую «Джняна-канду», главный фокус внимания которой – мокша, окончательное освобождение, са́мо-реализация6. Вторая часть раскрывает концепцию Анандамая-Брахмана (Брахмана как высшего Блаженства). Здесь описывается порядок творения:
– Из Брахмана возник эфир,
– Из эфира – воздух,
– Из воздуха – огонь,
– Из огня – вода,
– Из воды – земля,
– Из земли – растения,
– Из растений – пища,
– Из пищи – человек.
В третьей части подробно описана концепция пяти кош (оболочек). Стоит заметить, что эта концепция – основа не только ведантического учения о трёх телах и пяти оболочках, но и многих русских народных сказок, ведь все мы с детства помним, где находится смерть олицетворенного эго – «Кощея беса смертного», чье имя, несомненно, происходит от санскритского слова «коша». Впрочем, Бессмертным он называется не потому, что он действительно «бес смертный». Ведь Кощей – это сам Хираньягарбха, первая джива, от которой пошло всё Творение, чистая «Я-Естьность», которая на самом деле бессмертна как Брахман, что становится очевидным, когда посредством героического само-исследования (тапаса) сломана игла смертного эго я-мысли, то есть преодолена последняя из кош. В русских народных сказках этот путь само-исследования, который Герой проходит ради Любви, пролегает через те же пять кош.
ТАЙТТИРИЯ УПАНИШАДА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ШИКША-ВАЛЛИ
Анувака 1
- Шанти-мантра+
- Ом
- Будь к нам благ, о Ми́тра7, будь милостив!
- Будь к нам благ, Вару́на, будь милостив!
- Будь к нам благ, Арьяма́н, будь милостив!
- И́ндра – милостив! Брихаспати́!
- Вездесущий Ви́шну, будь милостив!
- Слава Бра́хману! Поклон тебе, Ва́ю!
- Ведь воистину, Ты – сам Брахман!
- Подтвердить я хочу, что Ты Брахман!
- В этой правде Твоей утвердиться!
- Утвердиться, что Ты есть Истина!
- Мне на это своё дозволение
- ниспошли, свою милость, содействие!
- И наставника благослови!
- И наставника благослови!
- Ом шанти шанти шанти
Анувака 2
- 1.2.1
- Ом
- Нам начать с уяснения следует
- произношения точного звуков —
- долготы́, ударений, то́на,
- меры, скорости, слов сочетаний, —
- это всё изучить нам следует,
- чтобы точно усвоить послание.
Анувака 3
- 1.3.1
- Да святимся мы светом Бра́хмана,
- светом ясным Знания Истины!
- Для начала нужно внимательно
- рассмотреть соеди́нство пяти:
- перво-мира, первичного света,
- перво-знания, перво-рождения,
- изначального образа «Я».
- Эти пять пра-причин, соединившись,
- образуют великий союз.
- 1.3.2
- Перво-мира форма первичная
- есть земля, пра-материя-мать;
- небосвод – последняя форма;
- атмосфера – пространство меж ними;
- воздух – средство для их со-общения.
- Так мы смотрим на перво-мир.
- 1.3.3
- Перво-света форма первичная
- есть огонь, а солнце – последняя,
- а вода – пространство меж ними,
- ну а молния – их со-общение.
- Так мы смотрим на перво-свет.
- 1.3.4
- Перво-знания первая форма
- есть учитель, а ученик
- есть его последняя форма,
- обучение – поле меж ними,
- повторение – средство связи.
- Так мы смотрим на перво-знание.
- 1.3.5
- Пра-рождения форма первая —
- это мать, отец же – последняя.
- Дети – поле меж ними, соитие —
- это средство для их со-общения.
- Так мы смотрим на перво-рождение.
- 1.3.6
- Перво-образа «Я» перво-форма
- заключается в нижнем замке́,
- а последняя форма – в верхнем,
- местом встречи для них будет речь,
- ну а средством встречи – язык.
- Так мы смотрим на «Я» -перво-образ.
- 1.3.7
- Ну а вместе это зовётся
- соединством, великим союзом.
- Кто познал суть союза великого,
- созерцая то, что здесь сказано,
- обретает богатства райские —
- будет счастлив в потомстве, в достатке,
- воссияет светом небесным.
Анувака 4
- 1.4.1
- Из гимнов славных великий самый,
- в бессчётных формах Бессмертья отзвук
- и в Ведах всех прозвучавший свято,
- о Бог богов, дай ума мне силу!
- Открой Бессмертья секрет мне ныне!
- Пусть это тело способным будет
- принять такое, пусть язык и уши
- помогут высшему во мне свершиться!
- Молю, пусть ум мой воспринять сумеет
- ту тайну Бра́хмана, что вечно скрыта,
- и помоги остаться мне навеки
- с тем Знанием открывшимся в Единстве твёрдом.
- 1.4.2
- Ну а после, не раньше, достаток
- ниспошли мне: питьё и питание,
- и одежду – пусть в процветании
- я пребуду, всегда во благо!
- Пусть приходят ученики
- в чистоте душевной – во благо!
- Отовсюду стекаются пусть,
- постигая мудрость – во благо!
- И пусть будет их много, и пусть
- прибывают путями разными,
- но готовы пусть будут они
- и умом, и телом – во благо!
- И я буду прославлен – во благо!
- И я буду самым богатым,
- ведь одним я буду с Тобою,
- и Ты будешь во мне, о Боже,
- пребывая как Я, – во благо!
- Пусть в Тебе, многоликом единстве,
- «Я» найдет очищенье – во благо!
- О Создатель и благ Податель,
- пусть стекаются, словно реки
- к океану, как месяцы – к году,
- отовсюду ученики
- и со мной пребывают – во благо!
- Ты для всех – ближе близкого, Дом,
- отдаюсь Тебе полностью, в свете
- Ты своём меня раствори!
Анувака 5
- 1.5.1
- Бур, Бува́х, Суваха́ —
- три рече́ния-таинства,
- а четвёртое – Ма́ха – открылось
- Риши Махачама́сье.
- Это Брахман, Он – Естество.
- Боги все – Его проявления.
- Бур – земля, этот мир, Бува́х —
- меж землёю и небом пространство,
- Суваха́ – небесная сфера,
- ну а Ма́ха – Светило-солнце,
- все планеты растут лишь Им.
- 1.5.2
- Бур – воистину есть огонь,
- а Бува́х – это воздух-Ва́ю,
- Суваха́ по сути есть солнце,
- Ма́ха есть по сути луна,
- ведь свой свет из луны извлекает
- всё, что светится светом на свете.
- 1.5.3
- Бур – Ригведа, Бува́х – Самаве́да,
- Суваха – Яджурве́да, а Ма́ха —
- это Бра́хман, То, из которого
- Веды все свою мощь получают.
- 1.5.4
- Бур есть прана, вдох, а Бува́х
- есть апа́на, выдох, а вья́на —
- то, что движет воздухом в теле, —
- это есть Суваха́, ну а Ма́ха —
- это пища, ведь пища даёт
- силу всем энергиям в теле.
- 1.5.5
- Те четыре речения-таинства
- в четырёх здесь разрядах описаны.
- Тот, кто знает их, знает Бра́хмана,
- и все боги приносят дары ему.
Анувака 6
- 1.6.1—2
- Внутри Сердца – пространство, то самое,
- где бессмертный сияющий Дух,
- Высший Разум, Душа золотая.
- Меж двух неб два пути пролегают,
- между ними сушу́мна проходит
- сквозь родник, там, где волосы сходятся
- меж двух стен черепного ларца.
- Эта точка – вход ко Всевышнему.
- Проходя сквозь тот вход, попадаешь в огонь,
- обретая единство с Бур,
- и сливаешься с воздухом-Ва́ю,
- обретая единство с Бува́х.
- Ты сливаешься с солнцем,
- Единым становишься
- с Суваха́, и сливаешься с Бра́хманом, в Ма́ха
- над собой обретая господство!
- Ты Владыкой ума становишься,
- Ты Владыкой становишься глаза,
- Ты Владыкой становишься уха,
- Ты Владыкой речи становишься,
- и Владыкой познания тоже.
- Ты становишься вездесущим,
- словно небо, пространство, Брахманом,
- чистым светом Естьности Истины,
- погружающей ум в Блаженство, —
- Совершенством Покоя Бессмертного!
- О готовый к древнему знанию,