Уроки деда (книга в книге). Премия им. А. П. Чехова
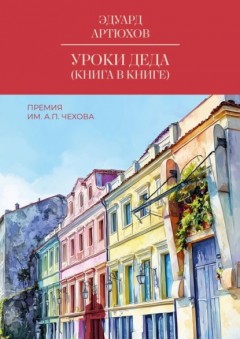
ИД «Литературная Республика»
Выпускающий редактор Виктор Петров
Верстка Егор Савченков
© Эдуард Артхов, 2025
© «Литературная Республика», 2025
ISBN 978-5-605-49094-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга первая. Двенадцать уроков деда
Мои мечты. Кратко о себе (предисловие)
Мечты. Они есть у каждого. Они сбываются или не сбываются. Но они, однажды посетив тебя, никуда более не уходят. Они живут с тобой. Какие-то, так и не достигнув своего, засыпают, уходят в подсознание, ожидая возможности реализоваться. А другие становятся путеводными звездами на жизненном пути. Как бы ни было, все они влияют на наше мироощущение и выбор маршрутов движения в жизни.
Мало кто вспомнит свои первые мечты, но, скорее всего они были просты- вкусно отведать маминого молока и беззаботно, счастливо, довольно уснуть у нее на руках. Мечты приходят и остаются, но не все сбываются…
Первая моя, осознанная, мечта, как и у многих мальчишек, рожденных в шестидесятых годах, вот уже стоит и уточнять – 1960-х, это – вырасти и стать космонавтом. Конечно, были и другие, мелкие по масштабу времени и событий, – получить подарок на день рождения и от Деда Мороза на Новый год найти под Елкой, особенно если это – коньки или лыжи, побывать у Бабушки и Деда, налопаться бабушкиных ватрушек и пирогов, что-нибудь поделать с Дедом в мастерской, сходить с ним в лес, покататься на Полкане, попробовать большую конфету «Гулливер» или «Красная шапочка», сверкающую белизной пастилу, наивкуснейший сливочный пломбир, поиграть в футбол и хоккей, в общем всего, всего, всего и много…
Чтобы стать космонавтом, нужно много знать, а значит главные мечты и задачи- научиться читать, писать, считать и все знать.
В этом очень помогал Детский Сад – место очень любимое и, одновременно, ненавистное большинства в дошкольном возрасте. Самое сильное воспоминание о нем, не процесс пребывания и обучения, а запах и вкус сладкого какао, кусок белого батона с кусочком сыра и манная каша с душистым сливочным маслом. Иногда, ностальгируя, пытаюсь организовать себе детсадовский завтрак. Но, увы, уже и батон не тот, и сыр с маслом, если не сам творил, не те. Манка и какао, вроде бы и те же, но сварить по-детсадовски не выходит. Видно знали какую-то сокровенную тайну приготовления детсадовские поварихи. Хотя, и так вкусно, несмотря на то, что все это, по мнению нынешних публичных диетологов, вредно и не полезно взрослому, уже не растущему, организму.
Я не мечтал быть артистом, танцором или певцом, но с удовольствием занимался музыкой, танцами и пел… Особенно любы были народные русские песни и танцы. Воспитатели предрекали мне артистическую стезю, но не случилось. Однако, в жизни пригодилось.
В шесть лет, готовясь быть космонавтом, я в упорном труде освоил Букварь и Азбуку. И даже первая прочитанная самостоятельно книга была связана с полетами- «Гуси-лебеди». С нее же началось увлечение сказками, всех времен и народов, которые читались в запой. С возрастом пришла фантастика. Так же – запоем. Особенно о космосе и космонавтах, полетах к дальним планетам… Захватили разум братья Стругацкие… Лихо пролетел до Луны носовский Незнайка… Понеслось, помчалось…
Одновременно, в чем-то сбылись пророчества воспитателей, я стал творить стихи. Но, это уже была школа.
Все это время в моей голове отчетливо звучала мудрая фраза моего любимого Деда: «Хочешь быть человеком – учись, и учись быть лучше всех!». В период юношеского восприятия и осмысления мироздания я даже пытался оспорить глубокую истину его слова. Чтобы стать человеком, разве достаточно только хорошо учить науки? Глупец! Истина и мудрость скрыты в скупых словах. Хочешь быть человеком – учись быть хорошим человеком, учись хорошо всему, и учись учиться лучше всех!
Самая сокровенная моя мечта – стать таким дедом, каким был мой Дед. Конечно, я не мог его помнить и знать молодым, хотя фотография лихого буденовца чудом сохранилась в семейном архиве. Лихой рубака, прошедший все лиха молодой Советской страны, в том числе все финские войны. Последняя, раздробив ногу пулей «дум-дум», сделала его невоеннообязанным, хромота осталась навсегда. Но, 41-й бедовый, вновь вернул в строй, партизанский. Для меня он всегда в памяти- старый и мудрый. Глава большой русской деревенской семьи, построивший не один дом своими руками для своих дочерей и сыновей, а их было не один-два, как вынуждено и модно в наше время.
А еще я помню горячую, но для меня прохладную руку Мамы на лбу и его сильные руки, носившие четырехлетнего, тяжело больного мальчугана, дышать из дома во двор, а потом растиравшего от шеи до пят медвежьим, барсучьим и собачьим салом. Где он брал его в то время – загадка, он не любил раскрывать свои тайны, для всех до сих пор. Но тогда он еще работал лесником, а друзья у него были – лесники и лесничие.
Бабушка. Я тогда не понимал, почему она плачет и тихо что-то бормочет у печи, стряпая, а ночью стоит на коленях перед иконами в красном углу и что-то у них просит, кланяясь… Теперь знаю. Она, моя родная, просила за меня, молилась о моем выздоровлении и здоровье, о здоровье и благополучии дома, семьи и всех сродников. Многому она научила потом, но еще больше дала, незаметно… Так, когда я стал жить вдалеке от Деда и Бабушки, меня учила и воспитывала их дочь, моя Мама.
Умение ходить, смотреть и жить в лесу, любить лес и его обитателей – это лишь одна из многих наук, которые мне преподал Дед. Как видеть то, что не заметно для глаза, как увидеть и разговаривать с лесовиком (он же, леший), как пить из лесной лужи, разбираться в ягодах и грибах, травах и деревьях, читать следы и разжигать костры, не задирать медведя и кабана, остальные в лесу, даже волки, не страшны в гневе, почему и как нужно любить букашек и других насекомых, птиц и зверье, и почему дворовая собака Полкан – твой лучший друг.
Многому он меня научил. Много дал того, что пригодилось в жизни. Но только сейчас, став дедом, я понял, самое главное и ценное, что дал мне мой Дед- он научил меня быть человеком.
Тогда, много лет, по человеческим меркам, назад он поднял меня, слабого и измученного тяжелой болезнью внука, взяв на руки, поднес к окну засыпанной снегом избы, и показал Чудо. Я увидел золотой солнечный крест в снежной дымке неба и земли. Это – Рождество Христово, – тихо сказал он. Через неделю мне стало легче, через месяц вернулись здоровье и сила.
Внуков и внучек у него было достаточно много, но мне он оказывал особое дедовское внимание, не допуская ко мне, ближе чем надо, Бабушку и Маму. Все по улице и двору носятся, играют, а мы с ним в столярной мастерской строгаем, пилим, сколачиваем… Все во дворе сделанными нами игрушками играют, а мы через поле в лес с ружьем и корзиной… Грибы и ягоды с нас, пироги и варение с Бабушки и Мамы.
Шустрый я стал после выздоровления, не углядел Дед, и ему отдыхать надо. Я быстро освоил, как печь пироги и пряники, варить борщ и кашу, жарить картошку со шкварками, готовить квас и настаивать березовый сок, квасить капусту и мочить яблоки, доить любимицу всей семьи – корову Машку, уважительно Марью Васильевну (Деда то моего Василием звали), кормить хряков, кучу поросят и всякой птичьей живности, биться на саблях с петухом Петькой (надо быть честным, он иногда побеждал), штопать одежду, валять шерсть и прясть нитку, вязать крестиком…
Мой вопрос: «А как это?», – Бабушку, наверное, замучил, но она терпеливо, спасибо ей великое за это, учила этому, что как. Дед быстро раскусил хитрость внука и, в отместку, научил гудронить (пропитывать, натирая гудроном) нитки, ремонтировать валенки и обувь, шить тапки и валять валенки, а не дурака, и, в тайне от Бабушки и Мамы, делать бражку в бидонах в холодных сенях избы, а потом делать деревенские деньги всех времен – самогон.
Гудрон, маленький кусочек, которого хватало на сезон, мы брали в железнодорожной котельной, где Дед подрабатывал истопником. Там я научился подбрасывать уголь, следить за давлением в котлах, варить суп и жарить яичницу на котле, и- слушать байки истопников.
Это было счастливое, не сладкое, но наполненное любовью Мамы, Бабушки и Деда, время – детство. Отец в то время мотался по заработкам, стройкам и шабашкам, поэтому все детское внимание заполнили они – Мама, Бабушка и Дед. Не дедушка, а именно – Дед! Он – и прадеды, и дед, и отец!
Спасибо Вам, мои любимые! Вечная память и Царствие Небесное!
Исполнилась ли моя сокровенная мечта, не мне судить, но, уверен сегодня, что его тайная, сокровенная, мечта исполнилась – вырос я человеком. Стал и дедом. Если хорошим, то внуки не забудут, а Господь простит ошибки по жизни, что называют грехи. Если не достойным, внуки не забудут, но будут ли уважать? Господь же и Дед- спросят, а Господь и взыщет.
Мечты, мечты, мечты… На этапе позднего мальчишества и раннего юношества мечталось о карьере художника, потому я увлекся искусством фотографии и декоративно-прикладным творчеством. Были даже участия в школьных и районного масштаба выставках, но дело не пошло… Затмили учеба, мирская суета- общественная, пионерская и комсомольская работа. Неизменной осталась тяга к стихосложению. Быть поэтом, кстати, не мечтал, как-то само собой сложилось… Да и осталось.
Мечта о профессии космонавта, а для этого нужно хорошо учиться, господствовала и поэтому подавила ряд других, не вписывавшихся в генеральную линию развития. Космонавтом я не стал, хоть и равнялся на земляка – Юрия Гагарина. Но эта мечта породила другую, определившую мою профессиональную стезю на долгие годы.
Я поглощал знания и навыки, выйдя далеко за рамки школьных программ… Школьная библиотека пала быстро, жертвы наметились скоро- районная и городская. Я читал много, взахлеб, полками и стеллажами… В это время, как видится сегодня, произошло отклонение моих интересов от технических, научно-прикладных наук к гуманитарным.
Мне в руки попало полное собрание сочинений сэра Артура Конана Дойла. И если, вначале, я с упоением читал его фантастические и натуралистические произведения, еще мечтая о космосе, но все больше желая (читай – мечтая) быть великим путешественником, как мои выдающиеся земляки -князь Николай Михайлович Пржевальский и Пётр Кузьмич Козлов, то изучив все похождения великого и легендарного сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса, я твердо решил – стану сыщиком. И стал, таки… Но для этого тоже надо было учиться, учиться, учиться.
Безусловно, кроме моих мечтаний, на мои выборы дорожек, дорог и путей в жизни, повлияли примеры выдающихся мужей Отчизны и зарубежья. Заочные, нынче модно говорить – виртуальные, мои Учителя. Наряду с живыми, реальными и мудрыми людьми, моими Учителями они помогали мне воплощать и реализовывать мои мечты. Но – это совершенно другая и очень обширная тема.
Позволю остановиться лишь на одной исторической гипотезе. Николай Михайлович Пржевальский является, что имеет свои основания для обсуждения и утверждения, отцом вождя Советской страны и Народа Иосифа Сталина. Два человека – одно лицо. Базируясь на этом, в ходе дискуссий о принадлежности вождя к тому или иному народу или народности, можно гордо утверждать: «Смолянин он, братцы, смолянин!» Вот это, наверное, и есть проявление гордыни.
Смоленская земля богата выдающимися людьми, любовью и верностью России- матушке.
Мечта о карьере сыщика, несмотря на другие мечты, преобразовалась и трансформировалась в избрание профессиональной дороги, на которой, неизменным оставались и остаются любовь к Родине и служение Отчизне.
Хотел бы упомянуть о еще одной мечте, но не моей. Служа, я никогда не стремился к наградам, должностям, званиям. Что должно – приходит само. Здоровый или нездоровый карьеризм – это, точно, не мое. Служил без риска и с риском, за Родину, получал поощрения и взыскания, а если не карьерист, то без последних не обойтись.
Мама мне лично не говорила, но сын то сыщиком стал, а потому известно было о ее сокровенной мечте. Мечтала она о том, чтобы сын стал генералом. Какой солдат не мечтает стать генералом? Нашелся такой, но Мечту Мамы нельзя оставить без воплощения. На прокурорской службе это звание называется – государственный советник юстиции 3 класса, и выше. Мечту моей Мамы я исполнил, и Слава Богу, что успел, до того, как она ушла.
С ее уходом, я, о чем не желал и не мечтал, стал взрослым. Это- когда родителей и старше в Семье уже не стало.
Мечты – это хорошо и важно. Без них невозможно жить. Это наш план построения нашей жизни, состоящий из пунктов – наших мечтаний и мечтаний наших любимых людей, которые мы обязаны выполнить.
Уроки деда
Урок деда первый
В отчем доме, выстроенном самолично нашим Дедом, всегда было уютно, тепло и сытно. Потому как, за это отвечала перед семейством наша Бабушка Настя, наша кормилица-поилица и воспитательница. Как-то соседка, увидев нашу внучатую ораву, позабыв, на время о деревенских сплетнях, с которыми и приходила в гости, сказала: «Ну, Анастасия, ты прям как воспитательница детского сада, не хватает еще яслей!»
В этом она была права, кроме одного… Ясли были тоже. Но, на лето сдавались под присмотр и опеку Бабуле внуки «разношерстные», от мала до велика, способные к самостоятельному прямохождению. Находившиеся в ясельном возрасте, пеленально-молочнососательном, пребывали по месту жительства матерей, дочерей и невесток. В гости были с мамами и из гостей тоже с ними.
Так случилось, что постоянным жителем в доме Деда был только я. Хоть и рожден был в славном городе Смоленске, но весь неосознанный, ранний миропознавательный, малоосознанный и начальносознательный периоды жизни я провел в дедовском родовом гнезде, отчем доме, который совместно с деревенькой нашей, к моменту моего рождения, уже являлся дальней окраиной, чертой старого и не менее славного, чем Смоленск, города Вязьмы.
Все мои двоюродные, троюродные братья и сестры, «внучатый выводок», проживали что в Вязьме, в деревушке- окраине, или приезжавшие в гости из далеких иных земель и городов русских, коих уже всех и не упомнить (Витебск, Богушевск, Рудня, Ленинград, деревеньки Смоленщины, Витебщены, Полесья…), здорово и сытно пребывали в доме Деда и Бабушки, где опекались и воспитывались Бабушкой Анастасией и изучали уроки жизни Деда Василия. Вечная и светлая Деду и Бабушке память!
Так как, я жил у Деда и Бабушки практически постоянно, а не только в летне-оздоровительный период, то и знаний, навыков, уроков приобрел безмерно много, за что им и безмерно благодарен. По прошествии многих лет, когда их не стало, я узнал, отчетливо осознал и понял, что они не только дали мне уроки жизни, но и спасли ее… Но это – отдельная история.
Именно Дед и Бабушка научили меня жить трудом и не унывать, любить Семью и дорожить настоящей дружбой, быть честным и верить в лучшее (за этой фразой, теперь я точно понимаю, скрывали они иной смысл – верить в Бога), не бояться трудностей и не склоняться ни перед ними, ни перед кем, и многому, многому, многому другому, настоящему и стоящему. Кланяться должно Богу, Отцу и Маме, да Деду с Бабушкой, можно тому, кто добрым делом заслужил. А боле- никому. За это и землю родную- стоять и биться, если время настало, насмерть!
Урок Первый. Деда. И по жизни, и по времени.
Набегавшись с утра и до обеда, наигравшись в игры незамысловатые (например, прятки, казаки- разбойники, пятнашки, лапта, обгонялки и т. п. и т.д.), мы с соседскими клятвенно договорились после обеда поиграть «в войну».
На самом деле, это действо являлось разновидностью старейшей игры «Казаки-разбойники», отличалось лишь модернизированными правилами и противоборствующими сторонами, и самодельной экипировкой бойцов. Белые-красные, буденовцы- махновцы, немцы-красноармейцы, фашисты-партизаны, русские-французы… Много позже, это будут «Зарница», «Орленок», еще позже военно-спортивные игры, армейские учения (типа «Белые» – «Синие»). А суть то – одна и та же.
Договор – дело святое. Святее – только клятва. Тем более, жребий выпал быть буденовцами нам. В сенях давно припрятаны деревянные винтовки, буденовские шашки, сделанные, кстати, Дедом и, верх крутизны того времени, – три дедовских, настоящих, буденовки, одна потертая, но настоящая, кавалерийская портупея. Мы готовы уже в бой, в сражение… Но, война войной (это тоже урок Деда, но далеко не первый), а обед по расписанию. Да еще вкусно запахло Бабушкиным борщом, свежим хлебом и пирожками, с яйцом и капустой, ее фирменными котлетами и яичницей на шкварках…
Особенно, Бабушкиным хлебом, замешанным ее руками, по ей только ведомому рецепту, созревшим и испекшимся в доброй русской печи. Даже еще не порезанный на скибки, даривший нам удивительный аромат, от которого и у сытого потекут слюньки.
Заручившись клятвенным договором, мы примчались и дружно уселись за накрытый обеденный стол, во главе которого уже сидел, строго на нас глядя, хозяин дома и Семьи глава, наш Дед.
Дед. Не дедушка, дедуля, дедулька, старик, старый, предок …, как только не придумают по недоразумению в жизни, а именно так, и никак иначе – Дед! Мой Дед! Прошедший огни, воды и медные трубы, лишений больше, чем радостей, горе и боль войн, тяжелый труд восстановления порушенного, тяжелое, но радостное время создания, сохранения и пополнения, роста Семьи. В нем удивительно сочетались щедрая доброта и любовь с жесткой, но не грубой, суровостью и взыскательностью к себе и нам. Только лишь его взгляд, еще не суровый, а с укоризной, мгновенно пресекал наши не нужные шалости и безрассудные действия, так и не ставшие безрассудными, а может и трагическими, поступками. Мудрость ученика нашего прадеда и прапрадеда, прабабушки и прапрабабушки, и самой, нелегкой жизни делала его слова мгновенно понятными и навсегда незабываемыми. Крайне редко, когда наше нарождающееся чувство противоречия формирующейся личности зашкаливало и переходило границы дозволенного спора с авторитетом Деда, или в детской суете мы, на мгновение, забывали о главном, применялись убеждающие меры воздействия, в зависимости от тяжести содеянного: погрозить пальцем и пожурить словом, деревянной ложкой слегка по лбу, легкий подзатыльник рукой, которая одним ударом валила с ног взрослого человека и зверя, обещание поставить в угол и дать армейского ремня. Всегда хватало первого, очень редко доходило до третьего. Последние два, на моей памяти, никогда не применялись, кроме самого обещания.
И поэтому- только Дед! Спасибо, дедушка Василий. Прощай, Дед. Было. Было, когда провожал его в последний путь.
Итак, разгоряченные, возбужденные мы живо набросились на еду, торопливо поглощая бабушкины вкусности, не обращая внимания на разлетающиеся капли, и падающие крошки, что Дедом не приветствовалось (но, это уже другой урок). Старший из нас торопливо вскочил, намереваясь отнести бабушке освобожденные от пищи тарелки. Традиция кушать из единого котла давно уже ушла в прошлое. И тут же получил по лбу ложкой, а мы по подзатыльнику. Что профилактически пресекло наши желания к движению. На столе лежали хлебные крошки и кусочки несъеденных скибок бабушкиного хлеба.
Мы все поняли. Но Дед посчитал необходимым к личному примеру в этот раз добавить нравоучительный монолог. Повторение- мать учения. Мудрость народная. Дед- живая кладезь народной мудрости.
«И куда это, ты, так торопишься? Ладно, я разрешаю от стола без спроса вставать… Хорошо, что бабушке помочь решил… Не помыть, так хоть убрать.
А хлеб кому, ты, оставил? А крошки со стола как прибирать надо? Это кто будет делать? Не зря в народе говорят – хлеб всему голова. В этом брошенном кусочке тобой хлеба, в каждой крошке великий труд, да соленый пот. Ты, значит, бабушку и ее труды не уважаешь? Она с людом нашим зерно в поле сажала, оберегала, убирала. Его молола и муку собирала. Из муки той тесто вчера месила, в печи пекла хлебушек, чтобы сытно и вкусно вы кушали его. Сколько в полях люди труда в каждое зерно вложили? Да не сосчитать, не измерить… И потому, с дорогой скатерти ли, с клеенки, просто с деревянного стола, а в походе с ладошки, над которой хлеб кушают, крошки в рот… Хлеба кусок не бросить, не выбросить… Не доел, в тряпицу заверни, потом доешь… Сам, с другом, или зверя угостишь… Но на землю, на пол… Нельзя! Только зерно в землю можно. А, ты, что удумал? Молоко не допил, хлеб с крошками бросил. Да, видно, не любишь ты народ наш, у которого хлеб дороже всего, для которого хлеб – святое святых. Да, видать, и бабушку со мой не любишь…»
Не договорил еще Дед, а брат, покраснел, крошки и кусок скибки со стола в рот, молоком запил, прожевал: «Прости, Дед». Мы то мигом все повторили.
«Ладно то, вижу, что поправились. И, впредь, никогда не забывайте! Хлеб -всему голова! Хлеб- это наш труд, наше богатство, наша жизнь! Так, куда ж спешите?»
«Да, мы с пацанами в войну играть. Мы сегодня – буденовцы!»
«Ладно то, бегите. Я бабушке помогу прибраться. Возвращайтесь с победой к вечерне!»
Мы галопом к двери в сени. Обернулся я на миг, вижу, что Дед, будто нос почесывая, скрывает от нас довольную улыбку. Бабушка рядом стоит, улыбается, а в глазах слезы грустные. Глянул он на нее озорно-довольно, но вдруг призадумался, глаза посуровели.
Некогда мне тогда было размышлять, что это значит. Своих догонять надо.
В тот день победа была за нами. До ужина успели мы на походных кострах вместе с «неприятелем» испечь картошки и тем отпраздновать победу. А потом и по домам.
Много лет позже, я вдруг, как в старом кинофильме, отчетливо увидел на перемотанной памятью пленке, Деда и Бабушку. И понял, почему их радость, от того, что растем мы правильно, верно, на мгновение сменилась задумчивой грустью.
Мы торопились играть в войну… А, они, пройдя через ад нескольких войн,
познав цену и горечь потерь, смерть родных и близких, горести и страдания, тяжести и лишения военных времен, горькую радость побед, очень хорошо знали, что такое настоящая война. Конечно, Дед был не против, чтобы, играя, мы учились искусству и ремеслу военному, учились воевать. В своих уроках тому тоже научал. Из ружья стрелять, патроны набивать, шашкой махать, ножи метать, пластуном ползать, землянки и окопы рыть, врага обхитрить, обувь тачать, кашу варить, в лесу выживать…
И грусть Бабушки, и суровость взгляда Деда я тоже понял. Радуясь за нас, но познав, что есть настоящая война, они не желали, и, наверное, молились о том, чтобы она, настоящая война, никогда не повстречалась с нами. А если случится, то чтоб были мы к ней готовы. И случилось, и уроки пригодились.
Первый урок, не по счету, а по значению, все мы «буденовцы-махновцы», а кого-то уже и в живых нет, выучили и запомнили на всю жизнь. И всегда ему следовали. Хлеб- сакральное сокровище народа. Хлеб-всему голова.
Урок Первый – потому что главный.
Урок деда второй
Лето. Кто же не любит лето? Может тот, у кого оно всегда. А для нас, деревенской детворы лесного края земель русских, лето – пора особая. Холода зимы, слякоть поздней осени и ранней весны, делают летнюю пору временем желанным, ожидаемым с нетерпением и радостным. Несмотря, на множество забот по дому и хозяйству, определяемых необходимостью помогать Деду и Бабушке, семейным календарным планом обязательных хлопот, оставалась уйма времени для детских забав и проказ.
Исполнив свои детские обязанности и получив взрослое разрешение на полную свободу действий, мы тут же приступали к реализации своих прав. Мчались гурьбой через скрипучую недовольно, хоть и смазанную Дедом калитку, со двора на улицу, где уж ждали такие же, освобожденные по исполнению, деревенские бродяги. Главное- свобода! А чем заняться, что сотворить или натворить, это наш объединенный разум придумывал быстро с учетом долгого светлого, полусветлого или сумеречного, темного, то есть ночного, летнего времени суток.
Это взрослые, что-то не успев до ночи сделать, ворчали, успокаивая себя, о том, что в сутках не двадцать пять часов, вот и не хватает времени на все. Для нас же летом временных рамок не существовало. Мы носились везде, где нас ждали намеченные дела и неожиданные приключения, счастливо часов не наблюдая. Прерывая на время свое «броуновское движение» по доброму зову Бабушек или Мам: «Кушать пора!», или раза с пятого, уже сурового, оклика Дедов или Отцов: «А ну, быстро домой, вечерить, умываться и в люльку! Ночь на дворе! А то, счас ремень достану!» Последний аргумент был сверхубедительным, а потому исполняемым беспрекословно. Мы стайками разлетались по дворам, быстро проходили через летний душ, не забыв побрызгаться в друг друга водой, и усаживались за накрытый бабушкиными и мамиными вкусностями стол. Но… Прыти и силенок на вечерить уже, как правило, не хватало и после кружки сытного молока наши клюющие носы уверенно вели нас в наши люльки. Будет новый день- будет и новая пища.
Взрослые еще суетились по домашним делам, только собираясь отдыхать, а мы уже видели десятые, сказочные, многие цветные, сны. Набираясь сил и заряжаясь энергией к новому, сказочному летнему утру. То, что оно будет сказочным, для нас, беззаботных и радостных, сомнений не было.
Сомнения были, видимо, лишь у старой калитки, которая не выпускала нас на уличную свободу зимой, весной и осенью. По известным причинам- холода, морозы, дожди, слякоть, грязь… Но летом – она распахивалась и запахивалась многократно, как молодая и бодрая. И хотя мы с Дедом, предусмотрительно, обильно смазали ее кованные петли солидолом, она, выпуская нашу детскую свору на свободу, недовольно, а может быть назидательно, поскрипывала. Видно, это черта всех стариков – бурчать на рвущуюся на свободу, к новым впечатлениям и приключениям, молодежь.
Но только не моего Деда. Открывая засов калитки, как будто отправляя нас в самостоятельную взрослую жизнь, со строгим видом и напускной строгостью в голосе вопрошал он к нам: «Помните, что говорил, чему учил? Как вести себя нужно?»
– Да! – как стая воробьев, галдели мы. И выпускались за калитку, под ее недовольно назидательный скрип.
Учил Дед многому, внятно и понятно. С чужими взрослыми на деревне не ходить никуда, на вопросы отвечать, но не больше… Тут же звать взрослых, для взрослых разговоров. Аргумент Деда был четкий по-военному, авторитет старого буденовца в нашей мелковозрастной среде был безгранично высок, как Бога среди верующих,
– А если это – вражеский шпион? – спрашивал он нас и точно знал, что мы все поняли и действовать будем бдительно, соразмерно суровой действительности.
К знакомым взрослым должно относится с почтением и уважением, но без разрешения своих никуда не ходить и ничего не делать. В лес за околицу деревни одним не ходить, в сторону болота за луга не ходить, в воду, кроме луж, одним не лезть, в колодцы, свесившись головой вниз, не смотреть, в гости с разрешения ходить, через посадки к железнодорожной ветке за околицей деревни – ни ногой, чужих собак не задирать, зверя из леса (волка, кабана, медведя, лису, лося, и даже зайца) увидев – сразу домой взрослым рассказать… В общем, никуда без спроса.
Обученные технике безопасности пребывания вне границ двора, мы отпускались на волю. Знания нас остерегали, но совершенно не предохраняли от разбитых коленей и локтей, носов, шишек синяков и ссадин, и непродуманных, иногда не очень хороших поступков. А взрослые, хоть этого мы не замечали, за нами приглядывали. Лучше современных информационных систем и средств связи работало междворовое деревенское радио.
Вырвавшись на улицу, деревенское пространство общего пользования, рискуя «подорваться» на разложенных по утру стадом коров «минах» и тут же быть отправленным на лечение под летний душ и полное переобмундирование домой, с риском быть «госпитализированным» до вечера, мы мчались к деревенскому стадиону на задворках старой хаты с громким названием – «Сельсовет».
Стадион – тоже названо громко. Хорошо выкошенное поле с импровизированными, из трех жердей, сбитых колхозным пастухом и по совместительству плотником дедом Семеном, воротами по обе стороны.
Вместе с тем, футбольные баталии были здесь не менее жаркие, чем на городских каменных стадионах. Тем более, что в нашем распоряжении всегда был настоящий кожаный мяч, что лежал на крыльце Сельсовета. Общественный, общедоступный, купленный для деньги общества председателем Сельсовета, уважительно всеми называемым в деревне Михалычем. Для детворы дядькой добрым, сильно уважавшим коллективную спортивную игру- футбол. Часто выступавшим тренером и игроком с нами.
Думаю, что именно тогда и моя любовь к футболу зародилась и укрепилась на всю жизнь.
На стадионе нас уже ждала деревенская команда «Цыганенок», состоявшая сплошь из цыганят, проживавших на другом конце деревне в большом цыганском доме. Приходились они внуками цыганскому барону, которого мой Дед называл кратко и просто Яшка-цыган.
Как то, узрев мое недоумение по этому поводу, ведь по возрасту они равны, а внуков у Яшки-цыгана на десяток побольше, Дед мой сомнения мои тут же развеял, с долей шутки.
– Мы с Яковом партизанили вместе, огни и воды прошли. Лихой воин. Для Вас он- Яков Романович, а для меня – всегда Яшка-цыган. А барон у них, как у нас председатель колхоза. Должность у него это такая.
Мяч уж был в поле. Начались футбольные баталии. Бились с переменным успехом, побеждала все больше дружба. Силы футболистов стали иссякать и требовалась срочная и эффективная подпитка. Объявив перерыв, по предложению цыганят мы воробьиной объединенной стаей полетели за яблоками в колхозный сад на окраине деревни.
Август- месяц сладкий и вкусный. Яблоки в пору августовскую наливаются спелой сладостью и сочностью, с трудом держатся на ветках, соблазняя видом своим голодных футболистов. В колхозе начиналась пора яблочного сбора, но и у колхозников есть обеденный перерыв.
Когда мы просочились на простор яблочного сада, то никого там не оказалось. Стройным рядами стояли ящики полные крупных спелых яблок, стоял умопомрачительный яблочный дух-аромат… Рядом множество корзин, полных, пустых и полупустых.
Оголтелой, голодной стаей набросились мы на добычу. Набрав полные карманы, майки краснобоких яблок, метнулись мы на стадион, где и свершили праздничную трапезу. Ешь от пуза! Огрызки и остатки роскоши мы щедро скормили постоянному нашему зрителю – поросенку Борьке.
Борька по месту жительства своего приходился нам соседом. Хозяйка его – тихая, одинокая женщина по имени Агафья проживала в доме по соседству, через дорогу. Бабушка Настя и Дед Василий часто помогали ей, да и мы, по делам хозяйственным. Знали на деревне, что навалилось на Агафью, согнуло, состарило раньше времени, но не сломало большое горе. Погибли в войну и муж ее, пятеро сыновей и три дочери, мать и отец, семь братьев и пять сестер с домочадцами… И осталась она – одна одинешенька на белом свете. Жила в отцовском доме, каждое утро, еще затемно, ходила в город в церковь, после шла на деревенское кладбище, где прибиралась и ухаживала за могилками, и своих сродственников, и тех, кого уже никто не посещал. Ходила всегда в трауре. Уважали ее в деревне, с пониманием про беду никогда не вспоминали. Помогали, коли надобно. Но она ничего сама не просила, никогда. От помощи не отказывалась, благодарила с поклоном. Дрова да уголь колхоз выделял, сено со всеми косила, все, как и все колхозники, получала. Дед ей дом чинить помогал, Бабушка в огороде и саду. Вместе урожай собирали, варенье варили, по грибы и ягоды ходили… В общем, по-соседски жили. И была у бабушки Агафьи в это лето одна отрада – поросенок Борька. Любила она его и холила. Вся деревня Борьку знала, мы, как тимуровцы, шефство над ним взяли, присматривали. Вот он с нами везде и бывал. И на футболе тоже. Но за яблоками то с нами не пошел, видно умнее оказался.
После перерыва две мощных команды футболистов провели еще два матча. И убедившись, что дружбу не побороть, решили вернуться к истокам, тем более, что к шестнадцати, семнадцати часам по действующему времени исчислению, что нас, что внуков Якова Романовича, должны были ждать кружка молока, скибка белого хлеба с медом, или иным вкусным ингредиентом- варением.
Веселой гульбой мы к дому, цыганята к себе. Вместе с довольным Борькой,
ворвались мы в кухню Бабушки. Расселись вокруг накрытого стола, кроме Борьки, который уж хряпал во дворе приготовленную баланду.
– Мать, – прозвучало сурово и жестко, – Накрыла, иди по хозяйству. Мне с этими бусурманами нужно поговорить…
Много лет спустя и тогда, не мог я понять, почему же Дед мой, свою жену зовет Матерью. Какая она ему Мать? Маме и Отцу —да, и то по кровному родству лишь Маме. Нам же – Бабушка! Но, мой Дед не может ошибаться…
Спустя многие годы я понял сакральный смысл его слов. И он – прав!
Для него моя Бабушка- Богом данная супруга, дочь Матери Божьей дарованной ему, хранительница очага семейного, лоно рода предков и потомков, его сердце, душа, и тело… Без Нее нет будущего, без Нее пустое настоящее, без Нее гибнет прошлое… Было тогда, что не сам выбирал… Но ведь принял решение Рода, согласился….
Слышал я, как Дед мой, по-иному звал Бабушку Настю, не всю красоту слов этих помню… Но в жизни обычной, в горячке болезни, когда думали, что не услышу, но слышал… Настя, Анастасия, Настюшка, Лада, Ладушка, Любушка, Милушка, Милая Моя, Красавица, Чудо мне данное, Кудесница моя, Душа мая, Сердце мое, Хозяюшка, Любовь моя, Сердце мое, Душа моя, Солнце мое, Лада моя, Счастье мое… Не все могу я нынче вспомнить… Да и вы попробуйте, то слово доброе в его многообразии назвать. Может и более эпитетов наберется… Она для него и нас – Мать, Дочь Богородицы. И я с ним в том вечно согласен!
Разве не это Любовь, описанная простыми словами? При том, что Дед мой немногословен был. Но, истинно любил!
Застав нас за вечерним столом и видя, что не сильно голодны, спросил Дед просто и сокрушительно.
– Ну что, яблоки вкусные были? Как же вы могли? И меня и Бабушку опозорить… Как нам и родителям ваши обществу в глаза смотреть? Вы же-лиходеи, люди не честные, воры… По что яблоки у людей покрали? Разве я вас учил чужое брать без спроса? А я вам верил… Думал, что слова мои помните… Чужое не бери, свое не отдавай! Можно и должно свое отдать, коли жизнь другого или твоя от того зависит. Коли нет иного пути жить и любить. Но, никогда нельзя брать чужое!
– Василий, ты уж их прости, – за нас Бабушка встала Матерью, – несмышленыши, не со зла они… То – по глупости… Разве мы с тобой без греха живем? Коли нас с тобой не услышали, мы в ответе с тобой перед Боженькой…
Нахмурился Дед, замолчал. Смотрит на нас задумчиво. На Бабушку взглянет, что-то сказать хочет вроде, нет – молчит… Но за солдатским своим ремнем не идет.
Коль не знал бы, то не поверил. Внуку важно Деда прощение! Это Бог ему право дает, нашим глупостям снизить его, Бога, счет.
Пригорюнились мы за столом, понимая, о чем речь идет… Стыдно, но сделанное то уже не возвратишь. В красный угол глянули. И показалось нам, что Спас Нерукотворный смотрит на нас сурово, с осуждением…
Совсем мы притихли и пригорюнились. От осознания того, что Бог накажет Бабушку и Деда, да родителям от Него достанется за нас. Сказать хочется, но почему-то не можется. Может Бог дара речи на время осознания содеянного лишил в наказание. А в головах уже крутится, раскаяние-молитва:
- Дед и Бабушка, Вы простите нас,
- Боже их не лишай Ты нас…
- Это мы во всем виноваты,
- Не предъявляй счет им для расплаты…
- За дела свои мы сами в ответе…
- Не смотри на то, что мы дети…
- Ты прости, Отца и Матушку,
- Деда нашего, нашу Бабушку…
- Не виновны они пред Тобой…
- Мы бываем глупы порой…
Повесили головы добры молодцы, засопели носы к реву детскому. Осознать-осознали, все поняли, раскаялись и повинились, а как исправлять то не знаем. Яблоки уже не вернешь.
Поняла все Бабушка, улыбнулась втихаря, чтоб мы не заметили:
– Ох, бедовые вы наши. Что ж с вами делать то теперь? Твое слово, Василий. Ты глава семьи- твое слово и последнее.
Все понял и увидел Дед. Был мудрым и правильным Дед.
– Завтра, вместе пойдем мы в обед к бригадиру колхозных садов, чтоб пред обществом вы повинились… За себя и Борьку отработаете, поможете урожай собирать. Цыганята с вами пойдут… С Яшкой-цыганом я уже виделся. А Вам еще раз говорю, как и говорил – нельзя брать чужое без спроса. Не берите чужого- это жизни нашей основа. А сейчас Бабушке помочь со стола убрать и мигом спать. Вижу, что сказать желаете. Бог вас услышал и слышу. Слов лишних не нужно. Мы все вас прощаем. А завтра общество простить должно, для него слова свои приберегите.
Сказано- сделано. По утру собрали два Деда наши футбольные команды и повели в колхозный сад. Оба при параде – фуражки служилые, пиджаки с орденами и медалями, брюки отглажены в стрелочку, сапоги до блеска начищены. Только Борьку не нашли. Да и зачем ему позор, в разорении он не участвовал. Только позже мы узнали, что и с ним беда приключилась. Но об этом позже. И что же дальше, спросите? Знают Деды, как решать все беды. И потому дальше сказ о том, как наши Деды решили все наши беды.
- Знают Деды, как решать беды
- (сказ-быль)
- Мастера творить мы беды,
- Не со зла, по глупости…
- Решить, как беды отвести-
- Не хватает смелости,
- Не хватает мудрости…
- Дед Василий и Яков Дед
- Привели нас в Сад в обед.
- В Райском, будто бы, Саду,
- Сотворили мы беду…
- От стыда мы, как свечи сгорали,
- Но сгореть нам Люди не дали.
- – Что ж, что взяли мы вам прощаем.
- Нам помочь вам предлагаем.
- Коли в день яблок вы норму соберете,
- По домам целый ящик возьмете…
- Мы трудились, как договорились.
- За позор свой трудом откупились….
- Дедов запомнили вечно завет,
- Взять чужое без спроса – нет!
- Но беда не приходит одна.
- Борька вдруг пропал- вот беда!
- Кто ж сумел умыкнуть его?
- С утра не видел его никто.
- Вместе с Дедом мы к хлеву пошли,
- Следопыт Дед, все там и нашли….
- – Посмотри-ка, с вниманием, внучок…
- Ведь не волк Борьку уволок…
- Волк не может сломать забор,
- С корнем вывернуть шкворень-запор…
- Агафья Борьку на замок не закрывала…
- Из того, что для нас с тобой стало?
- Может в тот миг, а может нет,
- Через много после лет,
- Сам о том тогда и не думая,
- Меня сыщиком сделал Дед.
- – Деда, Борьку мы вчера видали,
- И до хлева его провожали.
- Агафья-бабушка его приняла
- И ко сну его в хлев увела…
- Здесь – чья-то другая рука.
- Сама забор поломать, не могла.
- Хлева дверь взломать,
- Борьку сонного забрать…
- Улыбнулся мне в ответ Дед.
- Следопыт – или есть, или нет.
- Видно, чуть понял ты науку,
- За что с братьями получал оплеуху.
- Цыганята из подозреваемых-
- В раз отпали,
- Вместе к хлеву Борьку
- Мы провожали.
- Только по деревне прошли слухи,
- Все узнаешь коль остро ухо,
- Что были цыгане -лихие,
- Не наши, деревне не родные.
- Не хотел меня с собой брать Дед,
- Но коль требовать с цыган ответ,
- Подозрения коли высказали и есть,
- Вместе спрашивать нам и держать ответ.
- Дом цыганского барона красив и высок.
- С Дедом входим в калитку в срок.
- Не видать цыганят —друзей.
- Говорит мне Дед: «Не робей!»
- Выходи Яшка на разговор,
- С тем пришел я к тебе на двор.
- Говорят, в деревне, цыгане бывали
- И Агафью в ночь обокрали.
- Брат Василий, ты, зря не шуми.
- С внуком в дом мой проходи.
- По сто грамм выпьем мы за Победу!
- А для внука найдется конфета.
- Про беду на деревне я знаю,
- И Агафью я уважаю,
- Мы пока за столом посидим,
- Все проблемы, знаю, решим.
- Чинно сели Деды за стол,
- Разговор о жизни пошел.
- Жили вместе как, воевали…
- Из руин жизнь как поднимали…
- – Вижу я, смену готовишь? —
- Яков Дед с улыбкой спросил. —
- Средь мальцов наших он в уважении,
- Как и ты среди нас был.
- Глянул Дед с хитрецой мой:
- Всем когда-то нам на постой,
- Вот и нас с тобой когда-то не будет,
- Кто цыган к порядку призывать будет?
- Рассмеялись два суровых Деда,
- Что прошли огни и воды, беды…
- Кем бы ни были, как не величались,
- Все пройдя – Людьми остались.
- Залетели в залу цыганята,
- Деда Якова внуки-пострелята,
- – Деда, лиходеев дядьки отыскали,
- Борьку бабушки Агафьи отняли.
- Деды вновь по стопке разлили,
- За Победу их осушили.
- Мы ж гурьбой чаю попили,
- За Победу, как Деды испили.
- Посидели, поговорили…
- Попрощались, в двор свой поспешили.
- Деды руки друг другу пожали,
- Не такие еще проблемы решали.
- Мимо дома Агафьи идем,
- Хлев Агафьи не узнаем…
- Крыша новая, новая дверь,
- И забор ее- новый, плетень.
- Борька носится, словно олень.
- В дом Агафьи распахнута дверь.
- Что-то с бабушкой она обсуждает,
- Слезы радости платком утирает.
- Улыбнулся суровый Дед,
- Для огорчения повода нет.
- – Внук, в дом идем через огород,
- Видишь Мать и Агафья нас ждет.
- Обещал я ей не употреблять,
- Но не смог обещание сдержать.
- В сенях-бражка. Я выпью кружку,
- Повод есть – спасли хрюшку.
- Партизанами мы пробрались в дом,
- А там накрыт богатый стол…
- Партизан жен обмануть-
- Нет, не правильный мы избрали путь…
- Пробрались мы, по-тихому, в сени,
- А там уже Агафья и Бабушка:
- – Ну, что партизаны, пошли,
- Поедим со сметаной оладушек!
- На том празднике и я был.
- Чай с медом, не пиво пил.
- По усам не текло, усов нет.
- Тогда запомнил я на много лет-
- Не исправят что Деды- нет бед!
Усвоили мы все вместе, и я в отдельности, очередной урок мудрого Деда. Чужого без спроса —не бери! И другим брать не позволяй!
Через годы звучат, как колокола, Деда истины слова:
«… Чужое не бери, свое не отдавай! Можно и должно свое отдать, коли жизнь другого или твоя от того зависит. Коли нет иного пути жить и любить. Но, никогда нельзя брать чужое! Не берите чужого- это жизни нашей основа!»
Спасибо, Дед, за урок!
Урок деда третий
В старом дедовском доме были тайные, недоступные для нас, малышей, места и предметы. Всегда сухие и холодные, зимой и летом, сени скрывали в себе два огромных, окованных железом дубовых сундука. Сундуки закрывались на два больших железных замка, которые не пускали нас к сказочным тайнам. Ключами владела хозяйка дома – Бабушка Настя, где она их хранила, наверное, не знал, даже домовой.
Тот самый, что иногда шуршал за печкой, поскрипывал в углах дома, поскрябывал где-то в глубине деревянных стен, но никогда не хулиганил, сразу же затихал, получив блюдце с молоком и вместе с нами по конфетке. Кот-крысолов Василий молоко домового не трогал и в места его присутствия не ходил. Видно, уже пообщались и заключили взаимоуважающее соглашение. Хотя кот Василий – боец отчаянный, крыс отлавливал с себя ростом, да по две сразу и приносил на крыльцо Бабушке. Отчитывался о проделанной работе. С удовольствием уплетал плату- густую сметану в плошке. В весенних кошачьих схватках, да и в другие времена года, Василий равных себе на деревне не знавал. Даже волкособ Полкан Василия уважительно пускал спать в свою будку, что для иного кота или кошки было, однозначно, – жестокая трепка с кошачьего тела повреждениями.
Полкан и Василий были не просто товарищи, не просто друзья, а боевые друганы. Как-то, ближе к окончанию весенних кошачьих игр, на возвращавшегося домой по утру довольного Василия имела несчастье напасть стая деревенских собак. Несчастье- потому, что все это увидел, мирно до этого дремавший на крыльце, Полкан.
Он ворвался в гущу окруживших Василия бедолаг как смерч, из сказки Волкова об Элли и ее собаке Тотошке. Стаю разметало и разбросало в стороны, кроме одного визжащего барбоса, в морду которого во все четыре лапы вцепился злобно орущий Василий. Ощутив подмогу, он снисходительно отпустил, тут же умчавшегося вдаль, пса, и с наглым видом, показывающим Полкану, что и сам бы справился, чего влез, но в его сопровождении прошагал к крыльцу, где уже стояла плошка со сметаной.
Совершенно неправильно думать, что Василий был неблагодарным котом. Просто, мало было кого-то, кто смел обидеть Полкана. Однако, случай доказать свою дружбу и отплатить на добро добром Василию представился.
Как-то под вечер, у старой скрипучей калитки Дед мирно беседовал с подошедшим деревенским пастухом Степаном. Наверное, о сменах договаривались. Полкан подбежал к Деду и Степан, в шутку, замахнулся на него кнутом. Это была его ошибка. С виду спавший на ветке яблони Василий коршуном упал на Степана. И только фуражка и капюшон брезентового пастушьего плаща спасли его от жестокой расплаты. Пришлось Деду отдирать Василия от капюшона плаща. Кот злобно шипел на Степана, протягивая когтистые лапы в его сторону, но хватку Деда ему не одолеть. И, заметьте, на руках у Деда ни царапины.
Домового и Деда Василия кот Василий задирать себе не позволял. Может понимал, что они тезки. С Дедом. И что кормящую хозяйскую руку царапать и кусать нельзя. Хотя предпочитал Василий сидеть на коленях у Бабушки, спать у ее ног или в сенях с Полканом, но только зимой, куда Дед переводил их со двора, чтобы не мерзли. Дед в шутку, будто ревнуя, бывает, шуганет его с бабушкиных колен. Кот со взглядом, говорящим – вот же ты какой нехороший человек, с видом глубочайшей покорности гордо скрывался под кроватью, но через пару минут вновь оказывался на коленях у Бабушки. Фигушки тебе, Дед.
История поименования Бабушкой кота Василием явно имела сакральный, для нас всех глубоко скрытый, только им двоим понятный смысл. Иногда, на зов: «Василий, поди сюда!», – Дед не двигался с места и с улыбкой спрашивал: «Настюшка, кота кличешь?»
– А что, кот мне дров нарубит и принесет? – парировала Бабушка, – звала б его, «кыс-кыс» сказала. Али « кыс-кыс» и тебе приятно?
Тайна бабушкиных сундуков открылась просто, как и их замки. Хранились там, пропитанные, как солью утоптанное в кадку сало, нафталином зимние вещи, шубы, тулупы и тому подобное, бабушкины парадно-выходные одежды, дедова кожаная тужурка с портупеей, гимнастерка и галифе, хромовые сапоги, и разные другие ценные вещи. Но самое ценное- дтри настоящие буденовки. Которые впоследствии, раз уж обнаружились, по разрешению Деда, выдавались нам с возвратом Бабушкой для игр в войну.
В большой зале, под боковой широкой лавкой стояли два таинственных сундука Деда. Их тайна раскрылась Дедом мне значительно проще. В одном он хранил сапожные и мелкие плотницкие инструменты, всякие мелочи иногда нужные в хозяйстве, чтоб не потерялись. В другом же хранились его ружье, финский нож в кожаных ножнах, походная фляга, кожаный кисет с табаком, аптекарские весы с набором гирь и гирек, жестянки с порохом, холщовые мешочки с дробью разной, пулями, капсюлями, промасленная бумага, тонкий, но твердый картон, твердый войлок, да патронташа, груда металлических гильз и много еще разного интересного.
Часто вечерами, Дед открывал этот сундук и самолично снаряжал патроны для своей «Тульчанки». Из этого процесса мне он доверял – нарубить пыжей из картона, войлока и бумаги. Все остальное он делал сам, но подробно рассказывал мне, что и как нужно делать. Когда приходило время вставлять капсюля в снаряженные патроны, Дед отправлял меня на кухню помочь Бабушке. И лишь когда, патроны занимали свои места в патронташе, звал обратно. Помогать прибираться. Сначала я обижался, а потом понял. Берег меня Дед. От беды. А если бы капсюль бракованный и искранул… А я на линию попал бы выстрела…
– Дед. Скажи, а почему ты ружье в сундук прячешь? У многих оно на стенке висит, на ковре. Красиво.
– Запомни, внук. Не зря народ говорит, что незаряженное ружье раз в год стреляет. С оружием баловать нельзя. Оно для страшного дела предназначено. Очень надо быть осмотрительным с ним. Никогда нельзя ружье в сторону людей и животных направлять. В животных и птиц – только на охоте. А на людей- нельзя. Вас, любопытных, в доме – не углядеть. Так что пусть оно в сундуке отдыхает, пока с тобой в лес не пойдем.
– А ведь на войне людей убивают?
– Убивают. Но, то на войне. И все равно – это грех страшный, беда… Нельзя людей убивать. Страшно это. Нельзя просто жизни никого лишать. Не нами дана, ни нам отбирать. На войне, внук, там враг. Помирать то никому не хочется. Но коли враг пришел тебя убивать, семью твою, что делать? Бить первым, если есть возможность, то лучше не насмерть, а чтоб победить только. А коли придется, то и до смерти. Зверя и птицу для забавы тоже губить плохо. Мы ж охотимся по необходимости, для пропитания, или для защиты. На войне тоже, приходится врага жизни лишать, защищаясь. Как бы ни было, грех это, плохо это. А, к сожалению, приходится.
– Дед, а тебе приходилось?
– Так, давай-ка, мешочки завязывать и в сундук складывать, дробь не перемешай. Она по размеру для разной дичи предназначена.
– Дед, а что это за железные горошины и цилиндрики? Это же не дробь.
– Это- картечь. Их по три-четыре штуки в патрон. Страшная штука, большого зверя насмерть валит. Кабана, медведя., лося… Картечи под стать только жаканы. Это – вон, видишь, большие катаные круглые пули и цилиндры с насечками. Ими по белке, зайцу можно конечно стрельнуть, только кушать нечего будет и от шкурки лохмотья останутся.
Так, за разговорами, хитро уходя от ненужных тем, Дед быстро все уложил в сундук, запер.
– Все, спать быстро. Завтра в лес идем.
Уже засыпая, подумал я, что не на все мои вопросы Дед ответил, но видно есть тому причины. То, что ответы я получу и очень быстро, я даже догадаться не мог. А- случилось. Представился тому случай.
Поутру, заправившись разваристой, томленой с вечера, гречневой кашей с маслом и парным молоком, пока Бабушка отправляла «наш молокозавод», пеструю корову Марию Васильевну, в общее деревенское стадо для выгула на пастбища, быстро мы собрались и отправились в путь-дорогу. На окраине деревни успели нагнать сонно идущее коровье сообщество. Только вот им вправо на луга, а нам влево- в леса. Пастух дядя Степан, с кавалеристской выправкой восседая на колхозном вороном мерине Буране, помахал нам, приветствуя, и рысью помчался в голову стада, убедившись, что его хвост переполз за околицу.
Если подумать, что мы с Дедом ходили в лес просто так, то – ошибиться по незнанию. Каждый поход приносил с собой в дом что-то: грибы, ягоды, зеленые молодые и старые коричнево-бурые шишки, пучки собранных Дедом трав для Бабушки, березовые ветки с набухшими бруньками или попозже с молодыми листочками и сережками, веточки малины с листьями и еще зеленоватыми неспелыми ягодами, орехи в шапочках с лещины, еловые и сосновые веточки с молодыми салатовыми еще побегами, цветущие одуванчики прямо с корешками, весенние ландыши, ароматные цветочки лесной липы, пастушья сумка (это растение такое, а не потерянная сумка пастуха Степана), лесная крапива, подорожник, лопух, репей в мешочке и на штанах, желуди из-под лесного дуба (бочоночки с шапочками, из которых мастерились чудные человечки), березовые, осиновые, дубовые, еловые, сосновые, кленовые и другие, увязанные сразу, Дедом веники, коряжки и причудливо изогнутые ветки, из которых мы с Дедом потом мастерили игрушки, поделки, дверные и мебельные ручки, все и не перечислить… Много что может дать лес, если лесовик добрый и разрешит. А на этот случай всегда у Деда в котомке большая холщовая сумка, или заранее корзинки с собой припасены.
Лесовик, он же Леший, невидимый людям, сказочный лесной дух, а по мнению Деда, да и моему тоже, реально существующий и живущий в лесу. Леса и живности лесной охранник, защитник. Если с ним уважительно, по —доброму, то и он добром ответит, одарит лесными дарами, поможет дорогу найти, если заплутал. Но если, злой ты, в лес со злом пришел, берегись. Все от тебя попрячет, закружит, заплутает, рад не будешь… А то и накажет. Сколько случаев было, когда дитя несмышленое, дед иль бабка, старенькие, в лесу заплутают, днями и ночами их ищут и находят целыми и невредимыми, ягодам накормленными, зверьем не тронутыми, ну разве что испуганными. Уверен я, что где-то рядом с радостными людьми, нашедшими запропастившегося, в коре древесной, во мху или листве густой, в кустарнике или дупле на дереве, прячется Леший, улыбается и радуется тоже.
Не зря Дед меня учил, ка в лесу ориентироваться, север с югом различать, как компасом пользоваться, и как вести себя, чтобы Лешего не разозлить. Всегда лучше верного друга с собой брать- собаку, коли нет – компас, пока лес не изучишь и с Лешим не познакомишься. Он то рядом с тобой, пока не поймет, что ты за фрукт неведомый. Добр ли с лесом и его обитателями, душа твоя светлая или душонка черная. Разберется, откроет перед тобой лесные кладовые и дальше пойдет по своим делам. Ему тоже недосуг за тобой постоянно шастать. Таких у него в лесу немало. А после того, лес как дом родной будет. Но сам не плошай, не забывай Лешего поблагодарить за дары, в лесу не шуми, не безобразничай.
Так рассказывал мне Дед, пока ходили мы дорогами, тропами и тропинками полевыми и лесными.
– Дед, а как его, Лесовика, узнать и увидеть?
– А тебе на что? Любопытно? Веди себя в лесу по-доброму, по-человечески, уважительно и почтительно с лесными жителями, он может тебе и сам покажется, но, если внимателен, можно его, хитреца, заприметить. Вон, смотри листва вроде лица бородатого и глазом будто подмигивает- это он. А вот, на коре лик бородатый с закрытыми глазами – это он. А вот, коряжка-пень причудливый, будто человек присел ноги руками обхватив, это – он. А вон- камень большой, откуда только в лесу взялся, будто человек свернулся калачиком и спит, это – тоже он. Хочешь Лесовика увидеть, не шуми в лесу, прислушивайся, приглядывайся. Оплошает он, расслабившись и плохо укрывшись. Или сам объявится. Вон, видишь куст вдруг, словно человек, фигурой стал, да нам веткой -рукой машет? Это Леший нас с тобой принял, и сам показался. Давай-ка, ему тоже помашем. Видишь, куст обычным стал, будто ветром фигуру распушило? А откуда в лесу, в чаще ветер? Это Лесовик по делам своим пошел, понял нас и принял. За то благодарность и поклон ему наши. Коль ты с добром и уважением, и к тебе с добром и уважением. Важное это правило. Да не все его соблюдают. Бывает охотник, как безумный, ненасытный, шумит в лесу, безобразничает, зверье и птицу почем зря губит… Тогда добра от Лешего не жди. Осерчает, озлобится. Тут с охотником что-нибудь приключится. Заплутает, в песок зыбучий или болотце лесное, вдруг появившиеся, угодит, ногу подвернет, в свой или чужой капкан попадет, вдруг на него волки, иль сам лесной хозяин —Медведь, ополчится… Это уж край, бежать из леса нужно. Сытый зверь, любой, по своей охоте к человеку не пойдет. Он нас с ружьем за две лесные версты чует. Пахучи ружейное масло и смазка. А иной табаком пропахнет, как паровоз – шумит и дымит.
Бежать такому охотнику нужно из леса. Это Леший его гонит, предупреждает, хорошо, что отпускает, а то и – не отпустит. Сгинет тогда плохой человек в лесу, пропадет. Таких случаев тоже бывает много.
Хорошо меня Дед учил. И поныне, бывает, в лес придешь незнакомый по грибы-ягоды. Ходишь. Бродишь. Ни тех, ни других. А пора то самая-самая. И будто, кто смотрит на тебя, рядом где-то, а никого нет. Это Леший местный тебя изучает. Что ты за фрукт-перец. Остановишься, передохнуть вроде. Да и с сердцем скажешь, хоть в слух, хоть про себя: «Эх, хороший, добрый лес, а хозяин его видно жадный… Добрый Лесовик, что ж в твоем лесу грибы-ягоды не родятся? Вот – не поверю». Хрустнет в стороне ветка, зашуршит листва кустов и деревьев. Пойдешь туда- полянка, и грибов полна и ягод. «Вот спасибо хозяин добрый. Уважил. Под грибную жаренку, да сладость ягод, первый тост за тебя и благополучие леса твоего. Благодарствую». Набрал корзинку. Еще раз поблагодарил, глядь -а рядом тропка. Пойдешь по ней, куда намеревался, туда по кратчайшей и выйдешь. Ты по-доброму и к тебе с добром.
Так и шли мы опушкой леса, мимо старых дубов. Ранняя осень в лесу- красота. Тепло. Разноцветие. Грибов еще много. Дубы рано поспевшие желуди сбрасывают. А прошлогодних и так под ногами похрустывает много. Вдруг Дед с плеча ружье, меня спиной к дубу, что рядом, прижал… Бах, бах… Подряд два звучных выстрела. Скорость стрельбы, как познал я позже, из одностволки – неимоверная.
Не понял я сразу ничего. Отпустил мня Дед.
– Пойдем-ка, вон пенечки… Посидим. Ой, сплаховал я, внучок… Ой, сплаховал…
Побрел Дед к пенечкам, открыл мне вид. Я чуть не остолбенел. В двух шагах лежал огромный кабан. Таких вепрями называют. Как будто спать улегся, только на лбу у него красно-розовое пятно, какого быть там не должно.
Я за Дедом, тот уж присел. Подбегаю. Деда таким я никогда не видел, впервые видел. Как-то сник он, кисет с табаком уже достал, а самокрутку скрутить не может, руки не слушаются.
– Дед, дай помогу, – быстро забрал я бумажку с кисетом, насыпал на нее табаку и свернул, предварительно послюнявив край, тут и я уж испугался, – Деда тебе плохо, что делать надо?
– Ничего, все путем… присядь, – стал успокаиваться Дед, отхлебнул водицы из фляги, закурил, глубоко затянулся дымом, выдохнул. – Ох, сплаховал я, внук, сплаховал… Почем зря секача угробил. Думал, ушли они. Не видно следов то. А они семейством, видно, желудей натрескались и спать улеглись. Их потому то и не видать было. А мы с тобой и появились. Бросился батька семью защищать. Пришлось мне его загубить… Ох, сплаховал я. Будь он проворней, пришлось бы тебе домой одному идти, за помощью. Ты к дубу сходи, там финка моя где-то лежит. Принеси. Кабана не бойся уж. Вот картечь с жаканом и пригодились.
– Да я не боюсь, – пытался не упасть лицом перед Дедом я, – а у самого ноги как ватные. Понял я все.
Увидел Дед, как через поляну несется на нас кабан-секач. Таких в ярости и медведи сторонятся. Семью он свои защищал. Тут уж не поговоришь, не объяснишь, не договоришься. Или он нас бы порвал, или нам его бить. А куда Деду со мной? Тут решение только одно. Закрыл он меня собой, да и успел, чудом, два раза выстрелить. Но видно, хоть и ранен смертельно, кабан еще шел, пока за два шага до нас не упал замертво. А в нем, по виду, центнера полтора весу. Дед, финку вытащив, уж на смерть биться собирался… За меня. Так неожиданно, оба по невнимательности, встретились в бою насмерть два главы семьи, и у каждого своя правда и свой единственный шанс. И никак по-другому. Потому Дед и пожалел кабана. Лишилась семья главы. Не по справедливости и времени жизни истечению. А по несчастью, коварному случаю. Да и сам по краю прошел…
– Спасибо, внучок, удружил. – Вкладывая в ножны свою верную боевую подругу-финку, уже бодро молвил Дед. – Ну вот, спрашивал ты… И мне убивать приходится, и приходилось… Ну, пойдем. Тут до хутора лесника Михеича недалеко. У него подвода есть, да и поможет. Негоже, чтобы мясо пропадало, коли уж так вышло.
Михеич поглядев на смурного Деда, дал ему свою фляжку.
– На-ко. Глотни. Да побольше. Это мой рецепт. Чистый, на травах. Полегчает.
Дед аж крякнул, когда глотнул. Михеич подводу запряг, кабана разделать помог, да еще и до дому нас повез. Вернувшись из лесу с долей добычи, в этот раз Дед рад не был. Молча пошел чистить ружье и прятать амуницию в заветный сундук. Я же Бабушке все рассказал, как на духу.
– Настя, ты его пока не замай. Самогону ему поднеси в вечерю. Это для него счас первейшее лекарство. Неправильная охота была. День-два, сердцем отойдет. Всехорошо будет, – сказал Михеич и поехал по родне, добычей одаривать.
Как в воду глядел старый лесничий. Дед за ужином, почти не поев, выпил два «мухинских» стакана самогона и пошел спать. Следующий день, что-то мастерил в столярке, без обеда, до ужина. Я помогал Бабушке по хозяйству, к нему не приставал. Видно, переживает Дед. За ужином, Дед опять, чуть закусив, выпил два «мухинских» самогона и ушел спать. Бабушка два вечера, после вечери, допоздна, у икон шептала молитвы.
Следующее утро было не только солнечным, но и радостным. Дед к завтраку вышел, как всегда бодрый и с озорным прищуром.
– Слава Богу, быстро опустило! – прошептала Бабушка Настя, наливая парное молоко в стаканы, а не самогон.
– Ну что, внук, пойдем- ка, – видя мой вопросительный взгляд, бодро молвил Дед, – мы с тобой дрова рубить и баню топить. Сегодня к вечеру родственники понаедут, будем банничать.
Уже за спиной нашей, а пошли мы до бани, услышал я как Бабушка сказала: «Слава тебе, Боже! А банька дело доброе и нужное».
Баня в деревне – особая процедура. Сакральное действо. Без бани в деревне никуда. Дело это – доброе, полезное, нужное, здоровое, чистое. Только это уже другая история. Другой Урок Деда.
Урок деда четвертый
Суббота. День интересный. Суббота как Суббота. Скажет иной. Да и я бы так считал, если бы не услышал в детстве о том, что работать в субботу нельзя.
Как всегда, носились мы по деревенскому пространству свободы веселой и шумной ватагой в поисках приключений и развлечений, не забывая о верном спутнике – хрюшке Борьке. Носились самозабвенно, не замечая луж, залезая туда, куда даже Борька побаивался, осуждающе и предупреждающе нас обхрюкивая. Потому к вечеру мы сами становились похожими на хрюшек. Подобно Борьке, который в жалкий полдень с упоением принимал грязевые ванны в ближайшей к дому своему луже. Полкана и Альмы рядом не было, потому как занимались они своим непосредственным делом со взрослыми, приструнить нас было некому.
По лету ватага наша прирастала городскими, что приезжали на отдых в соседские дворы, что усиливало ее созидательные и разрушительные свойства и способности.
В ту самую субботу ватага неожиданно решила созидать и построить общими усилиями тайный шалаш-убежище в зарослях лещины на краю деревни у поля, где совершать тайные, пока еще непонятно какие, встречи и обряды. Первая главная цель – у чапаевцев должен быть штаб.
Сговорившись, вся ватага уже намерилась исполнять задуманное, как, будто вспомнив что-то, Маша и Иоська остановились.
– Ой, ребята. А мы не можем, нам нельзя.
– Как так, нельзя? – зашумела ватага.
– Бабушка сказала, что в субботу все евреи должны отдыхать, нельзя работать- как бы оправдываясь, сказала Маша. Ватага и Иоська напряглись в размышлении.
Как- то позже, повзрослев, он нам рассказал, что думал. А думал – бить будут, как предателей. Смеялись все разом. А тогда, думали мы о другом. Как это и что делать. Вроде как, решали вместе. И строить, и эксплуатировать- вместе. Можно, конечно, и без них, но это – не по-товарищески.
– А, как это, нельзя? Бабушка ваша весь день у плиты, вас кормит и всю семью, прибирается. Ей значит работать можно, а вам нельзя?
– Она сказала, что ей можно, а всем нужно отдыхать, – вступился за сестру и всех евреев Иоська.
– А как же она вас с нами играть и гулять отпустила, если делать ничего нельзя?
– Она сказала, что гулять и играть нам можно, только работать нельзя в субботу, – совсем тихо, будто защищаясь, проговорила Маша.
Ватага затихла, призадумалась. Как в известном фильме про Чапая. «Тихо! Чапай думать будет!» Приуныли в раздумьях юные чапаевцы. Логическое мышление не давало решения. Но жизнь такова, что среди чапаевцев всегда найдется Чапай.
– Так, играть и гулять можно, – забурлил во мне разум, – а работать нельзя. Но мы же играем в чапаевцев, ты Маша – пулеметчица Анка, а брат твой Иоська – верный оруженосец Чапая Петька. Значит, строя шалаш —штаб мы не работаем, а играем!
– Так можно, – просияли Анка и Петька, они же Маша и Иоська, – побежали, ребята!
Игра кипела, работа спорилась. Быстро вырос шалаш-штаб. Из притащенных со двора чурбаков сооружен пулемет Максим. Благодаря меткому огню Анки, отбили чапаевцы без потерь «психическую» атак белогвардейцев. Поздравил Чапай Петьку, Анку и всех геройских товарищей с победой.
Промчались мы все, довольные и счастливые, по домам, потому как смеркалось и ужинать всем пора.
Славное было время, доброе, беззаботное, честное, дружбой сильное. Детство- оно называется.
В летней кухне Бабушка уже суетилась, за столом, освещенным большой уличной лампой, сидел в ожидании нас Дед. Осуждающий скрип старой калитки предательски нас выдал. Все чапаевцы тут же были взяты в плен старым буденовцем.
– Руки мыть и за стол, шустро!
Поглощать вкусноту нас никто не принуждал, потому ужин прошел быстро в чавкающей тишине. Когда наслаждение завершилось кружкой молока, потянулась детвора в дом, ближе к постелям.
– Ну а ты, чего спать не идешь? – заметил мою неспешность Дед. – Чего там у тебя свербит?
– Дед, а почему евреям в субботу работать нельзя? – и выложил я ему правду о делах наших сегодняшних.
– Это- разговор то долгий. Спать не хочешь. Тогда пойдем с тобой поработаем. Дратвы нагудроним, обувку подлатаем. А то, что у бабушки, что у меня прохудилась. Нам завтра с тобой по полям, да по лесу пройтись, как хотели, надобно. Помнишь то? А за делом и поговорим.
С Дедом в лес и поле – дело святое и интересное, потому возражений не поступило и даже бодрость в теле образовалась.
Пройдя в дом, в залу, расположились мы у главного стола. Дед из- под лавки достал свой заветный сундучок, в котором хранились разные инструменты сапожника. Достал моток крепкой льняной нити и кусок гудрона.
– Дратва то еще осталась. Так что, ты, давай ее гудронь, а я шить начну. – определил Дед задачи, глянув на кучу обувки всего семейства.
– Дед, а почему нитка дратвой называется, ее что драли?
– Ну можно и так сказать, -улыбнулся Дед, – лен, который у нас в дальнем углу огорода растет, как поспеет, надо собрать, растеребить, скрутить в тонкую, но прочную нитку. Вот она у тебя в руках. А чтобы дольше служила и водой не портилась ее нужно промаслить. Гудрон для этого нынче первое дело.
Работа закипела.
– Суббота, внук, для евреев день святой. Вера их в этот день им отдыхать велит, Богу молится, праздновать, обычной работой не заниматься. Хозяйки у них прибираются, еду готовят в пятницу и на субботу сразу. Вот в субботу они и отдыхают. В Библии сказано, что Бог шесть дней мир создавал, а на седьмой отдыхал. Они так и поступают. У православных этот день- воскресение.
– Дед, а Библия – это что? И если дни отдыха разные, Боги разные что ли?
– Да, нет, – вновь улыбнулся Дед, – Бог один, только как верить в него каждый сам решает. Дорог к Нему много разных. Библия- это книга, мудрая и полезная. Как сам читать научишься, у Бабушки спросишь. У нее есть. Настя, она после войны к Богу часто обращается. Почитай, утром и вечером молитвы читает. Да ты и сам знаешь, видел.
– Дед, – усердно прогудронивая нитку, спросил я, – а что на войне было с Бабушкой.
– Этого тебе знать не положено, мал еще.
– Дед, расскажи, ну расскажи… – заканючил я, надеясь на удивительный рассказ. Дед много рассказывал интересного и мудрого, но о войне никогда не говорил. – Ну расскажи, Бабушка тоже воевала? Она, как и ты ничего не рассказывает. Ну, расскажи, пожалуйста…
Дед огляделся, прислушался. Бабушки в хате нет. На дворе со скотиной и птице занимается. Всех накорми, спать разведи, пересчитай, проверь… Дел- куча.
– Ладно, расскажу. – Дед хоть и суров, но с внуками слабину бывало давал, – Только уговор, Бабушку про это не расспрашивать, никому боле не рассказывать. Знаю, что тайны хранить умеешь и меня не подведешь. Дратву то гудронь. Слушай.
После таких слов никаких обещаний, клятв не нужно. Дед то знал. Не раз проверял. Внук сказал – сделал. По-дедовски.
– Когда немец с войной пришел, жили мы в деревне в доме хорошем, да с хозяйством добрым. Старшая сестра матери твоей тогда еще меньше тебя была. Сопливая, без штанов бегала… Про мамку твою еще и не думали. Старшие… – Дед, вдруг осекся, потер рукой подбородок, нос, покряхтел, словно чих подступил, скрывая тем от меня заблестевшие в глазах слезы, шумно и тяжело вздохнул, выдохнул, еще раз покряхтел, потер глаза, будто зачесались, -…не все дожили то…, мамке за младшими ходить помогали. Жили дружно. Но – война. Я-то непризывной уже был, да и с ногой после финской не взяли бы, потому подались мы в лес, в партизаны. А Настю с детьми оставили в деревне, еще и соседский детишек добавилось. Так что, она мамкой совсем многодетной в раз стала. Это сейчас таким звание «Мать —героиня» присваивает государство, а тогда она обществом героиней посчиталась. Кормить, оберегать своих и чужих, как своих, в то время дело точно геройское было. Нагрянули в деревню фашисты, да полицаи из своих, предателей. В сельсовете обосновались. За связь с партизанами тогда смерть- или вешали, или стреляли сразу. Война- это как в кино про Чапаева, что мы с тобой в городе смотреть ходили. Настя, хлеб ночами не только детям пекла… Я по ночам с товарищами приходил, харчи у немцев отбитые для детей приносил, муку, лишний хлеб забирали… Чтоб не нашли, если что. Да и в лесу хлебу рады, там хоть с голоду не помрешь, а хлебушек – он родной, сладкий, силу дает. По деревне, кто-то знал, кто-то догадывался, но все молчали. Однако, нашлась одна гнида… Народ говорил, что дом и хозяйство ему приглянулись… Семье партизана не выжить, дом и все хозяйство за донос обещали доносчику. Вот он и донес, что Настя с партизанами, хлеб им печет и передает.
Рано по утру нагрянули полицаи, хату перевернули, детей из дома повыгоняли, в чем спали, на двор. Настюшку мою избили, да в комендатуру потащили…
Сам то я не видел, она не рассказывала, а люди потом все рассказали. Тащат ее, а за ними – толпа детей, полураздетых, сопливых, мал мала меньше, плачут… Тетка твоя старшая, вообще в грязь упала, чумазая…
Замолчал Дед, вроде прислушиваясь, не пришла в хату жена, а сам снова потер рукой подбородок, нос, покряхтел, словно чих подступил, скрывая тем от меня блестевшие в глазах слезы, шумно и тяжело вздохнул, выдохнул, еще раз покряхтел, потер глаза, будто зачесались, и продолжил.
– Такая вот картина. Вся деревня из домов… Причитают бабы, а мужиков то нет. Последнего мужика – деда Фому полицаи расстреляли, как пособника партизанам… Ему уж под девяносто было. За то, что им самогонки не дал… Гниды. Тащат они же Настю в комендатуру. А комендатура в сельсоветском доме, на пригорке… И стоит там эсесовский офицер, весь в черной коже, с автоматом, семечки лузгает… Да на все это смотрит…
Гаркнул он на этих гнид, а те, как псы шелудивые к хозяину, подбежали, лопочут что-то. Соседка наша, Матрена, что в сельской школе учительствовала, по- немецки знала, но и она, и другие рассказывали, что немец тот, офицер, по-русски не хуже нас говорил. Что, зачем, почему? Выслушал… Нашли ли еду, хлеб, много ли? Табаком в доме не пахло, да от Насти, зачем били, что сказала? Посмотрел на Настю, лежащую на земле, да на свору детскую. Пальцем подозвал тетку твою, тогда мелочь сопливую, ревущую, чумазую. Откуда-то из черного кожаного эсесовского плаща своего достал шоколадку, в руку ей вложил, по голове погладил… «Мамку свою забирайте и домой идите» -, сказал. Сам полицаев забрал и в комендатуру с ними ушел. Больше к Настеньке полицаи не ходили.
Бог отвел, да помог. Мы то, к моменту доноса недели три уж не были. Далеко ходили, на задание. Так то, внук, было. Давай, доделываем и спать. Счас и Настя уж придет.
Но, еще долго мы сидели в тишине. Я переваривал рассказанное с открытым ртом и забыв про дратву. Да ее уже и не нужно было. Дед заканчивал подшивать последнюю пару. Как-то жестче и резче стал дырки колоть, да нитку затягивать… И не потому, что заканчивать побыстрее надо.
Мысль о том, что и Дед, и Бабушка мои – герои, быстро улеглась в детском разуме, но роились и другие мысли. Детская логика проста и наивна. Захлопнув рот, я все же в задумчивости молвил.
– Дед, так это получается, что мама моя и я тем, что живем на белом свете, да и полсемьи нашей обязаны какому-то эсесовскому офицеру?
– Если по чести и совести, то- да. – Дед аж шить перестал. – Но, вообще-то, мне и Бабушке.
– А что с доносчиком?
– Неделю спустя дом его, и он в доме, погорели… Говорили на деревне, что пьяный упал и лампу керосиновую уронил, разбил. Вот дом вместе с ним и сгорел. Может люди, а может Бог наказал. Или вместе.
– Дед, спасибо. Я никому не расскажу. Понимаю, почему Бабушка верит в Бога, молится, за иконами в красном углу ухаживает, да крестится на них. А вот ты не крестишься, молитв не читаешь… У Буденного служил, воевал с финнами, партизанил… А, ты в Бога веришь?
– Ах, ты, язва прободная, – заулыбался Дед, – а ну брысь спать. Завтра в путь-дорогу. Верю я, верю. Только время нынче такое, что не всякому надо рассказывать, и не все всякому показывать. Понял?
– Да, Дед, понял.
– Все, давай спать. Завтра сил надо будет много. Да уж сегодня. За полночь уже. О чем договорились, не забывай.
Упав в постель, засыпая я думал о том, какие хорошие, сильные и мужественные люди- мои Бабушка и Дед, что Дед доверил мне важную семейную тайну, нарушать данное слово нельзя, что в субботу что-то делать можно, что Бог есть и Он один для всех, что в Бога верят, но разные люди по-разному, и как верить ты решаешь сам, что Библию нужно почитать, а для этого надо научиться читать, что нужно быть и несмотря ни на что оставаться Человеком, что я еще так мало знаю и надо многому учится…
Сон прерывает ход мыслей на время. Мыслительный же процесс не прерывается даже во сне.
И нынче прошу у Деда прощения, что не сдержал слова своего перед ним и описал тому, кто это прочитает, о случае с Бабушкой. Так получается, что нарушил данное слово. Прости, Дед!
Очередной урок Деда один, но сколько знаний сразу он дал.
Урок деда пятый
Походы с Дедом в лес и поле тема отдельная и обширная. Это- кладезь знаний и навыков. Но в малые детские годы мотивация была другая.
С Дедом в лес или поле, по грибы, ягоды, на охоту – да пулей и без раздумий. Гордо шагать рядом с ним с котомкой за плечами, в которой Бабушкин тормозок, слушать его наставления и рассказы, в самое главное- в руках подержать, тогда тяжелое, его ружье, верх блаженной радости- вместе с Дедом выстрелить. И не важно куда, но точно не в кого.
Обычно, это был пень в лесной глуши, на который Дед клал большую шишку, старый большой гриб. Мишень. А однажды, старую солдатскую ржавую каску с рожками.
– Фашистская, – сказал тогда Дед и даже разрешил выстрелить три раза, не пожалев драгоценные, набиваемые самим, патроны.
Такого в смоленских лесах с войны осталось много. Железа войны. Но Дед строго запрещал лазать в воронки, обрушившиеся блиндажи, полузасыпанные и поросшие лесными травами окопы. Потому, думаю, что там могло оказаться, что угодно. Опасность для несмышленых страшная. Рассказывал Дед, после войны уже, два шустрых деревенских мальца залезли в старый, поросший травой окоп-блиндаж. Да и больше не вылезли… Разметал взрыв и блиндаж, и мальцов… Болью, оглушительно глухо, ударило по деревне вновь эхо войны. Погоревали в деревне… Где ж на все это «богатство» саперов найдешь. Пацанов уж нет, схоронили. И всей шустрой детской деревенской братии строго-настрого, под страхом ремня, крапивы или прута, запретили в лес без взрослых шастать. Только и сам Дед говаривал, сто страх этот – пустое. Не удержишь. Шастали, только беда все- таки научила. Больше такого не случалось. Да и партизаны старые месяца за два все окружные леса исходили, все, что нашли и собрали в болота бездонные побросали. А на деревенском кладбище появились одиннадцать новых могил, с добротными деревянными башенками с красной звездой на вершине и надписью —«Неизвестный герой». Рядом с могилами двух шустрых деревенских пацанов. Хоронили всей деревней. А бабка Агафья первым делом на этих могилах прибиралась. Святая женщина!
Но, Дед же нас мотивировал не страхом наказания, а уважением и пониманием. Негоже туда лазить, негоже покой солдат, павших за родную землю и нас, нарушать. Мы и не нарушали. Мы – помнили.
Касок солдатских по лесу много находили. Кто-то в хозяйстве им находит применение, если целы. Из фашистских птицу, хрюшек кормили, из туалетов содержимое, по необходимости, черпали… Своих же, целые ли, пробитые и проржавевшие, на солдатские могилы несли, что поцелее в музей сельский, да городской, в рабочие и школьные красные комнаты. Память о великом подвиге и великой боли…
Тогда, в глуши древнего смоленского леса, я счастлив был, что аж три раза пальнул из дедовой старой «тульчаночки». Много позже, вспоминая, я понял щедрость Деда. Ненависть к врагу, сотворившему немыслимые беды, не ушла, затаилась вечной болью в душе, сердце и разуме. Навсегда, навечно. И в очередной раз, пусть так, но трижды, чтоб наверняка… Чтоб сгинуло и не возродилось! Но ведь возродилось, дали возродиться… Думал ли об этом тогда мой Дед. Да! Честный, мудрый и суровый был он.
Как-то в городе, куда мы приехали с Дедом по его служебной надобности, но успели сходить в кино и поесть наивкуснейшего пломбира, случай произошел, подтверждающий мудрое, но горькое предвидение Деда. Баловал он нас, внуков, и учил жизни. По пути, на привокзальной площади, повстречался нам сутулый мужичек, с Дедом видать одного возраста.
– Здорово, Василий! – радостно окликнул тот.
– Здорово, коль не шутишь, – буркнул Дед, ускорил шаг и меня в спину подтолкнул, – на дизель опаздываем.
Дизель – это маленький двухвагонный, сопящий воздухом и кашляющий дымом поездок, на котором до деревенской станции, и не станции – а просто остановки в лесу, чуть больше получаса, а пешком – часа полтора с гаком.
Я уж точно знал точно, что сегодня было запланировано часа полтора с гаком. Но – поспешали мы, шире шаг. Увидев, павильон «Пиво- воды», Дед уверенно направился к нему. И я – тоже. Одна была радость-надежда, там продавали душистую грушевую газировку. Умопомрачительно сладкую, вкусную, как- будто скушал саму грушу, булькающую и с прыгающими мелкими воздушными шариками над поверхностью в большом, как взрослые звали, «мухинском» стакане.
А служила там продавщицей, одна из старших маминых сестер – тетя Таня. Догадались все уже – дочь Деда, перебравшаяся из деревеньки в город.
– Ой, Батя, здравствуй! – обрадовалась тетя Таня, – Как дома, как Мама, здоровы все?
– Хорошо все, здоровы… – продолжал бурчать почему-то Дед. – Сама то как, зять не обижает? – чуть смягчился Дед. – Нам -как всегда.
– А Мама не заругает? – улыбнулась тетя Таня, наливая большой бокал янтарного пива и «мухинский» стакан душистой грушевой газировки.
– А кто ей скажет? Разве ты отпишешь? —хитро прищурившись, спросил Дед, – За полтора часа от пива и запаха не станет, а доносчиков среди нас нет. – вручая мне стакан газировки, уже хитро посмотрел на меня.
– Да я ничего не скажу. Привет передавай всем. Ой, Бать, не нужно. – затараторила тетя Таня, увидев как Дед достал из кармана мелочь и звякнул ее на расчетное блюдечко.
– Надо! – утвердил действие Дед. – Пошли.
Мы подошли к окну и с наслаждением стали употреблять. К окошку, так как все стойки были в павильоне – мне три раза прыгнуть вверх. Только Деду по росту. А детских столиков и подавно не предусматривалось.
Увидев мой довольный, но вопрошающий взгляд, Дед, наконец, решил пояснить случившееся.
– Полицаем он служил в войну, внучок. Сволочь… Но недавно отпустили, реабилитировали… На вокзале теперь дворником служит, гнида… Зря их отпускают… Не дай Бог, снова все повторится. Оно из-за таких- то и начинается, а заканчивать через кровь и смерть приходится. В деревню не вертается, знает, что жизни там не будет. Народ помнит сердцем. Власть простила, люди не простят. Ну ладно, пошли, коль допили. Неси стакан и кружку тетке.
Я шустро подбежал к прилавку, поставил сосуды и к двери, где Дед уже стоял, ее распахнув.
– Прощевай, доча! Твоим всем привет наш. Пиши или приезжай, коли что… Дома всегда ждут.
– Приеду, под осень, пап, с внуками. Отпуск у меня будет. Доброй дороги.
И пошагали мы с Дедом до нашей деревеньки. Путь, с точки зрения человека непривычного, долгий, но для того, кто на дню километров по двадцать-тридцать отмахивает- дело простое.
В этот раз шел Дед молча, обычно что-то рассказывал, что-то обсуждали мы в пути-дороге. Видно, что-то он вспоминал, о чем-то думал, размышлял… Я не приставал с расспросами. Так и дошли мы до поворота на лесную тропку, что повела нас прямо к деревне.
– Дед, смотри, под кустом человек лежит, – оторвал я все же его от долгих раздумий.
Шагах в пяти от тропы, в траве под кустом дикой акации лежал человек.
– Так, внук, стой тут. Я пойду гляну, вдруг чего случилось.
Вечер. Смеркается. Место совсем не для того, чтобы кто-то прилег отдохнуть. Дед подошел, нагнулся, потеребил лежащее тело. Развернул тело лицом к небу. Поднял валявшийся рядом маленький, обшарпанный чемоданчик, с какими ходили тогда железнодорожники, положил его под голову телу и улыбаясь вернулся на тропу ко мне.
– Это путеец наш Федор. Опять видно после смены с товарищами перебрал. Отдыхает. Ох, Марфа ему задаст. Нормально, дышит. Спит. Придется нам с тобой крюка дать, к Марфе заглянуть. Чтоб не волновалась. Проспится, придет. Не зима. Счас ночью тепло как днем.
– Дед, а вдруг зверье? Может его отнесем домой?
– Нет. Зверь здесь не ходит. Дома близко. Народу много ходит. Зверь нынче в лесу, подальше. Пропитания хватает. Да и пьяный Федор вряд ли по вкусу кому придется. Мы с тобой его не дотащим. В нем под два метра росту и весу пудов за шесть. Пойдем. Марфе скажем, она с сыновьями решит, что делать. У них телега и лошадь есть.
И пошли мы дальше- до Марфы. До-сказано громко. Ближе к железнодорожным путям, фактически обратно тому, откуда мы шли, стояло несколько старых бараков, где жили железнодорожники. Со временем обросли бараки хозяйственными постройками, разрослись семьи. Так и образовался Путейский хутор.
Марфа оказалась дома. Встревожено встретила Деда. Но тот ее сразу успокоил.
– Здравствуй, Марфа. Федор твой хоть и баран, но вес у него не бараний. Не дотащить. Он тут недалече, на развилке под акацией отдыхает. Видать праздник у них был, али у вас горе какое?
– Ох, Василий, все ты шуткуешь. Доброго тебе вечера за добрую весть. Хорошо у нас все. Да вот Федора заждалась, уж волноваться стали. К обеду ждали. У него то смена по утру закончилась. Говорил у друга день рождения, отметим, к обеду будет. Наотмечались, значит. Ох, уж непутевый путеец мой. С сынами поедем, заберем. Проспится, уж я ему то ….
– Ну, ты, сильно то не шуми. Сама знаешь, Федор – мужик достойный. Эшелонов шесть под откос пустил, пока партизанили… А, уж сколько путей отремонтировал – не посчитать. Две у него слабости то по жизни – ты да добрая самогоночка. В этом с ним никто состязаться не может. Видно, путейцы опять его на спор развели, кто больше выпьет. Чемоданчик его рабочий тяжелый, видать выиграл. От Насти тебе поклон. Пойдем мы, а то и нас искать начнут. Доброго вам всем вечера.
– Спасибо, Василий. От меня Насти поклонись. Храни вас с Настей и семью вашу Бог. Может вас подвезти? Телегу уж сыны запрягли.
– Не, нужно. Через полчаса дома будем. Бывайте.
И пошли мы от ворот дома Марфы до своего дому. Марфа с сынами на телеге влево, а мы с Дедом, через лесок, направо.
Старая калитка нас с Дедом пустила, но осуждающе обскрипела. Давно уж хозяйка ожидает, волнуется.
Бабушка в летней кухне у стола, на стульчике. В доме уж свет в окнах.
– Мать, не серчай. Голубя почтового тебе ж не пошлешь, а почтальон дня через три после нас пришел бы. К Марфе пришлось зайти, Федор на полпути с работы отдыхать улегся… Поклон тебе от Марфы. Прости уж нас, задержались.
– Ладно, путешественники. Давайте за стол- вечерить. Маша с детьми на ужин пришла. Уж заждались. В доме в домино играют. Я покличу. Одно мне хорошо – Полкан в будке спокойно спит, значит с вами все хорошо. Если б что с вами, он уж с будкой умчался до вас. Цепь- не удержала. Да ты уж и не в будке, охранник.
У ног, присевшего на скамью Деда, уже лежал всеобщий любимец и хранитель двора – Полкан. Пес умнейший, породы неведомой. Таких как я на себе двоих возил. А зимой, на санках, по пять таскал. Внучатое стадо пас и охранял не хуже овчарки-пастуха. Семью, да двор в обиду никому не давал. На цепи Дед его не держал, но без него Полкан за калитку ни шагу. Только если Дед нас охранять поручал. Рассказывал он, что егеря, давно, отстреляли волчью семью, что скотину резала по окрестным деревням. Оказалось, что самка старшая в семье их – собака. В логове Дед щенка нашел и забрал себе. Губить не дал. Подрос Полкан- ни волк, ни собака. Отец у него волк, а мать – собака. Вот и получается, что волкособ он. Собаки деревенские его побаивались, да и народ остерегался. Но, Полкан добрых людей, видно, по запаху чуял. Добрых он не трогал, бывало и помогал. Как-то под вечер у соседки Агафьи поросенок Борька куда-то запропастился. Заволновалась Агафья к Деду за помощью пришла. Дед только и сказал: «Полкан, ищи Борьку!» Через четверть часа притащил волкособ Борьку за ухо к Агафье, сдал, а на ухе ни царапинки.