Музыка души
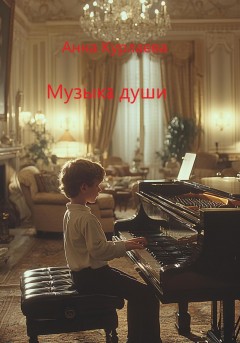
Глава 1. Воткинск – счастливейшая пора детства
25 апреля1 1840 года в приуральском заводском поселке Воткинск, в семье начальника Камско-Воткинского завода Ильи Петровича Чайковского родился второй сын, которого в святом крещении нарекли Петром…
Пасмурным декабрьским днем в доме Чайковских царил переполох. Сегодня должна была вернуться из Петербурга маменька Александра Андреевна и привезти с собой гувернантку. Вся семья с нетерпением ждала возвращения хозяйки и старшего сына Коли, который ездил в Петербург вместе с ней. Почти пять месяцев не было их дома. Все скучали по отсутствующим, но особенно сильно тосковал четырехлетний Петя. Страстно привязанный к матери, он с трудом переносил даже малейшую разлуку. Когда Александра Андреевна покидала дом, Петя рыдал и требовал поехать с нею. Эти бесконечно томительные месяцы показались ему вечностью, и в день возвращения дорогой мамаши он с утра не мог найти себе места и без конца смотрел в окна – не покажется ли карета?
– Едут, едут! – раздался со двора крик.
Не только все члены семьи, но и прислуга выбежала во двор. На улице было не так уж и холодно для декабря, падал мягкий пушистый снег, тут же посыпавший головы и плечи людей белым покрывалом.
Перед домом остановилась карета, запряженная четверкой лошадей, из которой вышла высокая статная женщина – не красавица, но во внешности ее было нечто притягательное, сразу располагавшее к себе. Темные волосы убраны под дорожный чепец, карие глаза светились радостью и нежностью. Следом за ней спрыгнул шестилетний мальчик в теплой шубке и шапке, из-под которой весело блестели темные глаза. Едва прибывшие ступили на землю, как Александра Андреевна оказалась в крепких объятиях мужа, с наслаждением вновь почувствовав тепло родных рук после пятимесячной разлуки. Она с нежностью вгляделась в такое любимое лицо – Илья Петрович на первый взгляд казался важным и строгим, но впечатление это было обманчиво: на самом деле он был человеком мягким, добродушным, отзывчивым, любившим всех вокруг. Именно за эту безграничную доброту полюбила Александра Андреевна своего мужа. А ведь как когда-то пугали ее институтские подружки: «Он же совсем старик, вдовец! Он старше тебя на семнадцать лет! У него дочь от первого брака!» Жизнь показала, что она была права, поверив своему сердцу. Разница в возрасте ничуть не мешала им горячо любить друг друга, а к падчерице Зине она привязалась как к родной дочери, и та отвечала ей взаимностью. С полной уверенностью Александра Андреевна могла назвать свой брак счастливейшим.
Не успела она поинтересоваться у мужа, всё ли в порядке дома, как к ней подлетел Петя и с криком: «Маменька!» – крепко обнял, уткнувшись в пышные юбки. Александра Андреевна с улыбкой обняла сына в ответ. Она любила всех своих детей, но Петя был особенным: «золотом», «сокровищем и жемчужиной семьи» называли его они с мужем. Конечно же, только между собой – в общении с детьми они никогда никого не выделяли.
Тут же началась кутерьма: все обнимали и целовали прибывших, и совершенно невозможно было отличить членов семьи от прислуги.
Молоденькая гувернантка Фанни Дюрбах, выйдя из кареты следом за Николя, стояла в стороне, робко глядя на эту суматоху. Она впервые оказалась так далеко от родной страны, да не в столице, а в далекой глуши, и сейчас чувствовала себя чуть ли не на другой планете. Тут всё было иначе: странно, непривычно. Огромные расстояния, каких она никогда не видала на родине: заснеженные бескрайние поля, почти непроходимые леса. Да и погода… Если местные жители считали, что зима выдалась довольно теплой, то ей, привыкшей к мягкому морскому климату, казалось, что страшнее мороза быть не может. Однако, несмотря на суровость, русская природа покорила ее сердце. Фанни восхищенным взглядом окинула живописнейший пейзаж, представший перед ней: прямо перед двухэтажным бело-желтым домом расстилалось громадное замерзшее озеро, засыпанное снежным покровом, почти сравнявшим его с берегами. По берегу росло несколько деревьев.
Но восхищение природой не могло уменьшить тревоги перед знакомством с людьми, с которыми ей предстояло провести не один год. К тому же Фанни почти не знала русского языка. Впрочем, как объяснили знакомые еще на родине, ей этого и не требовалось: в дворянских семьях России по-французски говорили все. Но то в столице. А вдруг в провинции ситуация несколько иная?
Если сложно найти хорошую гувернантку, то и для гувернантки найти хорошее место непросто. Не зря ли она отказалась от выгодного предложения в Петербурге? Но нет. Слишком уж неприятной показалась ей тогда будущая хозяйка. Совсем другое дело – Александра Андреевна: обе женщины с первой секунды понравились друг другу. А за время долгого пути по российским просторам Фанни успела полюбить и ее, и ее старшего сына Николя – своего будущего ученика. Но ведь общаться придется не только с ними, и сейчас ей было немного страшно: как-то еще примет ее семья?
Все опасения рассеялись в одно мгновение, когда глава семейства вдруг подошел к ней и обнял сердечно, словно родную дочь. И Фанни улыбнулась с облегчением, сразу почувствовав себя своей.
После бурных объятий и поцелуев встречающие и прибывшие направились в дом. Ни на секунду не отрывавшийся от матери Петя принялся рассказывать ей о последних новостях:
– А мы с Сашей песню сочинили. Называется «Наша мама в Петербурге». Хотите послушать?
Саша – младшая сестренка, резвушка и хохотушка – была его постоянным товарищем в играх в отсутствие старшего брата. Они часто ссорились, но тут же быстро мирились. А вот брат Ипполит – Поленька, как его называли в семье – был еще слишком мал, чтобы Пете было интересно с ним играть, и большую часть времени, пока мать была в отъезде, Поля проводил с отцом, любившим своих детей до умопомрачения.
Мама ласково, но немного устало улыбнулась ему:
– Непременно, Петичка, только немного позже.
Вся семья собралась в гостиной, которая одновременно служила и комнатой для музицирования, поэтому здесь стояли рояль и оркестрина2 – настоящее чудо, из которого лилась волшебная музыка. По вечерам оркестрину слушали всей семьей, и отец постоянно заботился об обновлении валиков для нее. Особенно же любил ее Петя. Он часами мог завороженно стоять рядом, слушая восхитительные мелодии. Он знал уже многих композиторов, среди которых больше всех его юную душу пленял Моцарт.
А уж рояль представлялся ему неземным чудом. Мама показала ему, как надо играть, и Петя любил нажимать на клавиши, подолгу прислушиваясь к извлекаемым звукам и пытаясь подбирать мелодии. А еще Петя любил, когда играла и пела маменька. Особенно ему нравился романс «Соловей». Александра Андреевна обладала чудесным мягким голосом, и ее пение Петя мог слушать бесконечно.
Когда несколько утих первый восторг встречи, маменька представила гувернантку:
– Мадемуазель Фанни будет учить Колю и Лиду, которые, я надеюсь, станут послушными и прилежными учениками.
Мадемуазель Фанни – невысокая темноволосая девушка – приветливо улыбнулась детям. Коля улыбнулся в ответ на правах старого знакомого, а Лида, чуть прищурившись, лишь мельком глянула на гувернантку и передернула плечами. Весь ее высокомерный вид говорил о том, что ее совершенно не интересуют подобные мелочи. Кузина Лида, оказавшаяся в их семье после смерти своей матери, была невероятно избалована: капризная, своенравная и упрямая. С ней было ужасно трудно поладить. То ли дело брат Коля: старше Пети на два года, он был его лучшим другом. Но теперь, когда Коля будет занят учебой, они, наверное, куда меньше времени смогут проводить вместе.
По-прежнему прильнув к матери, Петя изучал гувернантку с гораздо большим интересом, чем кузина. Мадемуазель Фанни не была красивой, но в больших черных глазах светился такой душевный покой, такая чистота, доброта и безграничная любовь к детям, что внешность ее уже не играла никакой роли. Петя сразу же проникся к ней симпатией. Одновременно стало любопытно, чему будет обучаться Коля: вон он стоит гордый тем, что уже такой взрослый. Наверняка заниматься с гувернанткой необыкновенно интересно.
– Мама, можно я тоже буду заниматься с мадемуазель Фанни? – звонко спросил Петя.
Взрослые улыбнулись, а маменька легонько потрепала его по волосам.
– Ты еще слишком мал, Петичка. Вот года через два – пожалуй.
Он не стал пока настаивать, но желание учиться вместе со старшим братом не пропало.
На следующий день, когда начались занятия, Петя тихонько подобрался к учебной комнате, послушать, что там происходит. Шел урок истории, и гувернантка рассказывала настолько интересно, что Петя заслушался, забыв обо всем на свете. Он так и стоял бы здесь до конца урока, если бы его не отвлекла Саша, позвавшая брата играть.
Учиться со старшими захотелось еще сильнее. И теперь он умолял мать со слезами на глазах:
– Мамашенька, ну пожалуйста! Я буду очень-очень послушным и прилежным. Обещаю! Позвольте мне учиться!
Мама колебалась, явно не считая его готовым для учебы. Петя чувствовал, как рыдания подступают к горлу: неужели не позволит? И вот она со вздохом уступила:
– Хорошо. Но смотри: если не справишься, не жалуйся потом!
Петя подпрыгнул от радости и бросился целовать мать:
– Спасибо-спасибо! Я справлюсь!
***
Фанни сразу же ввела для своих подопечных распорядок дня и строго его придерживалась. В будни вставали в шесть часов, и после утренней молитвы и завтрака начинались занятия.
С Николя у нее не было никаких проблем: умный и сообразительный шестилетний мальчик, спокойный и уравновешенный, в основном прилежно делал уроки и слушался ее. Начав его учить, Фанни еще больше к нему привязалась. Это был настоящий маленький дворянин: всегда подтянутый, элегантный и припомаженный.
А вот старшая ученица – десятилетняя Лиди – была не столь прилежна. Учеба ее нисколько не занимала, она постоянно капризничала и дерзила. Гораздо больше Лиди интересовалась своими нарядами и часами могла вертеться у зеркала, примеряя новую шляпку.
На первое же замечание Фанни она небрежно заявила:
– А зачем мне учиться? Когда я выйду замуж, образование мне уже не понадобится.
– Чтобы воспитывать детей, нужно самой много знать, Lydie, – сурово возразила гувернантка, на что ученица пренебрежительно фыркнула.
Фанни пришлось приложить немало усилий и терпения, чтобы перевоспитать ее. Но, несмотря на молодость – Фанни было всего двадцать два года, – она не была новичком в педагогике и не привыкла отступать перед трудностями.
Ее ученики недолго оставались вдвоем. Уже на следующий день Александра Андреевна привела в класс своего второго сына – худенького четырехлетнего мальчика с большими ясными глазами. В отличие от старшего брата, он нисколько не заботился о своей внешности: вихрастый и небрежно одетый, даже успевший где-то испачкаться. Однако с первой же минуты Фанни почувствовала к нему безотчетную симпатию. Мальчик с горящими любопытством глазами разглядывал их маленький класс, книги и тетради, разложенные на столе.
– Мадемуазель Фанни, – начала Александра Андреевна, – не возьмете ли вы еще одного ученика? Конечно, мы договаривались о двух…
– Но, мадам, мальчик слишком мал, чтобы начинать обучение.
– Я знаю, – госпожа Чайковская вздохнула. – Но я очень вас прошу.
– Я буду стараться, обещаю! – вставил маленький Пьер.
Фанни кивнула: желание хозяйки – закон, и если она считает, что ее сыну стоит начать учиться, то не дело гувернантки спорить, ее дело – дать доверенным ей детям всё, что она может дать.
Фанни старалась придумывать для младшего воспитанника задания полегче: ведь ему сложно учиться наравне со старшими. Но он сильно обижался, когда замечал это.
– Мадемуазель Фанни, почему вы не спрашиваете у меня то, что спрашивали у Коли?
Поколебавшись, она отвечала:
– Что ж, Pierre, если вы столь прекрасно знаете урок, прошу вас.
И он отвечал ничуть не хуже. Любознательный, восприимчивый и прилежный Пьер быстро догнал старших брата и кузину. Фанни скоро перестала делать скидки на его возраст и, хотя педагогу не положено иметь любимчиков, все-таки выделяла младшего ученика из других. Это был особенный ребенок: во всем, что он ни делал, сквозило нечто необыкновенное, невольно чаровавшее всех, кто общался с ним. Стоило побыть с ним несколько минут, чтобы, поддавшись очарованию его ума и сердца, отдать ему предпочтение перед другими детьми.
Постоянно тянувшийся к знаниям, Пьер нередко продолжал просматривать книги и во время рекреаций3. Так однажды перед уроком истории он сидел за атласом, внимательно изучая его. Фанни улыбнулась, радуясь усердию своего ученика. Как вдруг он начал покрывать поцелуями ту часть карты, на которой была изображена Россия. Столь горячий патриотизм был бы даже трогателен, если бы вслед за тем он не принялся плевать на остальную часть карты.
– Как вам не стыдно, Pierre! – возмутилась гувернантка. – Нельзя так относиться к людям, которые так же, как и вы, говорят Богу: «Отче наш». Подло презирать ближних лишь за то, что они не русские. Я ведь тоже не русская, значит, вы и на меня плюете?
– Вы напрасно меня браните, – не смутился тот, – разве вы не заметили, что я прикрыл Францию рукой?
Фанни не нашлась, что ответить на подобное заявление, и только улыбнулась против воли. Сердиться на этого ребенка было совершенно невозможно.
Появление Пьера в классе благотворно повлияло на старшую ученицу. Может быть, пристыженная примером маленького кузена, не желая от него отставать, Лиди начала учиться гораздо прилежнее. Более того, с каждым днем она становилась мягче, послушнее, перестала беспрестанно дерзить и впервые проявила интерес к чему-то помимо своих нарядов, полюбила читать. Фанни радовалась, что смогла найти подход к этой непростой девочке, смогла найти с ней общий язык.
Дети теперь отвечали уроки наперебой, соревнуясь друг с другом, стараясь заслужить высшие оценки, поскольку тот, кто лучше всех учился на неделе, получал право носить красный бант. Утром в воскресенье Фанни собирала своих питомцев, внимательно изучала журнал, делая вид, будто пытается определить лучшего, хотя всегда знала это заранее. И надо было видеть, как дети с надеждой и волнением смотрели на нее, пытаясь заглянуть в журнал. А потом Фанни подзывала к себе отличившегося на этой неделе ученика и торжественно прикалывала ему бант к одежде. Ребенок сиял от счастья, а остальные радостно аплодировали ему, нисколько не завидуя. Получив бант, каждый из них реагировал по-разному: Лиди прыгала чуть ли не до потолка, хлопая в ладоши; Николя принимал награду с забавной важностью и достоинством, но не выдерживал роль до конца и тоже начинал подпрыгивать; а Пьер замирал с таким выражением на лице, точно сейчас упадет в обморок от счастья.
С этим ребенком вообще было сложно: порой возникало ощущение, что он сделан из стекла и того и гляди разобьется. Болезненно-впечатлительный мальчик остро реагировал на любое, даже самое незначительное замечание: в общении с ним приходилось с особой осторожностью подбирать слова. Стоило хоть чуть-чуть стать построже, он расстраивался так, что делалось страшно. Особенно внимательна стала Фанни к своим словам после одного случая. В тот день оба брата – и Николя, и Пьер – ужасно плохо выполнили задание, явно нисколько не стараясь. Мальчики они были неглупые и вполне могли бы справиться гораздо лучше.
– Как вам не стыдно! – выговаривала гувернантка своим ученикам. – Мне жаль вашего отца: он трудится, чтобы заработать деньги на ваше образование, а вы так неблагодарны, что совершенно не цените этого и небрежно относитесь к своим занятиям и обязанностям. Вы совсем отца не любите!
Пьер сразу притих, задумался, весь день не участвовал в играх с остальными детьми, и Фанни уже начала с беспокойством поглядывать на него. Вечером перед сном она, как всегда, зашла в его комнату.
– Bonne nuit, Pierre4, – произнесла она и тут же заметила, что что-то не в порядке.
Он смотрел на нее, ни слова не отвечая, а глаза неудержимо наполнялись слезами. И вдруг он заговорил с рыданиями и всхлипываниями:
– Вы неправы, мадемуазель Фанни, я очень-очень люблю папеньку! Я никогда не буду неблагодарным и всегда буду хорошо учиться!
В итоге пришлось его утешать, и с тех пор Фанни тщательно подбирала слова, когда приходилось делать Пьеру замечания. Впрочем, случалось это не так уж и часто: мальчик он был послушный.
Зимние вечера в России долгие, и, чтобы занять детей, Фанни ввела обычай собираться по вечерам в комнате и читать им различные истории. Детская в такие моменты освещалась лишь лампадой да несколькими свечами, и их дрожащий свет создавал особенный уют. На стекле переплетались морозные узоры, которые можно было рассматривать, выискивая в них фантастичные картины. Фанни устраивалась с книгой в руках в кресле рядом с затепленной лампадой, а ее ученики садились вокруг и, затаив дыхание, слушали ее рассказы.
С наступлением весны в маленьком классе Фанни появился еще один ученик. Александра Андреевна привела темноволосого мальчика лет семи, который застенчиво уставился в пол, не смея открыто разглядывать незнакомых людей. Но любопытство брало верх, и время от времени он бросал на них заинтересованные взгляды из-под ресниц.
– Мадемуазель Фанни, – произнесла Александра Андреевна, – я прошу вас взять к себе еще одного ученика. Это Веничка Алексеев. У него недавно умерла мать, а отец слишком занят на заводе и не имеет возможности уделять сыну достаточно времени. Илья Петрович решил, что мальчика можно учить вместе с нашими детьми. Если вы, конечно, не против.
– Что вы, госпожа Чайковская, буду рада.
Ученики Фанни с любопытством изучали нового товарища, отчего он смутился еще больше. Пьер первый подошел знакомиться, предложил Веничке сесть рядом с ним, тут же начав расспрашивать обо всем. За братом втянулся в разговор Николя, а там присоединилась и Лиди.
Веничка оказался ребенком кротким, трудолюбивым и привязчивым и уже к концу своего первого дня подружился с товарищами. Ему, до тех пор нигде не обучавшемуся, приходилось нелегко, но дети дружно взялись помогать ему догнать их в знаниях. И Пьер наравне со старшими объяснял уроки новому приятелю.
***
Спокойно и размеренно текло время в доме Чайковских. Прошла весна, когда Петя отметил свой пятый день рождения. Наступило жаркое лето, в которое произошло событие, оставившее глубокий след в его душе: Петя совершил свою первую длительную поездку – с матерью и сестрицей Настасьей Васильевной на Сергиевские воды. Собственно, Настасья Васильевна была ему кузиной, а не родной сестрой, но в доме все звали ее просто Сестрица. Она была уже совсем взрослой – что-то около тридцати лет – однако замуж так и не вышла. Петю она любила с горячей страстностью и постоянно старалась потихоньку от маменьки дать ему побольше сладостей. А вот кузину Лиду Сестрица почему-то терпеть не могла.
Путь на воды был долог, скучен и утомителен. Когда стемнело и дорога освещалась лишь звездами, стало страшно. Казалось, вот-вот появится из темноты кто-то ужасный, лошади собьются с пути и они потеряются в бесконечных российских просторах.
Тем ярче было впечатление от освещенного помещичьего дома, к которому они подъехали поздно вечером. Уютный, светлый домик, точно надежный теплый маяк в безбрежном черном море, показался землей обетованной после наводящей страх ночной езды. И сразу стало спокойно и хорошо. Они прогостили там несколько дней у какой-то дальней родственницы маменьки, которую Петя видел в первый и последний раз.
Несмотря на пережитые скуку, усталость и страх, русские дороги оставили в его душе неизгладимый след. Впоследствии путевые впечатления не раз находили отражение в его сочинениях. А пока он наслаждался длительным пребыванием наедине с обожаемой матерью, когда все ее внимание и ласки принадлежали только ему, и богатством впечатлений от новых людей и невиданных красивых мест.
От этой поездки на всю жизнь он сохранил очень светлое воспоминание.
По возвращении домой возобновилась обычная жизнь: уроки, игры, музыка. За роялем Петя мог сидеть часами, если гувернантка не заставляла его заняться чем-то более подвижным. Впрочем, он всегда с удовольствием бегал и резвился с другими детьми, но, как только оставался предоставленным самому себе, неизбежно возвращался к роялю. Из этого инструмента можно было извлечь божественные звуки, которые затрагивали в его душе самые глубокие струны. Музыка звучала в нем и вокруг него, наполняла все окружающее.
С наступлением лета по вечерам мадемуазель Фанни с учениками выбиралась из душных комнат и устраивалась на балконе. Прямо перед ними на пруду, гладком, как зеркало, в котором отражалось заходящее солнце, бесшумно качались челны рыбаков. Дети и гувернантка сидели, слушая тишину и доносившиеся издалека песни крестьян. Простые, но невыразимо прекрасные мелодии очаровывали Петю, и он потом старался передать их на рояле. Он бесконечно любил эти тихие летние вечера, когда небо полыхало изумительными красками заката.
В доме Чайковских часто устаивались музыкальные праздники: собирались любители со всего Воткинска. В один из таких праздников детям позволили остаться со взрослыми, и Петя, весь вечер жадно впитывавший незнакомые мелодии, настолько переутомился, что вынужден был уйти к себе раньше обычного.
Но и оказавшись один в тишине своей комнаты, Петя по-прежнему слышал звуки музыки. Они настойчиво крутились в его голове, не давали уснуть. Каждый шорох, скрип, шум деревьев под порывом ветра звучал особой мелодией. Музыка заполняла всё вокруг, преследовала, просила вырваться наружу. Не зная, что с ней делать, он не выдержал и, сжав голову руками, разрыдался.
Тихо открылась дверь, в комнату вошла мадемуазель Фанни, которая, заметив, что ее воспитанник плачет, испуганно спросила:
– Что случилось, Pierre? Почему вы плачете?
– О, эта музыка! Эта музыка! – в отчаянии воскликнул он, закрывая уши, пытаясь избавиться от преследующих его звуков.
– Какая музыка, Pierre? – удивленно произнесла гувернантка. – Праздник закончился: никто больше не играет.
– Она у меня здесь! Здесь! – простонал он, показывая на голову, и, подняв на нее умоляющие глаза, добавил: – Избавьте меня от нее! Она преследует меня, не дает мне покоя!
Мадемуазель Фанни озабоченно нахмурилась, села рядом с ним и крепко обняла, пытаясь утешить и успокоить. Петя доверчиво прильнул к ней и постепенно перестал всхлипывать. Так и уснул у нее на руках.
Фанни осторожно переложила воспитанника на кровать, укрыв его одеялом. Ей совершенно не нравился его нервный срыв: определенно, увлечение музыкой вредно для Пьера. Надо бы ограничить его занятия за фортепиано, а может, исключить их совсем. Конечно, у него несомненный творческий дар, но лучше бы этот дар направить в поэзию, которая не действует так пагубно на его психику.
Отныне занятия музыкой для Пети были строго ограничены, но мелодии продолжали звучать в его голове. Пытаясь выпустить их наружу, он выстукивал их пальцами по первой попавшейся поверхности. Он мог надолго так, замерев, погрузиться в свои мысли и лишь отбивать ритм. Всё бы ничего, если бы он барабанил только по столу. Но однажды Петя, уединившись в застекленной галерее, принялся в задумчивости стучать по окну. На улице сияло солнце, переливавшееся радугой в каплях, оставшихся после недавнего дождя и заставлявшее по-особенному сверкать траву и листву деревьев. Но Петя уже не видел ничего вокруг, полностью погруженный в себя: мелодия вырисовывалась всё отчетливее, он барабанил всё сильнее. Как вдруг – от слишком сильного удара стекло со звоном разбилось, и осколки больно впились в руку.
Пару секунд Петя ошарашено смотрел на окровавленную ладонь, а потом, сорвавшись с места, помчался к мадемуазель Фанни. Та, увидев его в таком виде – испуганного, взъерошенного, испачканного кровью – схватилась за сердце и быстрее потащила перевязывать раненую руку.
– Как же так можно, Pierre? – сокрушенно вздохнула она по дороге.
– Я просто задумался: у меня уже совсем получилась мелодия, а тут вдруг раз – и стекло разбилось.
Вечером состоялось совещание между родителями и гувернанткой, в результате которого решили нанять для Пети учительницу музыки. Если запрет подходить к роялю не помогает избавить его от преследующих музыкальных образов, то, может быть, поможет умение выражать их на инструменте.
Так в доме появилась Мария Марковна Пальчикова – бывшая крепостная, тихая, скромная и застенчивая особа, которая взялась за обучение Пети. Занятиям он отдавался с упоением и быстро выучился прекрасно играть, удивляя свою учительницу.
***
На следующий год из Екатерининского института в Воткинск вернулась старшая сестра Зина, которой к тому времени исполнилось семнадцать лет.
Забрать Зину из института поехала Александра Андреевна. На этот раз, когда она уезжала, Петя не требовал поехать с ней. Но тоска по матери не стала меньше: за три месяца, что ее не было дома, он успел ужасно соскучиться. И чуть ли не каждый день спрашивал отца, скоро ли вернется маменька.
Наконец, незадолго до Рождества раздался звон бубенцов приближающейся кибитки. Не успел никто выбежать во двор, как дверь распахнулась, из нее в комнату ворвалось облако морозного воздуха, и влетело маленькое, необычайно миловидное создание, которое Петя видел первый раз в жизни – сестра Зина. Но в первую очередь всё его внимание было сосредоточено на матери. С неземным блаженством он припал к ее груди и уже весь вечер не отходил от нее.
Сестра же показалась Пете какой-то феей, явившейся из мира, полного чудес и необыкновенных прелестей. Рассказы о театрах, которые представлялись ему несбыточным наслаждением; танцы, которым она начала их учить – всё это волновало его воображение. А еще Зина показала своим младшим братьям и сестре столичное развлечение – живые картины. Несколько дней длилась подготовка к этому действу. Зина вместе с маменькой и мадемуазель Фанни что-то шили за закрытыми дверями, не пуская к себе младших. И дети по очереди бегали к загадочной комнате, пытаясь разузнать, что же там такое творится. Наконец, всё было готово. Зина торжественно вынесла ворох красивых ярких костюмов и принялась раздавать их малышам. Мальчикам достались широкие шаровары, рубашки и жилетки, а на голову – тюбетейки. Сашу нарядили в короткую кофточку и широкие штаны, на которые сверху была накинута прозрачная юбочка.
Когда все были одеты, Зина объявила:
– Картина называется «Турки».
И принялась расставлять детей в разных позах: Коля уселся на подушке, как падишах, Петя и Поля встали по бокам с широкими опахалами, а Саша изображала восточную танцовщицу.
– Замри! – скомандовала Зина.
Живая картина застыла на мгновение, и Петя пожалел, что не может увидеть ее со стороны: наверняка это выглядело очень красиво. Родители зааплодировали.
– Молодцы! – одобрила их сестра.
Новое развлечение понравилось – с тех пор подобные картины стали устраивать на все праздники. И без того оживленный и гостеприимный дом с приездом Зины стал еще оживленнее.
Наступила Масленица – самое веселое время года. Петя любил эти дни, когда пекли вкусные румяные блины, катались с ледяных гор – катушек – и на обледенелых шестах. Вместе с заводскими мальчишками дети начальника завода строили города из снега, придавая им всевозможный вид. Для этих крепостей выбирался городничий, обязанный стоять в городе и защищать его от нападения Масляницы – маскированной группы мастеровых.
Чаще всего городничим выбирали Колю. Он забирался в громадную снежную крепость, ставил флаг – цветную полоску ткани – на самую высокую башню и ходил вокруг него дозором. Было ужасно забавно и увлекательно с толпой мальчишек пытаться забраться в крепость. При этом городничий безжалостно закидывался снежками. Но он и сам в долгу не оставался: спрятавшись за высокими снежными стенами, Коля открывал ответный огонь, да так ловко, что немногие могли добраться до входа. Зато уж когда это удавалось, все уцелевшие с веселыми криками и гиканьем хватали городничего и снимали флаг с башни, а потом торжественно обходили вокруг наполовину разрушенных в пылу битвы стен. Домой они возвращались в снегу с ног до головы, насквозь промокшие, но страшно довольные. А на следующий день строилась новая крепость, выбирался новый городничий, и всё начиналось сначала.
Веселое время – Масленица!
Но вот пролетела Масленичная неделя, начался Великий Пост. Совершенно особые службы в это время, исполненные светлой печали, никогда больше таких не бывает. Всей семьей ходили они в церковь, и, замерев в полумраке, освещаемом лишь свечами да лампадами, Петя вслушивался в протяжное печальное пение, иногда начиная тихонько подпевать. Душа наполнялась светом и глубокой тишиной. Сложное это время: долог Великий Пост, но весь он освещается предстоящей великой радостью – радостью Пасхи, несравнимой ни с чем.
В тот год Петю впервые взяли с собой на ночную службу. Раньше он вместе с тетушкой Надеждой Тимофеевной, Сашей и Полей ходил в церковь уже утром – на детскую службу. А теперь он большой, может пойти на настоящую литургию.
Сначала хотелось спать, но весь сон слетел, когда раскрылись Царские врата и раздалось едва слышное, но постепенно становящееся всё более громким и ликующим пение: «Воскресение Твое Христе Спасе…» Трепетно сжав в руке зажженную свечу, вместе со всеми Петя шел крестным ходом. Обернувшись назад, он увидел целое море огоньков, медленно движущееся вокруг храма. В темноте апрельской ночи это выглядело невероятно красиво.
Крестный ход подошел к закрытым дверям храма, остановился перед ними. «Как жены-мироносицы перед гробом Господним», – вспомнил Петя маменькино объяснение. И вот раздался первый радостно-ликующий возглас священника:
– Христос воскресе!
И сотни голосов в ответ:
– Воистину воскресе!
Вместе со всеми кричал Петя, чувствуя, как поднимается в груди невыразимое ликование. Распахнулись двери храма, и радостная толпа потекла внутрь. Устроившись у самого клироса, Петя вслушивался в брызжущие светом напевы Пасхальной службы. Он мало что запомнил из нее, но осталось впечатление всеобщей радости, ликования, света. И когда они вернулись домой, он долго еще не мог заснуть от переполнявшего душу восторга.
***
Больше всего Петя любил субботние вечера, когда мадемуазель Фанни вместе со своими подопечными устраивалась в комнате, освещенной одной лампадкой, и они начинали по очереди рассказывать истории.
Каждый должен был придумать что-нибудь свое. Петя всегда с удовольствием и увлечением сочинял рассказы. Но особенно его привлекали в этих вечерах истории, поведанные самой гувернанткой. Она читала им необыкновенно интересную книгу «Знаменитые дети», и, слушая о жизни Жанны д'Арк, отдавшей жизнь за Родину, или о несчастной судьбе Людовика XVII, погибшего совсем ребенком, Петя мог подолгу сидеть, не шевелясь и завороженно глядя на мадемуазель Фанни. Он будто переносился из тихого родного городка в совершенно иной мир: незнакомый, но манящий своим блеском и величием.
Однажды, слушая про Жанну д'Арк, Петя принялся записывать на клочке бумаги образы, навеянные рассказом. Заметив, как он усердно что-то строчит, покусывая в задумчивости кончик пера, мадемуазель Фанни спросила:
– Что вы такое пишете, Pierre?
– Я сочинил стихотворение про Жанну д'Арк.
Гувернантка с любопытством заглянула в листок и с легкой улыбкой принялась читать его сочинение:
L’heroïne de la France
On t’aime, on ne t’oublie pas
Heroïne si belle!
Tu a sauvé la France
Fille d’un berger!
Mais qui fait ces actions si belles!
Barbare anglais vous ont tuée
Toute la France vous admire
Tes cheveuz blonds jusqu’à tes genoux
Ils sont très beau
Tu étais si célèbre
Que l’ange Michel t’apparut
Les célèbres on pense à eux
Les méchans on les oublie!5
– Замечательно, Pierre, вам стоит развивать свой творческий дар.
Петя зарделся, довольный похвалой. Впечатления, переполнявшие душу, он нередко выражал в стихах, хоть и по-детски неуклюжих (ему было всего семь лет), но глубоких: он писал о Боге, о смерти, о детях сиротах, о Родине – обо всем том, что глубоко волновало его чистую сострадательную душу. Близкие с улыбкой стали называть его «маленький Пушкин», втайне надеясь, что поэзия немного отвлечет его от слишком страстной любви к музыке. Но в каких бы формах ни пытался Петя выразить свой внутренний мир, музыка всегда стояла для него на первом месте.
Незаметно летело время в Воткинске – счастливейшее время детства. Впоследствии не раз вспомнит композитор об этих годах.
Глава 2. Переезды
Ясным сентябрьским утром, вопреки обыкновению, Колю и Петю пришла будить маменька, а не гувернантка, как это происходило на протяжении последних четырех лет. На их удивленный вопрос она осторожно ответила, что мадемуазель Фанни больше не будет жить в их семье: она переходит служить в другой дом.
Оба брата ошеломленно уставились на мать: они никак не ожидали, что с любимой воспитательницей придется расстаться так скоро. Ведь в семье еще двое младших детей, и некоторое время спустя им тоже понадобится гувернантка.
– Почему? – выразил Петя общий вопрос.
Мама тяжело вздохнула:
– Мы переезжаем в Москву: вашему отцу там обещали выгодное место. Взять с собой мадемуазель Фанни мы не можем: наше собственное положение слишком неустойчиво. А заставлять ее ждать неизвестно чего было бы слишком несправедливо. К тому же вы с Колей в Москве начнете учиться в пансионе, и гувернантка вам будет не нужна.
Восьмилетний Петя не очень понял ее рассуждений, но то, что мадемуазель Фанни они больше не увидят – это он понял прекрасно. И, спрыгнув с кровати, как был в одной рубашке, он бросился вниз, ловко проскользнув мимо матери, пытавшейся его задержать.
– Мадемуазель Фанни! Мадемуазель Фанни! – закричал он, слетая по лестнице и едва не врезавшись в выбежавшего на его крик отца.
– Петя, Петичка! – мама, наконец, догнала его и обняла за плечи, удерживая. – Она уехала рано утром, пока вы спали.
– Как уехала? И не попрощалась? Почему? – к боли разлуки примешалась обида, на глазах выступили слезы.
Родители растерянно переглянулись.
– Ей пришлось быстро уехать, – осторожно ответил папа. – Было еще слишком рано, и вас будить не стали.
Петя замотал головой и всхлипнул. Как же так? Почему им не дали даже попрощаться? Поддавшись уговорам матери, он вернулся в спальню, чтобы одеться, но как Александра Андреевна ни старалась успокоить сына, он был безутешен.
Целый день Петя слонялся из одной комнаты в другую, не зная, чем заняться, и, в общем-то, не имея особого желания заниматься чем бы то ни было: мысль о том, что больше никогда он не увидит любимую гувернантку, не отпускала. Даже предстоящее путешествие в Москву – город древний и в его воображении почти сказочный – не могло развеять подавленного настроения.
Дом был полон народу: буквально всё население Воткинска пришло попрощаться с начальником завода и его семьей. К неразберихе приготовлений прибавлялась суматоха прощаний. Всё стояло вверх дном. И в этих условиях дети были предоставлены самим себе.
Выехали поздно вечером, когда начало темнеть. При прощании многие плакали. Наконец, сели в карету и тронулись. Петя забился в уголок, прижавшись к окну кареты, бездумно глядя на проплывающие мимо пейзажи. Ехали долго, ему показалось, что бесконечно долго. Только когда на темном небе уже давно сияли звезды и светила почти полная желтая луна, въехали в какой-то город. Мама сказала, что это Сарапул.
На ночь остановились в двухэтажном каменном доме, изукрашенном красивой лепниной. По краям его стояли башенки, сливавшиеся с основным зданием и наверху украшенные резными флюгерами. После небольших воткинских зданий этот дом показался Пете чуть ли не дворцом.
На следующее утро Пете пришла в голову мысль написать мадемуазель Фанни письмо: раз уж не получилось попрощаться лично. После завтрака он бросился обратно в свою комнату и принялся искать письменные принадлежности. Но дом был чужой – найти нужное никак не удавалось.
Тогда он попросил у взрослых пера и бумаги, но вот досада: ни одно письмо не мог написать как следует. От волнения руки так дрожали, что он постоянно делал кляксы – на самом лучшем письме поставил пять клякс. От отчаяния Петя чуть не плакал. Не может же он послать мадемуазель Фанни столь неаккуратное письмо! А написать красиво – ну, никак не выходит! Во всеобщей суматохе на него никто не обращал внимания, только Сестрица пыталась утешить, как могла.
Вечером в Сарапуле вдруг появилась тетенька Надежда Тимофеевна и Веничка, которые оставались с ними еще два дня. А потом снова начались прощания и слезы. Грустно и больно было расставаться с друзьями и родными. Сестрица, которая до сих пор сопровождала их, дальше не поехала и в последний раз со слезами целовала своего любимчика Петичку.
Когда семья окончательно покинула Вятку, настроение у всех было подавленное, а Петя и вовсе впал в депрессию. Но обилие дорожных впечатлений постепенно прогнало тоску. Перед глазами мелькали поля и города, леса и деревни.
До Москвы ехали десять дней – соскучившись в пути, Петя специально их подсчитывал. Долгое, почти неподвижное сидение на одном месте – в карете, наполненной людьми, не больно-то разгуляешься – ужасно утомляло. Размяться можно было только во время остановок на постоялых дворах. Коля – опытный путешественник – тяготы дороги выносил стоически. Петя, всегда умевший погружаться в свой внутренний мир, отрешившись от окружающего, тоже сидел спокойно. А вот подвижная Саша и особенно самый младший Поля совсем извелись, пока добрались до Москвы. Они без конца теребили родителей, спрашивая, долго ли еще ехать.
И вот на рассвете показалась Москва. Петя высунул голову в окно, с жадностью вглядываясь в открывшийся перед ним вид старинного города. Въехали на широкий каменный мост, и перед путешественниками из утренней дымки встал Кремль: розовый, белый, золотой, озаренный восходящим солнцем, которое сверкало и переливалось на золотых куполах. Распахнуты настежь огромные дубовые ворота. Наверное, и не запирают их никогда: как подвинуть-то такую тяжесть? С башен Кремля строго смотрели орлы, будто сторожили. Справа – обрыв, и там вдаль расстилалась Москва. Мерцали над этой далью из туманной дымки белые купола и золотые кресты церквей. Сколько же их тут! Сонная тишина висела над городом. Но вот ударили где-то вдалеке колокола; им отозвались в кремлевских церквях, совсем рядом; снова вдалеке перезвон, теперь уже с другой стороны. И поплыл над Москвой хрустальный благовест – звонили к заутрене.
Проехали величественный Кремль, замелькали дома: то небольшие деревянные, совсем деревенские, то настоящие дворцы – каменные, изукрашенные. При каждом доме, даже самом маленьком, обязательно имелся двор, в котором гуляли куры, а порой и козы. Точно это не большой город, а какая-нибудь деревня.
Засуетились, заспешили люди по мощенным улицам и булыжным мостовым, загромыхали кареты и тележки. Проснулась, зашумела Москва.
– Петенька, не высовывайся так сильно, – раздался мамин голос.
Петя виновато улыбнулся и сел обратно на сиденье (увлекшись открывшимися видами, он вставал на него на колени и до пояса высовывался в окно кареты). Мимо прогромыхала роскошная карета с гербом на дверцах. На козлах, рядом с кучером сидел важный лакей в цилиндре с позументом и в богатой ливрее. А сзади, на запятках – еще два лакея в длинных ливреях. В карете расположилась красивая величественная женщина, наверное, какая-нибудь великая княгиня. Петя проводил карету восхищенным взглядом и снова принялся изучать дорогу.
Они двигались теперь по довольно широкой улице, но и здесь, между большими домами, то и дело встречался ветхий деревянный домишко. Казалось, не будь по бокам от него каменных зданий, он давно бы уже рухнул. Однако этот контраст был странным образом красив. Москва производила впечатление города уютного, семейственного.
Здесь у Чайковских не было родных, как в Петербурге, и остановились на съемной квартире в старом темном доме. Древний город принял их неприветливо: должность Ильи Петровича успели увести у него буквально из-под носа. Глава семейства спешно отбыл в Петербург, чтобы выяснить все обстоятельства дела. Квартира, на которой они остановились, была ужасно дорога, при этом не представляя из себя ничего особенного: обычная казенная обстановка.
Оказавшись в чужом городе, где всё было непривычно, где не было никого знакомого, без отца, семья почувствовала себя потерянной. Александра Андреевна старалась не показывать своей тревоги и озабоченности детям, но они всё равно замечали общее напряжение и нервозность взрослых.
Через пару недель от Ильи Петровича из Петербурга пришло неутешительное известие: должность он все-таки не получит. Надо было что-то срочно решать, искать другое место.
А тут еще заболела Каролина – нянька младших детей. В один «прекрасный» день она почувствовала дурноту и слабость, к полудню ее начало рвать и к вечеру Каролина слегла. Срочно вызванный доктор констатировал холеру, эпидемия которой свирепствовала тогда в Первопрестольной. Болезнь быстро прогрессировала, и бедная девушка едва не умерла, но доктор сумел ее спасти, пустив кровь. Через несколько дней Каролине стало лучше, однако она по-прежнему была слишком слаба и не вставала с постели.
Александра Андреевна до дрожи боялась, что от бонны заразятся дети, и это случилось: вслед за Каролиной слегла Саша. К счастью, болезнь сразу распознали – дочка поправилась быстро. А вот Каролина долго еще не могла приступить к своим обязанностям.
Дети остались без присмотра: у Александры Андреевны не хватало ни сил, ни времени заниматься с ними; а отдать в пансион хотя бы старших мальчиков, она не решалась, не зная, что будет дальше и где они будут жить. И она поручила заботу о младших падчерице.
Москва, которая при въезде в нее произвела на Петю завораживающее впечатление, скоро разочаровала. Здесь было скучно, тоскливо, они жили в серой неуютной квартире, к тому же маменька была чем-то серьезно обеспокоена.
По ее желанию Зина начала заниматься уроками с младшими. Но сестра была со своими учениками нетерпелива, а порой даже резка. Случалось, несправедливыми упреками она доводила впечатлительного Петю до слез, но делала вид, будто не замечает его реакции. Зато с Колей Зина была более чем снисходительна, что вызывало еще большую обиду. Совсем не так относилась к ним мадемуазель Фанни: она всегда для каждого находила слово утешения, ко всем была внимательна и не выделяла из учеников любимчиков. Где-то теперь дорогая гувернантка? Увидятся ли они когда-нибудь еще?
Но вот, наконец, мучительное пребывание в Москве закончилось.
***
Прохладным хмурым ноябрьским днем Чайковские въехали в Петербург. После скромной домашней Москвы он поразил своей роскошью и европейским великолепием. Широкие улицы были полны народу, несмотря на довольно поздний час: все куда-то спешили. Одеты петербуржцы были совсем не как москвичи – никакой пестроты в нарядах, все придерживались европейской моды. Дома здесь стояли огромные: что ни дом, то дворец. Не было и бесконечных холмов, как в Москве – улицы прямые и ровные, словно прочерченные по линейке. Тротуары выложены плиткой, а кое-где и гранитом – широкие, ровные и чистые.
Проспект, по которому ехали Чайковские, несколько раз пересекал воду. Каждый раз Петя спрашивал:
– Это Нева?
И каждый раз получал ответ, что нет – это всего лишь каналы, которых в Петербурге великое множество, покрывавшие город, точно сеть паутины. Въехали на обширную площадь, на которой высился громадный величественный храм с золотым куполом.
– Исаакиевский собор, – пояснила маменька в ответ на вопросительный взгляд Пети.
Справа мелькнул памятник – всадник на коне, стоящем на задних ногах. Петя сразу понял, что это царь Петр I – Медный всадник, воспетый Пушкиным.
Дорога вышла на набережную. Вот теперь это точно была Нева – гладкая поверхность широкой реки казалась совсем темной в сумерках. Они поехали вдоль набережной, завернули на мост, и справа осталась площадь с бело-зеленым великолепным дворцом у самой воды. Посреди площади высилась колонна с ангелом наверху.
– Мама, что это? – спросил восхищенный зрелищем Петя.
– Дворцовая площадь и Зимний дворец. Там живет император.
Восхищение Пети еще больше возросло, но площадь скоро скрылась с глаз. Зато открылась новая, не менее восхитительная картина. Набережная делала полукруг, в центре которого расположился очередной дворец, по своему виду напоминавший античные постройки, а по краям полукруга стояли колонны, украшенные рострами. На самом верху колонн горел огонь – наверное, они служили маяками.
Наконец, доехали до дома Меняева на Васильевском острове, где им отныне предстояло жить. Небольшой по сравнению с постоянно встречающимися дворцами дом стоял одиноко, отдельно ото всех. Одной стороной он выходил на Неву, на Тучкову набережную, по которой они приехали; а другой – на Биржевой и Волховский переулки.
На следующий же день Петю и Колю отправили на обучение в пансион Шмеллинга. К восьми часам они были на месте. Братья с опаской смотрели на галдящую, напоминающую бурное море толпу учащихся. После спокойного родного дома пансион казался вавилонским столпотворением. Это мельтешение утихло, только когда прозвенел колокол, возвещающий начало занятий, и все разошлись по классам.
Учитель – полноватый лысый мужчина – представил новеньких товарищам по учебе:
– Николай и Петр Чайковские с сегодняшнего дня будут учиться с вами. Они по семейным обстоятельствам только что переехали в Петербург. Надеюсь, вы поможете им освоиться, – и, уже обращаясь к братьям, добавил: – Проходите, садитесь.
Свободное место нашлось лишь на задней парте, и пришлось идти через весь класс под любопытными, насмешливыми, а порой и презрительными взглядами мальчишек. Это задевало: почему на них так смотрят, ничего о них не зная? Или столичные всегда так относятся к провинциалам?
Здесь всё было чужим, непривычным – начиная от равнодушных учителей, просто вычитывающих лекцию, не заботясь о том, поняли ли их дети; и заканчивая толпой враждебно настроенных пансионеров, которые на первой же рекреации начали задирать новичков. В результате Петя и Коля подрались с одноклассниками, что только усугубило их негативное впечатление от пансиона.
Но это бы еще полбеды – братья быстро научились отвечать на подначки и давать сдачи обидчикам – а вот учеба становилась непосильным бременем. Они поступили в пансион в разгар учебного года, и, даже с прекрасным домашним образованием им пришлось нагонять слишком много, так что нередко они просиживали за уроками до поздней ночи.
Мальчики похудели, осунулись, побледнели, их веселость пропала – они стали серьезны и постоянно сосредоточенны. На этом фоне тоска по покинутому Воткинску и любимой гувернантке стала еще острее. И когда маменька сообщила, что от мадемуазель Фанни пришло письмо, Петя заплакал от счастья. Жадно не прочитав даже, а проглотив письмо, он тихонько вздохнул:
– Хочу, чтобы и Москва, и Петербург оказались лишь сном, и я проснулся бы в Воткинске, рядом с милой мадемуазель Фанни…
Мама грустно вздохнула на его слова и потрепала по голове:
– Я понимаю, что сложно привыкнуть к новой жизни, но что ж сделаешь, Петенька, так сложилось. Мы должны быть мужественны.
Единственной отрадой петербургской жизни были поездки в театр по выходным. Впервые оказавшись в этом поистине волшебном месте, о котором мечтал после рассказов Зины, Петя замер от восхищения при виде огромного величественного здания, на подъезде к которому стояло множество экипажей. Нарядные дамы, элегантные мужчины выходили из них и поднимались по широким ступеням. А уж внутри… Роскошный зрительный зал с громадной люстрой и обитыми бархатом ложами поразил воображение. Но когда зазвучала музыка, он забыл обо всем на свете, с головой погрузившись в чудесный мир звуков.
Обилие новых впечатлений пагубно отразилось на здоровье Пети: всю ночь прометавшись в бреду, на следующий день он проснулся с высокой температурой. С тех пор здоровый прежде мальчик начал часто болеть, и посещение пансиона стало чрезвычайно нерегулярным. Физическое и эмоциональное переутомление привело к тому, что Петя из ласкового послушного ребенка сделался капризным и раздражительным: от каждого пустяка он ударялся в слезы.
А в начале декабря братья заболели корью. И если Коля быстро поправился и вернулся в пансион, у Пети болезнь дала осложнения, довершив нервное расстройство. У него начались нервные припадки, и по настоянию докторов все занятия, включая музыкальные, были прекращены. А ведь они едва успели начаться под руководством приглашенного учителя Филиппова.
Петя был безмерно счастлив, получив возможность постоянно быть дома с обожаемой мамашей, с Сашенькой и Полей, избавившись от необходимости ходить в ненавистный пансион и быть в обществе либо равнодушных, либо враждебно настроенных одноклассников.
Под влиянием благотворной домашней обстановки нервные припадки прошли, да и физическое здоровье поправилось. Но прежнюю детскую безмятежность и ясность было уже не вернуть. Для Пети началось взросление.
***
Не успели дети освоиться в Петербурге, как снова переезд: к весне Илья Петрович получил назначение управляющего Алапаевским и Нижне-Невянским заводами. На этот раз семья разделилась: Колю оставили на обучение в частном пансионе Гроздова для приготовления к поступлению в Горный корпус – старшего сына определили пойти по стопам отца. И снова разлука с дорогим человеком. Петя тяжело пережил прощание с братом, который и сам был грустен и подавлен, но не подавал виду – Коля считал себя взрослым.
Долгий путь до Алапаевска шел дикими, непроходимыми лесами. Порой приходилось ехать ночью, и от зловещего шума ночного леса: скрипа ветвей на ветру, уханья сов, каких-то вовсе непонятных звуков – становилось жутко. Наконец, леса закончились, карета выехала на скалистую местность – теперь кругом были рудники. Этот привычный по Воткинску пейзаж действовал успокаивающе.
Но первое сходство с Воткинском оказалось обманчивым: Алапаевск находился в настоящей глуши с суровой северной природой, которая даже в мае не отличалась пышностью и буйной зеленью. Единственным украшением служили две полноводные реки – Нейва и Алапаиха. От последней город и получил свое название.
Карета остановилась рядом с каменным светло-зеленым домом, расположенным напротив величественного собора. Громадный, даже по сравнению с воткинским, особняк с мезонином и двумя флигелями странно смотрелся среди окружающих деревянных домиков. Здесь предстояло жить Чайковским.
Дом и внутри оказался просторен и удобен – в нем располагалось пятнадцать комнат, более чем достаточно и для всей семьи, и для прислуги. Балкон с застекленной арочной дверью выходил в тенистый сад с цветниками и беседками. На территории усадьбы находились хозяйственные постройки, оранжереи, огороды и игровые площадки для детей. Но от усталости долгого пути, в суматохе обустройства на новом месте, Петя был не способен оценить его достоинства. Отчаянная тоска по родному Воткинску вспыхнула с новой силой. Ведь здесь не было столь многих дорогих людей: ни тетушки Надежды Тимофеевны, ни доброго отзывчивого Венички, ни – самое главное – брата Коли и любимой всеми мадемуазель Фанни. Только Сестрица вновь присоединилась к ним, но этого было недостаточно. Если в Петербурге Петя еще мог утешаться мыслями, что это не навсегда, и мечтать о возвращении в Воткинск, то теперь следовало смириться с тем, что Алапаевск отныне их новый дом. С мечтой о Воткинске пришлось распрощаться.
В Алапаевске возобновились занятия под руководством Зины. Старшая сестра так и не смогла понять тонкую ранимую натуру Пети: она по-прежнему была излишне строга, придиралась и обвиняла брата в лености. То и дело можно было слышать ее раздраженные замечания:
– Петя, ты опять плохо сделал домашнее задание!
– Петя, ты меня совсем не слушаешь!
– Что за непослушный мальчик! Нельзя быть таким ленивым: ты заслуживаешь сурового наказания!
А он не был ленив, он просто потерял интерес к учебе: зачем стараться, если одобрения всё равно не дождешься? Да и перенесенная не так давно болезнь и нервное истощение давали свои плоды. Зине же не хватало ни терпения, ни педагогического таланта, чтобы вывести брата из состояния равнодушия.
Музыка окончательно стала для Пети главным утешением и радостью. Звуки преследовали его постоянно, где бы он ни был, что бы он ни делал. Теперь Петя уже не рыдал от невозможности выразить звучащую вокруг него мелодию: он часто играл, импровизировал, всей душой отдаваясь любимому занятию. Дети с удовольствием пели и танцевали под его аккомпанемент, кузина Лида даже отметила, что он играет совсем как взрослый, но, в сущности, никто всерьез не воспринимал его увлечение. И Петя, хотя всегда садился за рояль, когда его просили, все-таки с гораздо большим наслаждением играл в одиночестве, выражая в звуках всё, что таилось в глубине души.
От оставшегося в Петербурге Коли вскоре начали приходить письма, которые становились для всей семьи настоящим праздником. Его не было рядом, но о нем постоянно говорили, его вспоминали, по нему скучали, его без конца хвалили за прилежание и успехи в учебе. Получив письмо с результатами экзаменов, маменька с гордостью объявила:
– Посмотрите, какие у Коли замечательные оценки! А за прилежание он получил двенадцать6 с крестиками! – и печально со вздохом добавила: – Если бы ты, Петичка, проявлял подобное прилежание… Посмотри на старшего брата, как он старается, а у тебя в последнее время только лень и капризы…
Это было обидно, и в сердце Пети впервые вспыхнула ревность к брату. Он изо всех сил пытался сравняться с ним, стать не хуже, но находившийся вдали от семьи Коля неизменно выигрывал в сравнении с бывшим постоянно на виду Петей. И он окончательно замкнулся, ушел в себя.
***
Изменившийся характер Пети сильно беспокоил родителей, и, обсудив все за и против, они решили на следующий год отдать сына в Училище правоведения, славившееся строгой дисциплиной, надеясь, что пребывание в закрытом учебном заведении будет полезным для формирования характера мальчика. Не последнюю роль в выборе родителей сыграло и наличие в училище неплохого музыкального образования. Однако для поступления туда требовалась серьезная подготовка – одних занятий с Зиной тут было недостаточно, и для Пети начали искать гувернантку.
На удивление теплым ноябрьским утром к дому подъехала кибитка, из которой вышла молоденькая светловолосая девушка. Петя сначала подумал, что это какая-нибудь подруга старшей сестры – девушка выглядела даже моложе Зины.
Когда семья собралась, чтобы поприветствовать гостью, маменька представила ее:
– Это Анастасия Петровна. Она недавно окончила Николаевский институт и будет готовить Петю для поступления в Училище правоведения.
Вот как. Значит, эта девушка – новая гувернантка! Анастасия Петровна поглядывала на всех с заметной робостью и даже чуть ли не с ужасом, пытаясь определить среди детей своего ученика. Как ни было Пете обидно – если уж ему нужна гувернантка, почему не попросили вернуться мадемуазель Фанни? – девушка вызывала симпатию, и он первый подошел к ней и представился. Маменька одобрительно улыбнулась, а Настасья Петровна вздохнула с облегчением.
Несмотря на молодость, Настасья Петровна свое дело знала и скоро все члены семьи заметили положительную перемену в поведении Пети: прекратились истерики и капризы, он стал, как прежде, трудолюбив и прилежен, с увлечением осваивал науки, необходимые для поступления в училище. Сам он быстро привязался к новой гувернантке – она была куда мягче и терпеливее Зины, и заниматься с ней было гораздо интереснее. Но ничто и никто не мог его заставить забыть обожаемую мадемуазель Фанни, которой он писал при каждом удобном случае, рассказывая обо всех событиях своей жизни.
***
Вскоре после появления гувернантки в Алапаевск прибыла Елизавета Андреевна Шоберт – тетя Лиза, сестра маменьки. Петя слышал от взрослых, что у тети Лизы недавно умер муж, и она вместе с дочерью Амалией, которая была всего на полгода младше Пети, решила пожить с сестрой.
До тех пор чувствовавший себя в Алапаевске одиноко – Коля был далеко, Зина и Лида стали слишком взрослыми, чтобы играть с ним, а Саша и Поля, напротив, были слишком малы – Петя обрел в лице кузины Мали нового товарища по играм. Впрочем, Саша быстро присоединилась к ним, и у них сложилась новая компания, в которой Петя оказался на положении старшего – он выдумывал всевозможные игры и правила для них, руководил забавами. Девочки беспрекословно принимали его старшинство и во всем брата слушались.
Той же зимой Петя придумал игру «Жрецы», которая особенно нравилась его сестрам.
– На вас возлагается обязанность найти подходящие продукты, – объяснял он внимательно слушавшим его девочкам.
– А подходящие – это какие? – уточнила Саша.
– Морковь, огурцы, горох… ну всё, что можно съесть.
Девочки кивнули и помчались в дом, чтобы через несколько минут вернуться с полными руками овощей. С предельно серьезным видом забрав у сестер добычу, Петя сложил их у подножия горки.
– Теперь жертвоприношение надо сжечь, – объявил он, пытаясь поджечь получившуюся кучку.
Однако сырые овощи не очень-то и горели, и в итоге, как всякие уважающие себя жрецы, они съели все жертвоприношения сами. Этот последний момент и был самым привлекательным в игре.
***
В феврале отец взял с собой Петю на ярмарку в Ирбит. Ехали совсем недолго – всего через пару часов карета приблизилась к высоким холмам, сразу за которыми начинался город, будто сбегающий с них. А внизу, впереди и слева, виднелась широкая водная гладь – реки Ница и Ирбит.
Центральную площадь, на которой расположилась ярмарка, можно было безошибочно определить издалека: по широким улицам, застроенным двух- и трехэтажными каменными домами, туда со всех сторон стекались огромные толпы людей – кто пешком, кто на повозках, кто в каретах, кто и вовсе верхом. Но больше всего было возов – пустых и с товарами: кто-то прибыл торговать, кто-то, напротив, закупаться.
На громадной торговой площади стоял такой гвалт, суматоха, давка, что Петя растерялся: она была переполнена людьми и возами, так что с трудом удавалось протолкнуться. Отовсюду неслись зазывные крики торговцев:
– Самопервеющая клюква!
– Горох, гляди… хороший горох, мытый!
– Сбитню кому, горячего сбитню?
– Блинки с лучком! Грещневые блинки!
– Грыбы белей снегу, чище хрусталю! Грыбной ералаш, винегретные…
Освоившись в этом мельтешении, Петя с восторгом рассматривал купцов и покупателей, среди которых часто встречались иностранцы. И не только европейцы – Петя разглядел множество восточных лиц с узкими глазами и широкими скулами. Папенька объяснил, что это купцы из Китая и Монголии. А еще встречались черноволосые и смуглолицые гости из Персии. От одних только названий этих стран веяло сказкой, а уж если посмотреть на яркие необычные наряды…
Повсюду стояли прилавки, заваленные горами товаров. Чего тут только не было! Яркие ткани – шерстяные, шелковые, льняные; сибирские меха, китайский чай, металлические уральские изделия, кожи, воск, сахар, вина, свечи, мыло, расписные подносы. От разнообразия и богатства товаров разбегались глаза.
Но товары – это еще не самое интересное, во всяком случае, для девятилетнего Пети, на которого неизгладимое впечатление произвела выставка восковых фигур и стеклянных изделий и ярмарочный цирк.
От обилия разнообразных впечатлений Петя так утомился, что на обратном пути заснул прямо в карете, зажав в руке глиняную свистульку, купленную ему папенькой. Он не проснулся, даже когда его на руках отнесли в спальню и, переодев, уложили в кровать.
***
В ночь на первое мая в доме Чайковских никто не спал: поздним вечером у Александры Андреевны начались схватки, срочно вызвали повитуху, и теперь вся семья в тревожном ожидании собралась в гостиной. Илья Петрович в волнении ходил взад-вперед по комнате. Заразившись его тревогой, дети, рассевшиеся кто где, в нервном возбуждении ожидали, чем всё закончится. Им давно пора было бы лечь спать, но взрослые в тот вечер забыли отправить их по комнатам, а по своей воле они ни за что бы не ушли. Только Поля, притомившись ждать, задремал прямо в кресле.
После полуночи повитуха спустилась в гостиную, чтобы с усталой улыбкой сообщить:
– Поздравляю, Илья Петрович, вы стали отцом двух здоровых мальчиков.
– Как двух? – ошеломленно переспросил тот.
– У вас близнецы.
Пораженная тишина в следующую секунду взорвалась бурными поздравлениями, объятиями, слезами радости.
На следующий день Пете разрешили посмотреть на новорожденных братьев, которых нарекли Модестом и Анатолием. Он долго с удивлением и восторгом разглядывал двух крошечных существ, которые казались ему настоящими ангелами, сошедшими на землю.
Последним радостным событием того лета стало празднование именин отца – двадцатого июля. Память святого пророка Илии всегда в народе отмечалась гуляниями, и Чайковские ходили на эти празднества, где Петя наслаждался пением хора крестьян и игрой Екатеринбургского оркестра.
Всей семьей ездили к скалам на реке Нейве неподалеку от Алапаевска – любимое место прогулок в экипаже и пикников с самоварами. Дети называли эти скалы «Старик и старуха». По приезде туда, пока взрослые готовили пикник и устанавливали самовар, они наперебой принимались кричать:
– Старик и старуха здоровы?
А эхо отвечало:
– Здоровы.
– Старик старуху любит?
– Любит.
Восторгу не было границ, и они подолгу могли кричать скалам, чтобы услышать ответ эха.
Дети тщательно подготовились к именинам отца и устроили для него живые картины, которым когда-то научила их Зина: изображали турок, цыган и итальянцев. От последней картины Илья Петрович пришел в особенное восхищение. Дополнительным штрихом стало исполнение Сашей, наряженной в испанское платье, качучи. А вечером устроили красочную иллюминацию и бал.
Пышный праздник стал для Пети своеобразным прощанием с семьей: несколько дней спустя ему предстояло покинуть Алапаевск.
Глава 3. Училище правоведения – первое серьезное горе в жизни
В начале августа Петя с маменькой, Сашей и Зиной поехал в Петербург. У Модеста Алексеевича Вакара, старинного приятеля отца, в доме которого они остановились, их уже ждал Коля.
Наконец-то после долгой разлуки Петя свиделся со старшим братом, по которому сильно скучал. Тот тоже соскучился по родным так, что не удержался в рамках обычной сдержанности и бросился обнимать маменьку, сестер и брата. Когда схлынула первая радость встречи, Петя внимательнее осмотрелся вокруг. Дом был не слишком большим, но уютным и аккуратным. Хозяин Модест Алексеевич, который должен был присматривать за братьями в отсутствие родителей – темноволосый мужчина средних лет с добродушным круглым лицом, – казался человеком добрым и веселым. Его жена Надежда Платоновна – невысокая улыбчивая женщина – производила столь же приятное впечатление. Нелегко сходившийся с новыми людьми Петя сразу проникся симпатией к ним. А уж их сыновья – пятилетний Николай и совсем еще младенец Виктор – его просто очаровали.
Сразу же по приезде маменька повела Петю в Александринский театр. Театр – единственная сторона петербургской жизни, которой ему не хватало в Алапаевске. В тот день давали «Жизнь за царя». Спектакль Петя просидел, как завороженный, впитывая каждую нотку, и потом весь вечер ходил притихший, полностью погруженный в пережитый восторг. Глинка! Величайший русский гений!
Но беззаботные дни скоро закончились: предстояло поступать в Училище правоведения. Впрочем, не в само училище – Петя был для этого слишком мал, – а в Приготовительные классы. Здание, расположенное на берегу Фонтанки, напротив Летнего сада, выглядело настоящим дворцом. Совсем рядом Нева несла свои воды, в которых отражались солнечные блики. На противоположном берегу виднелась Петропавловская крепость. Жаркий августовский день совершенно не располагал к сдаче вступительных экзаменов – хотелось перебраться на другую сторону Фонтанки и погулять в тени Летнего сада. Но ничего не поделаешь.
Детей собралось много – Училище правоведения считалось престижным учебным заведением, – и Петя с опаской посматривал на своих будущих товарищей: как-то еще сложатся с ними отношения? В основном это были дети не слишком родовитого дворянства, к которому принадлежала и семья Чайковских. Те, кто знатнее, предпочитали Пажеский корпус.
Петя страшно волновался во время сдачи экзамена – нервно теребил перо, кусал губы и время от времени бросал быстрые взгляды на экзаменаторов. Но прекрасное домашнее образование дало свои результаты: испытание он выдержал одним из первых и был зачислен в младшее отделение Приготовительных классов.
В конце августа он перебрался жить в училище. Петя изо всех сил старался быть стойким при расставании с мамой, утешая себя тем, что скоро ее увидит. Она поцеловала его на прощание, попросила быть умницей, обещала навещать каждый день и передала сына на попечение месье Берару, который и отвел юного студента в дортуар.
В просторной комнате с минимумом мебели – кровати и рядом с ними тумбочки для личных вещей – было шумно. Мальчики, с которыми отныне предстояло жить Пете, выбирали себе места, раскладывали вещи, знакомились. Он молча прошел к свободной кровати у окна, сел на нее и огляделся. Вступать в разговоры он не решался, но с любопытством прислушивался. Большинство студентов были петербуржцами, и только один мальчик приехал из Екатеринбурга, а еще один – из Владимира. Они, как и Петя, держались особняком, стесняясь вступать в общение со столичными. Но те сами проявляли инициативу.
– Эй, тебя как звать-то? – окликнул Петю невысокий, крепкий мальчишка с соседней кровати.
– Чайковский, Петр.
– А я Дохтуров, Дмитрий, – мальчишка протянул руку, и Петя неуверенно пожал ее.
Кажется, отношения обещают сложиться неплохие. Всяко лучше, чем было в пансионе Шмеллинга. И всё же, когда все легли спать, Петя всплакнул в подушку. Впервые в жизни он оказался оторванным не только от матери, но и от всей семьи, а казенная обстановка и незнакомые пока еще товарищи только усугубляли чувство потерянности.
Перед началом занятий новых студентов собрали в классе и велели стать по стойке смирно рядом со своими столами. С волнением и даже страхом они, замерев, ожидали появления директора. Языков не вошел, а влетел, как ураган, поздоровался и с глазами навыкате стал обходить класс. Один из мальчиков стоял, положив руки на стол. Директор подошел к нему, ударил по обеим рукам:
– Как сметь так стоять?! – рявкнул он. – Руки по швам! – и, обращаясь уже ко всем, добавил: – Смотрите у меня, а не то расправа будет короткая!
С этим устрашающим предупреждением он вылетел из класса, оставив перепуганных детей на попечение начальника-француза – месье Берара. Тот был гораздо добродушнее директора, он быстро успокоил мальчиков и сразу же нашел с ними общий язык.
Так началось для Пети обучение в Училище правоведения, где поддерживалась строжайшая дисциплина, точно в солдатских казармах: за малейшую провинность сурово наказывали; если кто-то ходил не в ногу в строю, ставили за черный стол во время обеда или завтрака. Правоведов воспитывали как курсантов военного училища: на улице они отдавали честь всем военным, а царской фамилии и генералам становились во фронт. После завтрака офицеры обучали детей строю и маршировке. В результате суровой муштры мальчики имели военную выправку и бравый вид.
Пете, привыкшему к теплой домашней обстановке, где все друг друга любили, было тяжело приспособиться к новому образу жизни. Единственным утешением служили регулярные свидания с обожаемой мамашенькой. Пока она оставалась в Петербурге, постоянно навещала сына, стараясь смягчить для него привыкание к школьной среде, и он наслаждался каждой минутой общения с ней.
Но и этого утешения он лишился: в последних числах сентября Александра Андреевна возвращалась в Алапаевск. Провожать маменьку и сестер отправились на Среднюю Рогатку, где по обычаю прощались с отъезжающими по московской дороге. Вместе с Петей и Колей поехал дядя Зины – Илья Карлович Кайзер, который и должен был отвезти их обратно в Петербург.
По пути Петя, прильнув к матери, не отрываясь, смотрел на нее, пытаясь запечатлеть каждую черточку дорогого лица, и тихонько всхлипывал. Он хотел насладиться оставшимися ему мгновениями в ее обществе. Но вот карета остановилась, все вышли – настало время прощания. Поняв, что еще секунда и маменька уедет, Петя вцепился в нее изо всех сил, в отчаянной надежде удержать. В глубине души он понимал, что ей невозможно остаться, но вдруг? Она гладила его по непослушным вихрам, уговаривала, обещала скоро вернуться, но он не слышал ничего и только прижимался к ней всем телом, обняв за талию.
Тогда Илья Карлович оторвал его от матери. Петя кричал, цеплялся за всё, что попадалось под руки, но взрослый мужчина был сильнее, и, наконец, разжав его пальцы, оттащил Петю в сторону. Маменька, Саша и Зина поспешно сели в карету, лошади тронули. Илья Карлович теперь только придерживал Петю за плечи, решив, что он уже никуда не денется, и, воспользовавшись этим, с безумным криком он рванулся следом за тарантасом, пытался схватиться за подножку, за крылья, будто это могло остановить его… Но лошади бежали всё быстрее, Петя скоро отстал и без сил упал прямо на дорогу, в пыль, поднятую тарантасом, в отчаянии глядя вслед покинувшей его матери.
– Мама, мамашенька! – слезы катились по его лицу.
Подбежавший Илья Карлович поднял больше не пытавшегося вырваться Петю и сокрушенно покачал головой.
Александра Андреевна, прикусив губу и стараясь не оглядываться, откинулась на спинку сиденья. Сердце матери разрывалось от боли при виде того, как рыдает ее сын, но она не могла ничего изменить: Пете надо учиться, а она не имела возможности остаться с ним в Петербурге. Прижав к себе дочь, которая тоже находилась под тяжелым впечатлением от прощания с братом, она низко склонила голову, пытаясь скрыть слезы.
В расстроенных чувствах, в состоянии апатии и тоски по матери Петя вернулся в училище, где ему предстояло жить ближайшие несколько лет. К счастью, о нем было кому позаботиться: Вакар забирал Петю к себе на выходные, что немного смягчало его тоску. Но ни доброта Модеста Алексеевича, ни нежные заботы Надежды Платоновны, ни частые свидания с Колей не могли заменить Пете матери.
***
В субботу после всенощной месье Берар – или как называли его студенты Папаша Берар – устраивал для своих подопечных petit-censure7. Дети собирались в классе, куда Берар приходил с двумя ассистентами и зачитывал баллы и журнал поведения. Все шалости, все плохие оценки, все нарушения, совершенные в течение недели, припоминались в этот вечер. Кто-то получал строгое внушение, кто-то – наказание, в зависимости от степени вины. А бывало, что и приговаривали к розгам и лишали права повидаться с семьей, оставляя в училище на воскресенье в одиночестве.
Прилежный и любознательный Петя изо всех сил старался хорошо заниматься. Однако учеба после отъезда маменьки продлилась недолго: в Приготовительном классе началась эпидемия скарлатины, и учеников распустили по домам. Узнав об этом, Модест Алексеевич поспешил забрать Петю к себе.
Чтобы развеселить его, попечители взяли его в воскресенье на балет. Но и музыкальные впечатления на этот раз не могли развеять тоски. Петя писал домой жалобные письма, упрашивая родителей поскорее приехать к нему. Он не мог повидаться даже с Колей – единственным по-настоящему родным человеком в Петербурге: Модест Алексеевич перестал забирать того на выходных. Вначале – потому что Коля болел свинкой, а после – боясь, чтобы и он не заразился скарлатиной.
Как будто этого было мало, вскоре после приезда Пети заболел старший сын Модеста Алексеевича – пятилетний Коленька, любимец семьи. Болезнь проходила тяжело, и Петя всей душой сострадал несчастному мальчику. В доме говорили сначала, что это нервическая лихорадка, позже – что корь, но чем дальше, тем больше становилось ясно, что сынишка хозяев заболел скарлатиной, которую из училища принес он, Петя. Его ни в чем не упрекали, при нем не говорили о болезни, но от этого угрызения совести терзали его не меньше.
Спустя месяц тяжелой болезни Коля Вакар умер. Безутешные родители и тут не сказали ни слова упрека в адрес подопечного, но Петя всей душой переживал свою невольную вину в гибели совсем маленького ребенка. Это было его первое столкновение со смертью, и смертью столь ранней, потрясшей его до глубины души.
Он впал в настоящую депрессию: безрадостным казалось ему настоящее. Лишь письма из дома служили лучиком света в кромешной тьме. Петя целовал бумагу и представлял, как целует руки дорогой маменьки. Увы, надежды на близкое свидание неизменно разрушались. Тоска по дому заставила его вернуться к стихотворному творчеству, он даже сочинил рассказ о своей жизни в училище, начиная с отъезда матери.
Но как ни тяжело было в доме Модеста Алексеевича, по возвращении в училище, когда закончилась эпидемия, стало еще хуже. Всё окружающее представлялось ненавистным, холодным и безучастным, и Петя потихоньку плакал ночами. Пытаясь забыться, он с головой погрузился в учебу, тем более после долгого отсутствия пришлось многое нагонять.
Среди учителей встречались такие, что внушали своим подопечным священный трепет. Самым ужасным был учитель латинского языка Носов. Он нудно и монотонно вычитывал учебник, не заботясь о том, поняли ученики его объяснения или нет, зато спрашивал потом беспощадно: единицы и двойки сыпались без счета.
Страшен был и преподаватель Закона Божьего – иерей Михаил Измайлович Богословский. Вскоре мальчики заметили, что есть разница, в какой рясе придет Богословский. Если в зеленой – скверно: его строгость будет сердитая. В черной – легче на душе: его суровость смягчалась и подчас нарушалась улыбкой. И еще до начала урока кто-нибудь оповещал класс:
– Черная!
Все вздыхали с облегчением. Или напротив, упавшим голосом сообщалось:
– Зеленая!
И класс притихал в ожидании грозы.
Только по этим двум предметам Петя получал не самые хорошие оценки, в остальном учился он весьма и весьма успешно. Прекрасная подготовка и добросовестность позволили ему стать одним из первых в своем отделении.
Среди же воспитателей, которые занимались мальчиками в свободное от классов время и готовили с ними уроки, противовесом заботливому и добродушному Папаше Берару был отставной военный полуфранцуз Малльо. Он имел вкус к остротам и любил издеваться над детьми. Любимой его шуткой, которой он гордился, была такая: утром, за четверть часа до подъема Малльо подходил к кровати кого-нибудь из воспитанников, стаскивал одеяло и говорил:
– Спи скорее, mon cher8, скоро звонок!
Со временем человек привыкает ко всему, привык и Петя: острота горя смягчилась, он смирился со своим положением (хотя и не переставал скучать по родителям и в каждом письме домой умолять их о встрече), подружился с товарищами. И все сильнее начал проявляться от природы живой и подвижный темперамент: Петя частенько не выдерживал обстановки военной муштры, за что получал наказания. Однако, искренне в этом раскаиваясь, прилагал все силы, чтобы порадовать родителей хорошими оценками и поведением.
***
В середине апреля для воспитанников Приготовительного класса устроили детский бал по случаю дня рождения великого князя Александра Николаевича. Их повезли в Дворянское собрание, что само по себе уже было волнительно. Юные правоведы робко вошли в огромный, светлый, роскошно обставленный зал. Сколько здесь собралось важных господ и пышно одетых дам! Сам наследник доброжелательно приветствовал мальчиков, повергнув их в трепет. Но больше всего Петю поразил государь Николай Павлович. Впервые в жизни совсем близко, лицом к лицу – как папашин диван стоит от его конторки – он видел того самого государя, вид которого на улице издали вызывал необыкновенный благоговейный страх. Он был в сюртуке конногвардейского полка с эполетами и шел тихим и ровным величественным шагом.
– Здравствуйте, дети, – произнес он громким приветливым голосом, ласково глядя на правоведов.
– Здравия желаем, ваше императорское величество! – восторженным хором грянули они.
Да и сам бал прошел интересно и весело. Петя много танцевал и даже выиграл на фортунке маленькую статую, изображающую солдата в треугольной шляпе, и резинку, украшенную слоновой костью.
Незадолго до этого знаменательного события Модест Алексеевич неожиданно покинул Петербург. Наблюдение за братьями Чайковскими перешло к другому близкому приятелю отца – Ивану Ивановичу Вейцу, гостившему в столице. Снова разлука с людьми, к которым Петя успел привязаться, снова вынужденное привыкание к новым людям.
Впрочем, общение с Иваном Ивановичем продлилось недолго: в мае Петя перешел в другую семью – попечение о сыновьях Ильи Петровича принял на себя Платон Алексеевич Вакар, брат Модеста Алексеевича, не менее добрый и внимательный. Его семья Пете сразу понравилась, и он быстро привык к новым опекунам.
***
Учебный год подходил к концу, скоро студентам Приготовительного класса предстояло держать экзамены для перехода в старшее отделение. И тогда-то пошли слухи о преобразовании училища. Мальчики на переменах обсуждали то, что прочитали в газетах, узнали от старших.
– Я слышал, Приготовительный класс закроют.
– Да ну, гиль9!
– Это говорил сам директор! Первое отделение перейдет в училище, а второе должно вернуться к родителям.
– То есть, если мы не выдержим экзамены, нас исключат?
– Именно. А экзамены будут ужасно сложные, и перейдут немногие. Может, один только Лабри и перейдет.
Указанный Лабри – лучший ученик класса – самодовольно усмехнулся, остальные со вздохом безнадежно переглянулись.
Петя страшно беспокоился о том, что ему не удастся достойно выдержать экзамен, но по всем предметам, кроме латыни и Закона Божьего, получил высший балл и был переведен в старшее отделение.
Торжество по поводу хорошо сданных экзаменов испортило горькое разочарование: родители не приедут в Петербург, свидание с ними в который раз откладывалось на неопределенный срок. Почти год уже не видел Петя обожаемую мамашеньку, всё это время надеясь, что вот она приедет в ноябре, потом в декабре, потом в феврале, потом в мае. И каждый раз его надежды рассыпались в прах. Чтобы как-то утешить несчастного ребенка, госпожа Маркова, свекровь Платона Алексеевича, взяла его с собой на дачу под Петербургом.
Дача стояла на холме, с которого к озеру спускалась аллея, а слева от него располагался птичий двор. С другой стороны дома начиналась маленькая деревня Надино, издалека виднелась церковь. Привычная с рождения сельская обстановка, красота природы, доброжелательные люди сделали свое дело: Петя ожил и повеселел. И все же… Каждый праздник заставлял его вспомнить о родных. Собственные именины – двадцать девятого июня, – впервые проведенные вдали от семьи, принесли вместо радости новый всплеск тоски и страстное ожидание осени, когда родители обещали приехать в Петербург.
Наконец, настал вожделенный миг – в сентябре, придя на выходные к Платону Алексеевичу, Петя обнаружил там отца.
– Папашенька! – вскрикнул он, кидаясь в его объятия, и тут же поинтересовался: – А мама?
– Она не смогла приехать, – с сожалением ответил тот.
Петя разочарованно сник. Еще больше он разочаровался, когда узнал, что отец приехал всего на три недели.
Погоревав после отъезда папеньки, Петя вновь включился в жизнь училища. Он совсем здесь освоился, к нему вернулась прежняя живость, он всё чаще шалил и даже получал дурные отметки.
Однако новый воспитатель Тибо, заменивший Папашу Берара, вплотную взялся за успеваемость своих подопечных, не позволяя им лениться во время приготовления уроков. При всей своей строгости, он был добр к воспитанникам, и они в ответ полюбили его.
Музыка по-прежнему оставалась для Пети главным утешением: он часто импровизировал в одиночестве, играл для товарищей. Иногда они ради забавы устраивали для него испытания: накрывали клавиатуру фортепиано полотенцем и просили угадать ноты.
Платон Алексеевич старался развлекать своих подопечных: водил их в театр. Петя познакомился с творчеством неизвестных ему ранее композиторов: смотрел балеты «Жизель» Адана и «Наяда и рыбак» Пуни, слушал «Фрейшютц» Вебера в исполнении русской труппы.
И всё равно грусть, теперь тщательно скрываемая, осталась. Однажды, играя романс «Соловей» – любимый романс мамаши – Петя расстроился чуть ли не до слез.
И вот в самом конце учебного года на выходных за ним пришел не Платон Алексеевич, а обожаемая маменька. Неописуемый восторг испытал Петя, с радостным криком бросившись в ее объятия, прильнув, с наслаждением вдыхая полузабытый запах ее духов, целуя ее мягкие нежные руки. Когда они вышли на улицу, он с трепетом, боясь, что маменька прогостит всего несколько дней, спросил:
– Надолго ли вы?
– Навсегда, Петичка, – с ласковой улыбкой ответила она. – Мы теперь все будем жить в Петербурге. Условия работы на заводе становятся слишком тяжелы для папы. Да и об образовании Саши и Поли пора позаботиться.
Петя почти не верил своим ушам – он и надеяться не смел на такое счастье. Ему казалось, что он не идет рядом с мамой, а летит на крыльях. Вот повернули на Сергиевскую улицу и остановились у старинного дома. Петя удивленно посмотрел на маменьку: неужели уже пришли?
– Да, теперь это наш дом, – ответила она на его невысказанный вопрос.
Так близко к училищу? Петя задумался, а можно ли умереть от счастья?
В просторной уютной гостиной (там даже был рояль!) их встретила вся семья: отец, Саша, Поля, Коля, Зина, Лида. Маленькие близнецы, нетвердо держась на ногах, исследовали комнату, что-то лопоча на своем младенческом языке. Тут же начались объятия, слезы радости.
Если когда-то Петербург представлялся Пете дурным сном, от которого хотелось очнуться и перенестись в родной Воткинск, то теперь всё происходящее казалось прекрасным сновидением, и он боялся проснуться и обнаружить, что ничего не было.
Экзамены Петя сдал столь же успешно, как и в прошлом году. Он закончил Приготовительное отделение, став студентом самого Училища правоведения, куда был зачислен своекоштным10 учеником, и на него не распространялись те жестокие правила, которым подвергались казеннокоштные воспитанники. Кроме того, по окончании училища он не будет обязан служить непременно десять лет.
Глава 4. Катастрофа
Лето семья провела на даче на Черной Речке. Там к ним присоединились приглашенные маменькой кузены Аня и Илья – дети жившего в то время в Москве Петра Петровича, старшего брата отца. Хорошенькая кузина со смешливыми темными глазами сразу понравилась Пете за веселый легкий нрав и любовь к проказам. Несмотря на то, что он был младше на десять лет, они быстро подружились и постоянно на пару выдумывали разнообразные шалости. Так однажды они начали изводить соседку – сварливую польку, страстную любительницу индюшек. Они пели рядом с ее птичней дуэт «Видишь ли ты эту лодку». Индюшки оглушительно гоготали от их пения, соседка высовывалась из окна и осыпала проказников бранью, от чего они приходили в восторг. Веселье продолжалось до тех пор, пока вместо польки в окне не показался какой-то усач и так страшно закричал на них, что они перепугались и не решились больше продолжать забаву.
Если с маленьким кузеном Аня забывала о том, что она девушка на выданье, и веселилась от души, то в обществе кузин, своих ровесниц – Зины и Лиды – становилась настоящей барышней. Очаровательные девицы привлекали в дом массу молодежи, большую часть которой составляли ухажеры.
Вечером, перед тем как лечь спать, кузины делились друг с другом своими сердечными тайнами. Окна девичьей спальни были распахнуты, теплый летний ветерок колыхал занавески, из сада доносилось стрекотание кузнечиков и густой аромат цветов, в изобилии растущих возле дома. Девушки в неглиже сидели на еще не разобранных кроватях, расчесывали волосы и обсуждали кавалеров.
– Мне нравится Евгений Иванович, – мечтательно произнесла Зина. – Он такой милый и предупредительный…
– Да ну тебя! – со смешком возразила Лида. – По мне, так его брат гораздо симпатичнее.
Как вдруг в комнату влетел запыхавшийся Петя, прервав разговор. Кузины завизжали и стали его отчитывать за появление в их комнате в неположенное время, но он, не обращая внимания на крики, с ужасом сообщил:
– Там Коля с Ильей подслушивают вас!
Братья подставили лестницу к окну комнаты барышень и, затаившись, слушали их откровения. Горячо преданный кузине Петя, заметив это, кинулся предупредить ее и расстроил коварный замысел. Растерявшиеся поначалу девушки, быстро придумали, как отомстить любопытным, и на головы несчастных полилась холодная вода.
Снаружи послышался шум, крики и возмущенный возглас:
– Ну, Петька – предатель!
Пете было немного стыдно, что он выдал братьев, но девичья честь была дороже.
По вечерам, когда вся семья собиралась в гостиной, Петю часто просили что-нибудь сыграть. Он повиновался, но делал это с неохотой – играть при всех модные песенки или танцы, в то время как никто из присутствующих серьезно к его музицированию не относился и считал это лишь милой забавой, было для него почти пыткой. Он торопливо и небрежно играл, что просили, только чтобы отделаться.
Совсем другое дело, когда Петя играл один, для себя. Мир вокруг переставал существовать – глядя вдаль, но ничего не видя, он полностью уносился в волшебный мир звуков, вслушиваясь в каждую нотку, изливая в импровизированных мелодиях настроение, мысли и чувства. Музыка захватывала его целиком, он уже не только не видел, но и не слышал ничего вокруг. И когда совсем рядом вдруг раздался восхищенный вздох, Петя вздрогнул и подпрыгнул, резко оборвав аккорд – с жалобным всхлипом рояль замолк. Возле него стояла Аня и изумленно смотрела на кузена.
– Как ты чудно играешь, Петичка!
Как ни любил Петя кузину, сейчас ее появление вызвало только раздражение и недовольство.
– Ничего особенного, – буркнул он, нахмурившись.
Не дав Ане больше ничего сказать, он захлопнул крышку рояля и поспешно скрылся из комнаты. Ей оставалось только растеряно смотреть ему вслед. Конечно, он понимал, что повел себя грубо, но мысль о том, что кто-то слышал его сокровенные излияния, была невыносима.
***
Лето пролетело быстро и незаметно – самое счастливое лето в студенческой жизни Пети. Семья вернулась в Петербург, а он – в училище. Но теперь всё было по-другому: на выходных он приходил уже не к чужим, хоть и любившим его людям, а в родную семью. Да и на неделе маменька постоянно навещала его. А еще она часто ходила в гости к своей сестре Екатерине Андреевне Алексеевой – тете Кате, которая жила на углу Фонтанки и Косого переулка, прямо напротив Училища правоведения. Из дортуара Петя мог видеть маменьку, неспешно идущую по улице. Каждый раз она нарочно задерживалась под его окнами, и он обменивался с ней воздушными поцелуями.
Перейдя на старший курс, правоведы получили вместо серебряных золотые нашивки, испытывая гордость и благоговение перед новым положением. Ведь теперь они имели дело не с учителями, а с профессорами, они теперь не приготовишки, а настоящие студенты.
Самым почтенным из профессоров, носившим звание заслуженного, был Василий Васильевич Шнейдер, преподававший римское право. В нем жил дух римлянина золотого века Рима, и в то же время это был человек благородный, деликатный и высокообразованный.
Интересен был и профессор в области юридических наук – Неволин. Он преподавал историю законодательства и энциклопедию законоведения. Изданный им учебник славился в Германии чуть ли не более, чем в России. Это был в полном смысле ученый – тихий, скромный. Мальчики питали к нему особое уважение.
К сожалению, такие профессора представляли собой редкое исключение. Большинство же относилось к урокам формально, заботясь лишь об успеваемости, да и та была одной видимостью. В училищной жизни сразу почувствовалась разница и воспитательного режима. Прежде воспитатели, за редким исключением, относились к ним с уважением и даже с любовью, почти по-отцовски. Теперь же студенты стали не людьми, а номерами.
Но, несмотря на муштру и недостатки преподавания, жизнь в училище захватила Петю, он привязался к товарищам, крепко подружился с некоторыми из них. Особенно с Володей Адамовым – еще со времен учебы в Приготовительных классах. Оба мечтали попутешествовать по миру и в свободное время постоянно обсуждали свои планы: как они поедут в Швейцарию, в Италию… Причем обе страны хотели обойти пешком, чтобы как следует осмотреть все достопримечательности. Кроме того, они вместе ходили в итальянскую оперу. Володя мечтал стать салонным певцом и даже брал уроки. Если честно, пел он прескверно, но Петя не решался разочаровать приятеля.
Однако некоторое время спустя Володя перешел в другой класс. Петя погрустил в одиночестве, но быстро подружился с другим товарищем – Федором Масловым. Они даже на уроках стали садиться за одним пультом.
В том году в училище заговорили о феноменальном мальчике-поэте, из Приготовительных классов. Недавно умер геройской смертью Корнилов, и по поводу этого печального события указанный мальчик написал стихотворение. Директор Языков возил его вирши принцу Ольденбургскому. Принц, в свою очередь, показал императору. И вот стихотворение юного поэта, который в одночасье стал восходящей звездой, уже читалось и переписывалось всеми. Звали вундеркинда Алексей Апухтин.
Заинтересовавшись им, Петя ходил в Приготовительные классы познакомиться. Апухтин оказался тщедушным, болезненным на вид и невзрачным. Несмотря на юный возраст, на окружающих он посматривал свысока и даже с некоторым презрением. Поощряемый восторженными отзывами всех о его стихах, удостоенный внимания принца Петра Георгиевича, покровительствуемый такими писателями, как Тургенев и Фет, Апухтин знал себе цену. Однако с Петей они понравились друг другу и быстро подружились.
На следующий год Алексей поступил сразу в шестой класс, перешагнув через седьмой – таким образом, они с Петей оказались вместе. Теперь мальчики дружили втроем – Петр, Федор и Алексей.
Весной Федор заболел, надолго оказавшись в лазарете. Чтобы не сидеть одному, Петр перебрался за пульт к Алексею. Если уж совсем честно, с Алексеем было интереснее: он отличался свободой мысли и необычайной образованностью – многих авторов, главным образом Пушкина, мог цитировать наизусть. Он был талантлив, да и любовь к искусству их объединяла. Петр пристрастил друга к музыке, а Алексей взялся просвещать его в литературе (до сих пор тот читал довольно-таки беспорядочно – то, что нашлось в библиотеке отца). Причем, помимо беллетристики, заинтересовал его и критической литературой, что для Петра было совсем в новинку.
Алексей вел рукописный журнал «Училищный вестник», и Петр начал активно в нем участвовать, даже издал статью «История литературы нашего класса», пользовавшуюся успехом, а главное, заслужившую одобрение Алексея:
– Отлично написано: интересно, легко, остроумно.
В этом журнале Алексей печатал и собственные стихи, которые пользовались всё большей и большей популярностью. Он стал настоящей звездой училища, отчего сделался еще более высокомерным. Его мало кто любил за грубость, язвительность, едкие высказывания о всех и каждом.
Когда, выздоровев, Федор вернулся в класс и обнаружил измену, разразился скандал.
– Вот, значит, как? – обиженно протянул он. – Стоило мне заболеть, и уже забыт? Теперь с Апухтиным дружишь?
– Ну, что ты придумываешь – с Алексеем мы и раньше дружили, – пожал плечами Петр. – И ты дружил. Не сидеть же мне было одному. И, вообще, не понимаю, что ты раздуваешь трагедию из такой ерунды.
– Из ерунды?! Понятно. Не нужны тебе старые друзья – новые теперь есть прекрасные!
В последнее слово Федор вложил весь доступный ему сарказм и смерил Алексея злым взглядом. Тот презрительно усмехнулся и пожал плечами.
– Да брось ты его убеждать, Петь, – бросил он равнодушно, – пусть думает что хочет.
Федор вспыхнул и молча ушел за свой пульт, в сердцах грохнув его крышкой. С тех пор они перестали даже разговаривать.
***
Осенью Чайковские съехались с семьей тети Кати в Соляном переулке. Так было дешевле. На эту квартиру к Зинаиде зачастил уже знакомый по даче приятный, скромный и вежливый молодой человек – Евгений Иванович Ольховский. Они друг другу несомненно симпатизировали, да и положение у Евгения Ивановича было весьма и весьма неплохое: несмотря на молодость он уже состоял смотрителем Верхнетуринского завода в Гороблагодатском округе. Родители начали хлопотать о свадьбе. И ту и другую сторону этот союз вполне устраивал, так что договорились быстро: в октябре состоялось обручение, на которое по традиции пригласили родных и близких друзей. Родственников у Чайковских в Петербурге было много, и общество получилось шумное и веселое.
Петя с огромным интересом наблюдал, как счастливую Зину и гордого Евгения Ивановича благословлял сначала священник, а потом родители, как они обменялись кольцами. Позже Зина похвасталась своим перед младшими – на внутренней стороне тонкого золотого колечка была вырезана дата обручения и инициалы жениха.
– А на его кольце – мои инициалы, – сообщила она, счастливая и гордая своим новым статусом.
Свадьбу назначили на январь.
Накануне венчания Евгений Иванович прислал традиционную «свадебную корзинку»: принадлежности туалета, золотые украшения, драгоценные камни. Все барышни собрались в комнате Зины, и оттуда то и дело доносились восхищенные восклицания и вздохи.
И вот настал торжественный день. С раннего утра Зина наряжалась при помощи маменьки и кузин. Когда она появилась в гостиной, Петя восхищенно вздохнул. Сестра была очаровательна в белом платье с декором из блонд11 янтарно-золотистого цвета. На груди красовалась брошь, а рукава платья были обшиты цветочными веточками. На шее – жемчужное ожерелье. Фату, полностью сотканную из блонд, украшал традиционный венок из флер-д’оранжа.
Перед отъездом Александра Андреевна благословила Зину Казанской иконой Богородицы. Зина поклонилась в пояс, приняла ее из рук мачехи, ставшей ей родной матерью – теперь эту икону она будет бережно хранить в своей новой семье – и со слезами на глазах расцеловалась с Александрой Андреевной и с отцом.
Коля в тот день играл роль «свадебного отрока»: подавал на серебряном подносе перчатки и фату, провожал невесту до кареты и нес за ней шлейф. Выглядел он величаво, весь преисполненный осознания важности своей миссии.
Красота и торжественность церковного Таинства заворожили Петю. Он, не отрываясь, наблюдал, как возносят над молодоженами тяжелые венцы, как идут они вокруг аналоя следом за священником, как отпивают по очереди из одной чаши в знак того, что всё теперь в их жизни будет общее.
После венчания их встречали родители жениха – с иконой и хлебом-солью. Поклонившись в пояс, молодые трижды расцеловались с ними – теперь Зина стала их дочерью.
Шумной и веселой была свадьба – с песнями и танцами, – гуляли до поздней ночи. А потом со слезами провожали Зину. Отныне она будет жить далеко от родных – на Урале.
Евгений Иванович наносил визиты Чайковским не один – его постоянно сопровождал старший брат Николай Иванович, который особый интерес выказывал к Лидии Владимировне. И следующая помолвка не заставила себя ждать – осенью Лида, в свою очередь, выходила замуж. Из девичьего триумвирата осталась одна Аня. Но и ее не было сейчас в Петербурге: с семьей дяди она проводила только лето на даче, на остальное время уезжая к родителям в Москву. В доме стало тихо и грустно.
***
Размеренное течение жизни неожиданно нарушилось весной, в которую Пете исполнилось четырнадцать лет. В конце мая, когда они с Колей только сдали переходные экзамены и семья собиралась отправиться на дачу, маменька заболела холерой. Болезнь проходила тяжело. Врачи изо всех сил старались спасти ее жизнь, и – о чудо! – улучшение наступило. Александра Андреевна ожила и повеселела. Увы, не успела семья облегченно вздохнуть, как всего через четыре дня ей стало гораздо хуже. Срочно пригласили священника.
Пока он исповедовал и причащал маменьку, все собрались в гостиной, в которой царила непривычная, мертвая тишина. Даже шумные, непоседливые близнецы притихли и только растерянно посматривали на старших, не понимая, что происходит, но чувствуя, что случилось что-то страшное. Они забрались в кресло к Саше и прильнули к ней с двух сторон, а она рассеяно гладила их по головам, не осознавая своих действий. Поля устроился на диване рядом с Колей, который изо всех сил старался быть взрослым и сохранять спокойствие, но губы время от времени кривились, словно он с трудом удерживался от слез. Папенька нервно ходил по комнате из угла в угол, нахмурившись и покусывая усы. Тетя Катя постоянно прикладывала к глазам платок, с жалостью поглядывая на племянников. Петя стоял у окна, прислонившись лбом к стеклу и бездумно глядя на улицу, где прохожие торопились скрыться от начавшегося дождя. В голове не осталось ни одной мысли, только отчаянная надежда билась в глубине души. Ну и что, что уже пришел священник причастить и соборовать мамашу? Ведь бывало же, после этого люди и выздоравливали. Он слышал о таких случаях. Его губы шевелились в беззвучной молитве: «Господи, не дай маме умереть! Не забирай ее от нас!»
Услышав, как открылась дверь, ведущая в мамину комнату, Петя живо развернулся. Глаза всех присутствующих устремились на вошедшего отца Кирилла. Тот грустно посмотрел на них и, быстро попрощавшись, ушел. Петя хотел сразу броситься к матери, но его не пустили. Туда зашли доктор с папой. Вернулись они почти сразу же. Никогда еще Петя не видел у отца такого лица. И чтобы он плакал, тоже никогда не видел. Казалось, что сердце перестало биться.
– Дети, мужайтесь… – прерывающимся голосом произнес он.
Не дослушав, Петя метнулся в спальню маменьки. Тетя Катя попыталась его удержать, но не смогла. Влетев в комнату, он нерешительно замер на пороге. Мама лежала на постели бледная и исхудавшая – черты лица заострились и казались восковыми. Петя испуганно шагнул назад, наткнувшись на вошедшего следом отца. Развернувшись, он спрятал лицо у папы на груди и разрыдался. Тот гладил его по непослушным вихрам, что-то шептал, но сам явно находился в растерянности и потрясении нервов.
Весь оставшийся день Петя пролежал в своей комнате, уткнувшись в подушку. Он больше не плакал, только ощущение непоправимой катастрофы терзало сердце, заставляя его болезненно сжиматься так, что порой было трудно дышать. Мир, который до сих пор казался вечным и незыблемым, рухнул в одночасье. Теперь уже ничто и никогда не будет таким как прежде.
Отпевали Александру Андреевну в Преображенской церкви недалеко от дома. Петя почти не слышал слов печальных заупокойных песнопений. В душе билась, не желая отпускать, одна мысль: «Как же Господь допустил такое, чтобы мама умерла? За что?» Его детская наивная вера впервые пошатнулась под грузом этой потери.
Детей не подпускали к гробу из опасения, что они могут заразиться холерой. Пришлось лишь издалека взглянуть на ее изменившееся, чужое лицо. На кладбище, несмотря на солнечную жаркую погоду, всё казалось сумрачным и унылым. А когда глухо застучала по крышке гроба земля, Петя до крови закусил губу, пытаясь сдержать рвущийся наружу отчаянный крик.
После похорон вся семья перебралась к тете Лизе Шоберт, поскольку квартиру тети Кати следовало дезинфицировать. Едва вернувшись с кладбища, слег Илья Петрович, заболевший всё той же холерой. Подавленные смертью матери, дети в ужасе ожидали, что с минуты на минуту у них будет отнят и отец. Но обошлось: через несколько дней он начал вставать и вскоре поправился совершенно.
В конце июня осиротевшая семья переехала на дачу в Ораниенбаум. Это было самое тоскливое и горькое лето в жизни Пети. Пытаясь хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, он еще больше погрузился в музыку, всё свободное время проводя в импровизациях на рояле. Музыка помогала излить чувства, исцеляя душу от скопившейся горечи и боли. Он даже решился записать одну из таких импровизаций, назвав ее «Анастаси-вальс» и посвятив ее своей последней гувернантке Настасье Петровне.
Постепенно боль притупилась, но затаенная глубоко внутри тоска по матери не исчезла – до конца жизни он помнил каждую минуту того страшного дня.
Растерянный и подавленный после потери жены Илья Петрович пригласил пожить с ними Сестрицу Настасью Васильевну, надеясь, что она хотя бы отчасти сможет заменить детям мать. Но она не оправдала его надежд: прекрасно справлявшаяся с домашним хозяйством, она не могла сладить с детьми. Особенно тяжело приходилось Илье Петровичу с воспитанием дочери, которая осталась без женского руководства. Поколебавшись, осенью он отправил Сашу в Смольный институт благородных девиц. Той же осенью Лида вышла замуж, а Ипполита определили в Морской корпус.
С отцом остались только самые младшие – четырехлетние близнецы Модя и Толя. В опустевшем доме стало ужасно тоскливо, и Илья Петрович съехался с семьей брата Петра, который недавно переселился в Петербург.
К тому времени Петру Петровичу было под семьдесят, но страдания от боевых ран делали его на вид старше. Седой как лунь, неразлучный с костылем, он все-таки бодрился и сохранял военную выправку.
Вернувшись в училище, Петя поделился своим горем с ближайшим другом – Алексеем Апухтиным, растерянно заключив свой короткий рассказ:
– Не понимаю, как Бог мог допустить, чтобы мама умерла. Она ведь так нужна нам!
Леля пренебрежительно фыркнул:
– Ты как маленький, честное слово! Всё веришь в какие-то сказочки. Нет никакого Бога, давно пора это понять!
Петя попытался спорить, впрочем, не слишком активно. В его душу начали вкрадываться сомнения. А вдруг Леля прав? Может, он и правда дурак, что сих пор верит в «бабушкины сказки»? Этот вопрос сильно занимал его, и червь сомнения, не без помощи того же Апухтина, всё больше разъедал душу, заставляя заразиться духом царящего в среде молодежи рационализма и безверия.
Глава 5. Жизнь продолжается
Жизнь в семье дяди Петра Петровича проходила интересно и насыщенно. Правда, сам хозяин дома – строгий аскет – к светским развлечениям относился неодобрительно, но это никому не мешало. Большую часть дня он проводил, запершись в своем кабинете, писал бесконечные трактаты на мистические темы и встречался с семьей только за столом да для чтения «Северной пчелы» в обществе братца Ильи Петровича.
Несмотря на суровость, Петр Петрович был человеком добрым и отзывчивым. Ежедневно он совершал пешую прогулку, к которой тщательно готовился: заворачивал в бумажки и запечатывал сургучом конфеты и пряники, рассовывал их по карманам. По улице он шел медленно и с достоинством, опираясь на палку. Когда же ему встречался ребенок, он со словами: «Посылка с неба!» – вынимал один из пакетиков и ронял прямо перед ним. После чего шествовал дальше, делая вид, будто он здесь совершенно ни при чем.
В домашние дела Петр Петрович почти не вмешивался, и единовластной хозяйкой царила тетушка Елизавета Петровна. Она много читала со своими дочерями, занималась с ними музыкой или рисованием – в зависимости от их предпочтений, – возила в театр, устраивала домашние спектакли. Случалось, что в разгар одного из таких спектаклей появлялся негодующий Петр Петрович и разражался обличительной речью о современных легкомысленных нравах. Однако дальше грозной проповеди дело никогда не заходило, и всё повторялось снова.
В доме собиралось множество молодежи: приходили друзья братьев и ухажеры сестер. По воскресеньям и праздникам устраивались вечера с танцами и всевозможными забавами. Душой общества, зачинщиками шумного веселья были Аня и Петя: они разыгрывали смешные сценки, изображали балерин, придумывали разнообразные шутки.
Петя часто с большой охотой играл в домашних спектаклях комические роли. Смешить публику во что бы то ни стало казалось ему настоящим призванием истинного артиста. Шедевром его сценического творчества считалась роль молодого человека в «Беде от нежного сердца». И вот, играя в этой пьесе с одним рьяным любителем, Петя, чтобы поразить публику своим искусством, так разошелся, что зрители помирали со смеху. Как вдруг любитель, игравший роль отца, тихонько прошептал ему:
– Да будет вам кривляться! Ведь это не игра, а паясничанье! Стыдно смотреть на вас! Противно!
Всё настроение пропало, как по волшебству, в глазах потемнело, и Петя не помнил, как окончил роль. С тех пор, если и случалось ему выступать на подмостках, то память обиды, смутное сознание, что тот человек был прав, связывали его по рукам и ногам, прежнее вдохновение не снисходило, и он вскоре совсем бросил эту забаву.
Бывало, развеселившаяся молодежь не могла угомониться до поздней ночи. Тогда из своего кабинета, точно тень отца Гамлета, появлялся Петр Петрович и, ни слова не говоря, принимался гасить лампы и свечи, давая понять, что пора расходиться.
***
16 февраля 1855 года обычное течение уроков было прервано появлением в классе мрачного и озабоченного директора. Студенты вскочили, приветствуя его. Языков обвел их тяжелым взглядом и строго объявил:
– Всем строиться. Император тяжело болен, и мы идем в церковь молиться за него.
Как громовым ударом поразила всех эта весть. До церкви шли в гробовом молчании, только иногда растерянно поглядывая друг на друга и на воспитателей. Болезнь императора казалась страшным бедствием. В церкви мальчики встали на колени, и многие, в том числе и Петя, даже плакали с чувством, будто умирал кто-то дорогой и близкий.
Два дня спустя Языков сообщил, что император скончался, и объявил траур. По училищу поползли слухи о том, что виноваты неискусные врачи: старик Мандт и медик наследника Каррель.
– Но они сделали всё, что могли!
– Значит, надо было пригласить кого-то более знающего!
– Мой отец говорит, что виновата самонадеянность Карреля – он погубил императора!
– Да Мандт тоже мог бы сообразить, что нужна помощь!
Правоведов повели прощаться с Николаем I в Петропавловскую крепость – они встали шпалерами на Дворцовом мосту. За гробом, на котором лежала казацкая шапка, первый и отдельно шел новый император Александр II в атаманском мундире гвардии казачьего полка. Лицо его и фигура показались Пете поразительно красивыми. Новая эпоха приходила на смену прежней – каким-то еще будет новый император?
***
Осенью Петя начал брать уроки музыки у известного преподавателя Рудольфа Васильевича Кюндингера. До этого он занимался с училищным педагогом Беккером, как и остальные правоведы. Музыкантом Беккер был посредственным, и эти занятия Пете ничего не дали.
Кюндингер же был прекрасным пианистом и неплохим учителем. В короткое время Петя существенно продвинулся в фортепианной игре и пополнил багаж музыкальных познаний. Уроки проходили по воскресеньям, заканчиваясь тем, что учитель с учеником играли что-нибудь в четыре руки. После чего Кюндингер оставался завтракать у Чайковских, а затем они с Петром шли в университетские концерты. Рудольф Васильевич считал ознакомление ученика с возможно большим количеством выдающихся произведений частью своей работы.
Видя увлечение, с каким сын отдался урокам, Илья Петрович решился спросить учителя:
– Как думаете, не стоит ли Пете посвятить себя этому делу?
Кюндингер поколебался и твердо ответил:
– Не думаю, Илья Петрович. У Пети есть способности, но профессиональный музыкант… сами понимаете.
Илья Петрович кивнул. Он понимал. Он и сам предпочитал, чтобы сын продолжил юридическую карьеру. Положение профессионального музыканта в России было слишком ненадежным, связанным со множеством трудностей. Правда, к правоведческим наукам Петя не проявлял особого интереса – учился он прилежно, но выучивал строго необходимое, никогда не углубляясь в предмет. Зато музыкой занимался с увлечением и страстью. Даже одно время пел в церковном училищном хоре сольные партии и первый голос в ансамблях. Он обладал звонким сопрано, и хормейстер поручал ему наиболее трудные ответственные голоса и даже регентство.
После спевок в Белой зале Петр часто садился за фисгармонию и фантазировал на заданные темы. Товарищи указывали ему какую-нибудь мелодию, а он без конца варьировал ее. Их это забавляло, и они наперебой давали ему темы для фантазирования.
Пение в хоре нравилось Пете. Красота и торжественность православной службы, когда порой перестаешь понимать, на небе ты или на земле, производила на него глубочайшее впечатление. Он пел первый голос в трио «Εις πολλα ετι δεσποτα»12, которое в архиерейской службе, происходившей в училищной церкви раз в год, поется тремя мальчиками в алтаре – в начале и конце литургии. Петя необычайно гордился тем, что принимал в ней участие. Тем более что по окончании митрополит, одним своим видом вызывавший трепет и благоговение, обязательно подходил к юным певчим со словами:
– Благодарю вас, мальчики, вы прекрасно пели. Да благословит вас Бог.
И осенял их крестным знамением.
После службы их сажали за один стол с митрополитом и принцем Ольденбургским. Далеко не каждому выпадает такая честь, и, вернувшись домой, Петр с гордостью рассказывал родным о своих певческих подвигах и благосклонном внимании митрополита. Целый год потом он вспоминал чудный день и желал его повторения.
Не только Кюндингер знакомил Петю с произведениями известных композиторов. Подруга тети Лизы была замужем за учителем пения Пиччиоли, который через нее подружился с семьей Чайковских. Несмотря на огромную разницу в возрасте – Петру в то время было шестнадцать, а Пиччиоли перевалило за пятьдесят – между ними завязалась дружба на равной ноге, которая отразилась на музыкальном развитии Петра. Под влиянием Пиччиоли он полюбил итальянских мастеров, в особенности оперных. На этой почве он сдружился на старших курсах с Володей Герардом, который тоже любил театр.
Однажды молодые люди ходили на «Дон Жуана» Моцарта. Петр неплохо к тому времени знал эту оперу, слышав отрывки из нее еще на оркестрине в родном Воткинске, а позже разбирая с тетей Катей клавир, но что это было по сравнению с впечатлением от целостного спектакля! Он, не шевелясь и почти не дыша, просидел два часа, всем своим существом впитывая каждый звук, каждую нотку божественной музыки. Перед ним открылся мир художественной красоты, где витают только величайшие гении. В этом мире хотелось остаться навсегда, этот мир звал и влек его с непреодолимой силой, сопротивляться которой он не мог, да и не хотел. Моцарт стал для него высшим идеалом, мерилом с которым можно сравнивать свои достижения. Их, правда, было пока еще не много, а точнее почти совсем не было, но у него всё впереди. Петр впервые ясно осознал, что, чем бы ни пришлось в жизни заниматься, без музыки он не сможет существовать.
Внешне же он продолжал вести обычную для молодого человека его возраста жизнь: любил общество, ходил на балы, ухаживал за девушками. С неудержимой порывистостью страстной натуры он отдался легкомысленному отношению к жизни и казался просто веселым, добродушным и беззаботным малым без каких бы то ни было серьезных стремлений и целей существования, с приятным дилетантским талантом к музыке – не более.
***
В пятнадцать лет Саша покинула Смольный институт, чтобы полностью взять на себя обязанности хозяйки: Илья Петрович и Петр Петрович решили разъехаться, посчитав, что дальнейшее проживание вместе двух немаленьких семей слишком неудобно. Поселились на Васильевском острове в просторном уютном доме. В нужную минуту в Саше проснулась энергичная и сильная женщина, отлично справлявшаяся с выпавшей на ее долю трудной задачей.
В том году Петр впервые услышал имя Антона Григорьевича Рубинштейна. Однажды Кюндингер явился на урок рассеянный и невнимательный к гаммам и экзерсисам своего ученика. Удивленный состоянием учителя Петр спросил, что с ним случилось.
– Намедни я слышал пианиста Рубинштейна, который только что вернулся из-за границы, – мечтательно ответил тот. – Это гениальный человек! Он произвел на меня такое глубокое впечатление, что я не могу прийти в себя, и мне просто невыносимо слушать ваши гаммы, как, впрочем, и играть самому.
Воображение и любопытство Петра были возбуждены до крайней степени: что же это за пианист такой великий, чтобы привести сдержанного и скупого на похвалы Кюндингера в подобное состояние?
Вскоре ему представился желанный случай попасть на концерт Рубинштейна. И не только слышать, но и видеть, как он играет и управляет оркестром. Петр был абсолютно очарован, придя к заключению, что Рубинштейн – величайший пианист и дирижер современности.
Год спустя на семью обрушилось новое испытание. Илья Петрович увлекся госпожой Ячменевой, даже подумывал на ней жениться, поскольку дети нуждались в женском руководстве. Но главное – он доверил ей всё свое состояние, накопленное за долгие годы службы. А Ячменева оказалась ловкой авантюристкой, воспользовавшейся его доверчивостью. Начался долгий изнурительный судебный процесс, который весной был проигран.
До последнего момента Илья Петрович надеялся на удачный для себя исход – семья жила хорошо и даже весело, благодаря жизнерадостной шестнадцатилетней хозяйке. Тем тяжелее вышел удар: жить стало не на что. Нежный, заботливый отец страшно страдал от того, что по своей легкомысленности оставил детей без куска хлеба. Ему было к тому времени шестьдесят три года, сил браться за новый труд уже не оставалось.
Пришлось искать приюта у Елизаветы Андреевны. Она, не колеблясь, приняла разорившихся родственников, хотя сама кое-как перебивалась с большой семьей на руках, состоявшей из трех дочерей и сына. Добродушная и всегда приветливая Елизавета Андреевна постаралась поддержать их в несчастье.
Занятия Пети с Кюндингером прекратились – Илья Петрович больше не мог себе позволить их оплачивать.
Старшие дети жалели отца и старались его поддержать, что трогало его до глубины души и не позволяло совсем отчаяться. Особенно велика была роль Саши, вникавшей во все дела, присматривавшей за младшими, занимавшейся хозяйством. Она стала надежной опорой и утешением для Ильи Петровича. Когда у него опускались руки, дочь заставляла его воспрянуть духом, обняв за плечи и ласково уговаривая:
– Не надо грустить, папенька. Все будет хорошо. Мы справимся.
Но больше всего его подбадривало то, как мужественно и безропотно несла Саша свою нелегкую ношу, будто она была взрослой опытной женщиной, а не шестнадцатилетней девочкой, только вчера из института.
Это был тяжелый год, но они смогли преодолеть трудности, поддерживая друг друга. А к осени после усиленных хлопот Илье Петровичу удалось добиться места директора Технологического института. Материальное положение восстановилось, и вместе с Елизаветой Андреевной они переехали на новую директорскую квартиру. Их дом снова стал любимым местом сборища молодежи.
Восьмилетние близнецы быстро подружились с кузиной Катей Шоберт, младшей дочерью тети Лизы – болезненной, некрасивой, длинной, нескладной девочкой. Особенно сошлись они с Модей на почве общности интересов: оба считали себя из-за болезненности отчужденными от других детей, оба грезили о театре, главным образом о балете.
Но главным идолом в жизни близнецов всегда оставался брат Петя. Когда по выходным и праздникам он появлялся дома, они тут же осаждали его, требовали придумывать для них игры, отдавая предпочтение изображению самых страшных приключений: как их похитили цыгане, и они, несчастные сироты, выносят страдания, убегают от злых мучителей. На роль мучителя выбирался Петя – близнецы приходили к нему и с умильными мордашками просили:
– Петя, помучь нас!
Приходилось выдумывать мучения, в чем он проявлял великолепную изобретательность. Приказывал им выпить воды из лужи. Летом на даче – пойти к незнакомым соседям, мирно кушавшим землянику, и попросить их дать отведать ее. Надо было видеть с какими лицами Толя и Модя приближались к сидевшим на веранде соседям, занятым неторопливой беседой: ужас от того, что они собираются обратиться к незнакомым людям, боролся с решимостью во что бы то ни стало выполнить приказание брата. Петя от души забавлялся, издалека наблюдая за ними. А уж когда они заговорили, и у соседей сделались до невозможности растерянные лица, он согнулся пополам от хохота. Близнецы вернулись довольные собой, с триумфом на лицах и полными руками земляники, которой щедро поделились со старшим братом.
Среди изобретенных Петей развлечений было и такое: на даче в Петергофе во время прогулок по царским резиденциям воровать цветы и потом сушить их в тетрадочке, вписывая день и место воровства.
Петя относился к близнецам снисходительно-покровительственно, они же его буквально боготворили, смотрели на него с восторгом, ловили каждое слово и ни на шаг не отходили, когда он бывал дома. Почему из всех братьев Модя с Толей выбрали именно его для своего поклонения было загадкой даже для самих близнецов.
Впрочем, Петра любили все: доброта, мягкость, отзывчивость располагали к нему сердца окружающих. Самые суровые профессора в училище относились к нему с большей симпатией и снисходительностью, чем к остальным ученикам, называя его Чаинькой. За все семь лет школьной жизни он ни разу не был подвергнут порке и не сидел в карцере. Хотя нельзя сказать, чтобы никогда не нарушал правила.
***
Незаметно пролетели годы, закончилось отрочество. Петру девятнадцать лет, и он выпускается из Училища правоведения.
В марте воспитанников первого класса распустили по домам готовиться к экзаменам. Друзья собирались на маленьких квартирках для скромных чаепитий с колбасою и сыром и совместного зубрежа, который в компании проходил несравненно легче и веселее. Зубрили целыми ночами напролет – в мае им предстояло держать шестнадцать выпускных экзаменов, – и рассвет заставал их всё еще сидящими за тетрадями.
Но вот сдан последний экзамен, и правоведы по давней традиции пошли в баню и облеклись в штатское платье. После чего они отправились гулять в Летний сад – счастливые и довольные, с убеждением или, вернее, с ощущением, что все гуляющие будут любоваться их щегольскими штатскими одеяниями. На душе было легко и весело.
Петр окончил Училище правоведения по первому разряду с чином титулярного советника. За месяц до выпуска вчерашних студентов по желанию распределили в различные отделы Министерства юстиции. Петр поступил в распорядительное отделение.
В первые же дни службы почувствовалась душная атмосфера чиновничьей среды. Сразу явился вопрос: неужели для этой работы нужно высшее юридическое образование, когда не получившие никакого образования в той же канцелярии представляли из себя делопроизводственный авторитет. Скука от мертвечины – вот было главное впечатление, с которым Петр начал взрослую жизнь. Да и сама служба не увлекала его. Хотя он старался прилежно исполнять обязанности, душа тянулась совсем к другой деятельности. Забывшись, он начинал насвистывать пришедшую в голову мелодию, за что сослуживцы прозвали его свистуном. Он прилагал невероятные усилия, чтобы добросовестно исполнять долг, но отсутствие призвания к этой работе, постоянная погруженность в свои мысли, никакого отношения к службе не имеющие, делали его плохим чиновником.
Через полгода Петра назначили младшим помощником столоначальника. Еще через три месяца – старшим, но далее этого он не пошел.
Отделавшись от тягостной необходимости просиживать штаны в департаменте, остальное время Петр отдавал удовлетворению ненасытной жажды удовольствия. И дома, и среди приятелей царил культ веселья и развлечений.
Все его невзгоды сводились или к любовным неудачам, или к бессилию попасть в высшее общество, или к лишению удовольствий из-за скромных денежных средств. В его распоряжении было только департаментское жалование —пятьдесят рублей ежемесячно.
Как всякий молодой повеса, Петр тяготился обществом родных, за исключением тех случаев, когда дело шло об увеселениях или празднествах. Сидеть смирно дома представлялось ему крайним пределом скуки, неизбежным злом, когда пусто в кармане, нет приглашений или места в театре.
Летом семья переезжала на дачу под Петергофом, которая нанималась для воспитанников Технологического института. Многие из них не разъезжались домой на летние вакансии по бедности, и большая семья Чайковских увеличивалась полусотней молодых людей. Они становились как родные, целые дни проводя у директора. Устраивались спектакли, иллюминации, самодельные фейерверки. Петр, как всегда и везде, и здесь был популярен и подружился со многими из технологов.
Из училищных друзей по-прежнему главное место в его жизни занимал Алексей Апухтин. Он был предметом культа целого кружка дам, и к этим поклонницам молодой поэт водил своего друга.
Через еще одного училищного товарища Адамова у Петра образовалось много новых дружественных связей в петербургском обществе. Через Пиччиоли – и того больше. Если прибавить к этому родственников и знакомых семьи Чайковских, то получалось такое количество домов, где Петру были рады, что не хватало времени для посещения их. Не проходило дня без приглашений на разного рода собрания и общественные увеселения.
Но превыше всех светских удовольствий стояли для него театр, балет и итальянская опера.
***
Внимание молодежи, собиравшейся у Чайковских, привлекала и красавица Саша, у которой появилось множество поклонников. Одно время за ней серьезно ухаживал один из сослуживцев Петра по Министерству юстиции и даже вызвал у девушки ответную симпатию. Но все многочисленные ухажеры были забыты, когда в Петербурге Саша познакомилась с выпускником Первого Московского Кадетского корпуса Львом Васильевичем Давыдовым. Его ввел в их круг дальний родственник – студент Технологического института, сразу представив его (видимо, для большего эффекта) как сына декабриста. Не сказать, чтобы красивый, но приятной наружности, скромный и серьезный молодой человек быстро завоевал симпатии Саши, а его пылкая преданная влюбленность окончательно покорила ее сердце.
Вскоре состоялась свадьба, и Александра уехала с мужем в Киевскую губернию, в село Каменка. Там он служил управляющим у своих старших братьев, родившихся до ссылки отца и ставших наследниками семьи Давыдовых, на что сам Лев Васильевич, как родившийся в ссылке, не имел права.
Еще несколько месяцев спустя и остальные члены семьи Чайковских-Шоберт начали расходиться. Николай получил место в провинции. Ипполит отправился в плавание в чине гардемарина. Веселье приумолкло, и легкая тень меланхолии легла на дом.
Глава 6. Консерватория – начало нового пути
Петр скучал по покинувшей дом сестре, но это чувство успешно топилось в бесконечных развлечениях. Так что об Александре он вспоминал не слишком часто, пока от нее не пришло тревожное письмо, в котором чувствовалась такая грусть, такая тихая, но мрачная безнадежность, что заботливый брат встревожился. Привыкшая к веселой столичной жизни Саша, оказавшись заключенной в круг домашнего хозяйства, тосковала в провинции. Без подруг, без театров, без выходов в свет. И Петр бросился утешать сестренку, пытаясь обратить ее внимание на положительные стороны ее нынешнего положения. Между ними завязалась сердечная переписка, с тех пор уже не прекращавшаяся. Петр развлекал Александру последними событиями из жизни общих знакомых, рассказывал обо всех своих делах и планах, делился самыми сокровенными мечтами.
Десятилетних близнецов по замужестве Саши отдали в домашнюю школу одного из подчиненных отца, чтобы подготовить их к поступлению в Училище правоведения. Они ходили туда утром, к трем часам дня возвращаясь домой, где были предоставлены самим себе до ночи. Прежде их образованием никто не занимался, и они сильно отставали от товарищей по классу. А лицемерный учитель совершенно не стремился исправить этот недостаток. Бессильные в приготовлении заданных им уроков, близнецы всё свободное время тратили на бесцельное брожение по просторной квартире.
В один из таких тусклых вечеров, когда Модя и Толя готовы были повторять только: «Скучно, скучно», – и с нетерпением ожидали часа, когда велят спать, они сидели, болтая ногами, на подоконнике в зале и решительно не знали, чем себя занять. Солнечные лучи квадратами ложились на пол в центре просторной комнаты, дальние же углы терялись в полумраке. От нечего делать братья наблюдали за медленным передвижением по полу солнечных пятен. И вдруг в зале появился Петр. Толя с Модей встрепенулись, с надеждой посмотрев на брата. Их взгляды были столь выразительны, что он не смог пройти мимо, как обычно, а остановился, внимательно посмотрел на них и спросил:
– Вам скучно? Хотите провести вечер со мной?
Близнецы, и не мечтавшие о подобном счастье, ответили восторженным согласием.
Он повез их на выставку восковых фигур, которые потрясли их до глубины души. Замерев перед пустынником, читающим Библию, Толя едва слышно прошептал:
– Il est vivant!13
И Модя, тут же ему поверивший, испуганно бросился к старшему брату:
– Петя, правда, что он живой?!
Тот только смеялся, не подтверждая, но и не разуверяя мальчиков.
Насмотревшись вдоволь на фигуры, братья отправились в кондитерскую на Караванной. Там они устроились в отдельной изящно убранной комнате. На стене висела механическая картина, на которой во время боя часов двигались крылья мельницы, проходил поезд, плыл пароход, маршировали солдаты. Она заворожила близнецов чуть ли не больше, чем восковые фигуры. В довершение всех радостей этого вечера Петр купил братьям горячего шоколада со сладкими пирожками. Мальчики пребывали на вершине блаженства – наконец-то в семье нашелся человек, интересующийся ими. Они без конца болтали обо всем на свете и – о чудо! – Петя их слушал.
С того дня Петр решил заменить младшим братьям мать, которую они почти не помнили. Правда, педагог он был никудышный – с неровным и впечатлительным характером: бывало сердился не за дело, но и ласкал тоже не за дело. Однако всегда без слов давал чувствовать, что любит их и желает им только добра. И близнецы в ответ обожали его, всецело подчиняясь его авторитету.
Из двух братьев Петр больше любил Анатолия: он чаще ласкал его, охотнее гулял с ним, а когда не было места троим, брал с собой его, а не Модеста. Зато последнего ценил за любовь к музыке и, когда садился играть, а Моди не было рядом, тут же кричал:
– Модя! На место!
Модест был безмерно счастлив и горд, что в поверенные восторгов старшего брата перед Моцартом брался он, а не Толя.
***
Стремясь почувствовать себя взрослым и самостоятельным, Петр съехал от отца на съемную квартиру. Небольшая, но уютная, она располагалась в том же доме несколькими этажами ниже. Его там навещала кухарка Чайковских Маврунька – поила крепчайшим кофе и болтала о покинувшей семью Александре, о чем он с удовольствием пересказывал сестре в письмах.
Жить рядом с отцом было удобно: не приходилось самому тратиться на пропитание, и можно было использовать жалование для других нужд. Деньги постоянно требовались на светские визиты, бесконечные увеселения, поездки в гости к многочисленным родственникам, ухаживания за девушками. А женским вниманием он обделен не был. К тому времени из худенького вечно взъерошенного мальчика Петр превратился в симпатичного юношу: приятные черты лица, темно-русые волосы, выгодно сочетавшиеся с большими голубыми глазами. Все его увлечения в этот период, как нарочно, звались Софьями. Петр сам забавлялся тем, как ему везет на это имя – даже сочинил стишок:
Сегодня я за чашкой кофе
Мечтал о тех, по ком вздыхал,
И поневоле имя Софья
Четыре раза сосчитал.
Случалось, безоблачная жизнь омрачалась неприятностями: на службе порой дела шли из рук вон плохо, деньги быстро заканчивались, а если к этому добавлялась какая-нибудь любовная неудача, Петр впадал чуть ли не в отчаяние. Впрочем, такие приступы никогда не длились долго: стоило пойти прогуляться по Невскому проспекту, как все печали отступали и рассеивались. Очень помогала и Александра, временами отправлявшая брату посылки, с большой деликатностью помогая ему выпутаться из затруднительного материального положения.
Одного не хватало Петру – исполнения мечты о поездке заграницу, которая представлялась ему пределом возможного блаженства. И вот – о, счастье! – такая возможность представилась. Один из многочисленных знакомых Чайковских инженер Василий Васильевич Писарев собирался по своим делам в Европу. Беда в том, что он не знал ни одного иностранного языка и нуждался в переводчике. Это-то место он и решил предложить Петру, на что тот ответил восторженным согласием. Ликованию его не было предела – наконец-то сбудется мечта!
В начале июля они выехали из Петербурга по Варшавской железной дороге. Момент пересечения границы показался Петру необычайно поэтичным и торжественным. Последний русский часовой громко крикнул путешественникам: «С Богом!» – и махнул рукой. Возникло чувство прикосновения к чему-то неизведанному и почти сказочному.
Однако первое впечатление от Европы разочаровало. Берлин показался грязным и неприветливым, немцы – неприятными, берлинские театры – ниже всякой критики.
Гамбург немного исправил мнение Петра о Германии благодаря красивому виду из номера и множеству увеселений, среди которых особенно сильно его поразили балаганы, где он катался на деревянных лошадях и смотрел на пляски и гимнастические номера.
Антверпен опять разочаровал. В основном из-за того, что Писарев уехал по своим делам на заводы, оставив спутника в одиночестве, и тот маялся от скуки, не найдя в городе, чем себя занять.
Зато в Остенде Петру понравилось море, которое он всегда любил, и он с удовольствием много купался. К тому же там они познакомились с русской дамой, которая помогла справиться с начавшейся тоской по родине, и в компании которой путешественники отправились дальше.
В Лондоне Петр целые дни посвящал изучению города, и здесь было что посмотреть. Он посетил знаменитое Вестминстерское аббатство. Громадный собор в готическом стиле подавлял своим величием. Внутри же просторные залы с вытянутыми арками создавали ощущение устремленности ввысь. Шаги гулко отдавались под высокими сводами, и этот звук вызывал робость, желание ступать как можно тише, дабы не нарушать вековой покой аббатства.
Понравился Петру и Парламент, расположившийся на берегу Темзы. Но особенно яркое впечатление оставил Хрустальный дворец, построенный для Международной выставки. Расположенный на открытом месте, он был полностью построен из стекла, за исключением металлических опор. Внушительное здание с полукруглой крышей над каждым крылом красиво смотрелось снаружи, но еще прекраснее – изнутри, когда солнце светило сквозь стеклянные стены и крышу, заполняя все пространство переливающимися бликами. И рядом, и внутри дворца располагались великолепные фонтаны, внутренний двор украшали скульптуры. Кругом множество элегантных дам и джентльменов: это было любимейшее место прогулок английской знати.
Однако в целом Лондон не понравился дождливой погодой и отсутствием солнца, отчего становилось тоскливо и мрачно на душе.
Лучшим же городом показался Париж, который сразу и на всю жизнь завоевал симпатии Петра. Им повезло появиться там накануне именин Наполеона, которые праздновались с большим размахом. Город, встретивший фейерверками, парадами и иллюминациями стал ассоциироваться с вечным праздником. Кроме того, здесь Петр встретил Юферова, бывшего Сашиного ухажера, и кузину Лиду Ольховскую с мужем. Вдали от России он впервые начал осознавать всю степень своей любви к родным: с жадной радостью он выслушивал новости о семье и петербургских знакомых. Особенно же заботили его близнецы и предстоящие им экзамены в училище.
Шесть недель, проведенные в Париже, стали самыми приятными во всем путешествии. Скучать в этом городе было просто невозможно: стоило выйти на бульвар – и уже весело.
Ложкой дегтя стало разочарование в спутнике. Прежде представлявшийся добродушным балагуром Василий Васильевич оказался человеком крайне неприятным, высокомерным и эгоистичным. Его общество все больше тяготило Петра. И возвращение на родину он воспринял как избавление.
***
Модя с Толей поступили в Училище правоведения. Дома они теперь бывали только по выходным, зато уж эти дни Петр безраздельно посвящал им.
Путешествие за границу помогло ему понять, что нельзя дальше вести пустой бессмысленный образ жизни, как было до сих пор. Шумная суета беззаботного светского времяпровождения начала приедаться. Всё громче в сердце звучал голос призвания, желания заняться музыкой. Но Петра мучили сомнения: ему уже двадцать один год, если и был у него талант, то уж верно поздно его развивать. Он чувствовал пустоту своей нынешней жизни, душа стремилась к чему-то большему, но он не мог решиться бросить привычное и удобное существование, не будучи уверен в своем таланте.
Будто догадавшись о его внутренних терзаниях, однажды за ужином отец задумчиво заметил:
– А мне кажется, Пете еще не поздно сделаться артистом…
Петр вздрогнул и внимательно посмотрел на него – не шутит ли он? Но нет, Илья Петрович ответил сыну доброжелательным взглядом, в котором светилась привычная забота. И он подумал: а может, прав отец, может, стоит попытаться?
Несколько дней спустя Петр отправился в Михайловский дворец – той осенью там открылись Музыкальные классы. Ободренный словами отца, он решил записаться в них и начать серьезно заниматься музыкой.
Античное великолепие Михайловского дворца вызывало робость и воскрешало сомнения: правильно ли он поступает, тот ли путь выбрал? Но все они рассеялись на первом же занятии: погрузившись в мир музыки, Петр окончательно осознал, что не сможет жить без этого.
Из предметов, преподававшихся в Музыкальных классах, среди которых были хоровое и сольное пение, фортепиано, скрипка и виолончель, Петр посещал только музыкальное сочинение у Николая Ивановича Зарембы.
Если как человек Николай Иванович Петру нравился, то как профессор вызывал антипатию. Он был чрезмерно красноречив и впадал в излишества. Не будучи контрапунктистом-практиком, он, указав на недостаток в принесенной задаче, не мог его тут же исправить и внушал студентам двойное недоверие: казался и дилетантом, и отсталым. Петру же, врагу всякой отвлеченности, не нравилось само его красноречие, не нравилась внешняя логичность, за которой он чувствовал произвол и насилие над действительностью. Неприязни между учителем и учеником способствовало и то, что Николай Иванович охотнее и чаще всего ссылался на Бетховена, Моцарта же не любил, чего пылкий обожатель последнего не мог ему простить.
Зато организатором и директором Музыкальных классов Антоном Григорьевичем Рубинштейном Петр восхищался. Несмотря на молодость, Рубинштейн был уже широко известен и в России, и за рубежом как талантливый пианист и композитор. Директор входил буквально во все дела, в особенности заботясь о двух отделениях: фортепианном и композиторском. Не было начальника более снисходительного и добродушного, но его хмурый вид, вспыльчивость, авторитет европейски знаменитого имени вызывали у студентов трепет. Петр же уважал в нем не только великого пианиста и композитора, но и человека редкого благородства – откровенного, честного и великодушного.
Как преподаватель Рубинштейн представлял разительную противоположность Зарембе. Насколько тот был красноречив, настолько этот – косноязычен. Насколько у Зарембы всё было приведено в систему и каждое слово стояло на своем месте, настолько у Рубинштейна царствовал беспорядок. Зато огромные практические знания и кругозор, невероятная для тридцатилетнего человека композиторская опытность придавали его словам вес.
Первый год Петр занимался кое-как, по-любительски. Пока однажды после урока Рубинштейн не отвел его в сторону и не произнес с мягким упреком:
– Господин Чайковский, право жаль видеть, как вы попусту растрачиваете свой талант. Ведь у вас весьма многообещающие задатки, их бы развивать, а вы так небрежно занимаетесь! Надо серьезнее относиться к делу, коль скоро вы за него взялись. Как же обидно будет, если столь несомненный талант погибнет из-за обычной лени.
Тронутый до глубины души вниманием и участием директора, Петр решил с этой минуты работать со всей отдачей, забыв про лень. Для него начался труд, занимающий всё свободное время: упорно, по несколько часов подряд он играл фуги и прелюдии, корпел над нотной бумагой.
И все-таки служба оставалась главным, серьезным интересом существования. Никогда Петр не работал так усердно и ретиво, как в течение лета того года. В департаменте предстояла вакансия столоначальника, и Петр имел все права на получение места. Он даже отказался от поездок на дачу, не только усердствуя на Малой Садовой, но и принося работу на дом.
Однако всё оказалось бесполезным: Петра обошли назначением. Обиде и досаде его не было пределов. Разочаровавшись в службе, он окончательно повернулся к музыке.
***
Осенью тетя Лиза купила пансион Дюливье и переехала на Михайловскую площадь, отделившись от Чайковских. Семья вновь осталась без женского руководства, однако ненадолго.
Как-то зайдя к отцу на обед, Петр обнаружил в квартире незнакомую миловидную женщину средних лет: темные волосы забраны в простую прическу, большие светлые глаза смотрели приветливо, но со странным опасением. На естественный вопрос, кто это, отец, будто чем-то смущаясь, объяснил:
– Наша новая экономка – Елизавета Михайловна Александрова.
Это непонятное смущение выглядело довольно подозрительно. Не так много времени понадобилось на то, чтобы догадаться: выполняя обязанности экономки, по сути, Елизавета Михайловна стала женой Ильи Петровича.
Его дети отнеслись к ее появлению в доме неприязненно. За исключением близнецов, все они были уже взрослыми людьми, и мачеха им была совершенно не нужна. Однако вскоре стало ясно, что Елизавета Михайловна и не претендует на эту роль: она оставалась для всех невидимкой, даже кушала отдельно, в своей комнате. Отказавшись от прав жены, прячась, чтобы не вызывать невыгодных сравнений с матерью, она на деле показывала добро и пользу, которую внесла в семью. Ничего не требуя, Елизавета Михайловна взяла на себя заботы о хозяйстве и действовала столь умело, столь мягко, что понемногу добилась уважения как мудрый помощник отца и, наконец, дружбы и благодарности своих пасынков.
Той же осенью Музыкальные классы преобразовались в первую русскую консерваторию, и в сентябре Петр поступил в нее.
Как все теоретики, Петр должен был посещать фортепианный класс, который вел Антон Герке – один из первых пианистов Петербурга. Антон Антонович носил рыжий парик и юным студентам казался стариком, при этом отличаясь чрезвычайной бодростью, деятельностью и энергией. Он нравился ученикам обширным знакомством с фортепианным репертуаром, а главное – исполинским трудолюбием и железной энергией.
Несколько месяцев спустя профессор освободил Петра от фортепианного класса, как играющего совершенно достаточно для теоретика.
Занятия музыкой отбирали почти все будни. В праздничные же дни он всего себя отдавал общению с близнецами, приходившими из Училища правоведения. Времени на визиты, званые обеды и вечера не осталось совсем. Незаметно, сами по себе отошли на второй план, а потом и вовсе исчезли былые развлечения и удовольствия, а вместе с ними – многие прежние приятели. Зато появились новые друзья – из мира музыкантов-специалистов. С одним из них Петр познакомился в классе Герке.
Однажды темным осенним утром, пронизанным свежестью и бодростью настроения, он заметил державшегося обособленно нескладного, неловкого и робкого юношу, тут же решив с ним познакомиться:
– Петр Чайковский, – представился он, подойдя к юноше.
– Герман Ларош, – ответил тот.
Они сразу же прониклись симпатией друг к другу и вскоре болтали, как старые приятели. Герман рассказал, что отца у него нет, а мать – гувернантка, и всё детство он ездил с ней с одного места службы на другое. Зато она позаботилась об обучении сына, и к семнадцати годам он был прекрасно образован, в том числе музыкально. Правда, его умственные способности развивались в ущерб физическим: он легко простужался и постоянно болел. При этом Герман был поразительно наивен, поскольку до сих пор почти не общался со сверстниками, большую часть времени проводя дома со строгим запретом выходить на улицу. Единственными его друзьями были книги, которые он поглощал в неимоверном количестве.
– А в Зарайске уже играли сочиненные мною увертюру и марш, – похвастался Герман новому приятелю. – Правда, оркестр был небольшой – из дворовых князя Волконского.
Он говорил об этом, как о чем-то само собой разумеющимся, и Петр невольно позавидовал: ему в этом отношении похвастаться было нечем. А ведь Герману было всего десять лет, когда исполняли его произведение! Он, можно сказать, уже настоящий композитор. А Петр? Чего он добился к своим двадцати двум годам? Это обстоятельство подогрело его стремление как можно больше работать, развивать свой талант, чтобы возместить упущенное время.
Петр сразу же почувствовал интерес и уважение к Герману, а зрелость суждений последнего и редкое остроумие окончательно его очаровали.
Раз в неделю Герман стал приходить по вечерам в гости, неизменно принося ноты в четыре руки, которыми благодаря знакомству с главным приказчиком магазина Бернарда – Осипом Ивановичем Юргенсоном – пользовался в неограниченном количестве. Среди них были: девятая симфония Бетховена, третья Шумана, «Океан» Рубинштейна, «Геновева» и «Рай и Пэри» Шумана, «Лоэнгрин» Вагнера. Длинные вокальные произведения с массой речитативов на фортепиано выходили бессмыслицей, и Петр ворчал на друга. Но красоты связных цельных номеров быстро его обезоруживали.
Друзья часто посещали концерты Русского музыкального общества, которые давались по вторникам в зале Городской думы. Маленькая зала всегда была переполнена. По воскресным утрам проходили генеральные репетиции, на которые ученики имели свободный вход и садились где попало. Для концертов же им отводилась просторная галерея: налево сидели ученицы, направо – ученики. И на репетициях, и на концертах Петр с Германом были неразлучны. Изредка они впадали в несогласия, большей же частью восхищались и негодовали вместе.
***
К концу зимы Петр окончательно убедился, что добросовестно служить при серьезных занятиях музыкой невозможно. Два вечера в неделю – уроки, в воскресенье и понедельник – игра в восемь рук с товарищами-музыкантами. А в течение Великого поста его постоянно просили аккомпанировать в различных концертах. Он даже появлялся на сценах Большого и Мариинского театров и был на музыкальном вечере у великой княгини Елены Павловны в качестве аккомпаниатора, за что получил двадцать рублей. Последнее произвело на Петра впечатление не оказанной чести, а оскорбительной подачки. «Не слишком-то великокняжески», – с обидой написал он сестре.
Он по-прежнему числился в Министерстве, но службой уже не занимался. Однако и совсем бросить ее долго не отваживался: покинув Министерство, он остался бы без заработка. На помощь отца рассчитывать не приходилось: он подал в отставку из-за конфликтов с начальством, у него накопилось немало долгов, и положение сложилось плачевное. На две тысячи рублей пенсии он должен был содержать себя, близнецов и понемногу выплачивать долги.
Директорскую квартиру пришлось оставить, и семья поселилась в доме Федорова в квартире из шести крошечных комнат. Несмотря на тесноту нового жилья, здесь было удивительно тепло и уютно. Зимой к ним присоединился Николай, хлопотавший о месте в Петербурге, и по праздникам, когда Модя и Толя приходили домой из училища, в маленькой квартирке становилось не повернуться. Однако удивительным образом это не вызывало раздражения или недовольства.
В мае Петр, наконец, решился оставить службу, и был отчислен из штата по собственному желанию. Почти вся семья воспротивилась этому намерению. Дядя Петр Петрович, возмущенный до глубины души безрассудным поступком, жаловался знакомым на непутевого племянника:
– А Петя-то, Петя! Какой срам! Юриспруденцию на гудок променял!
Брат Николай на правах старшего взялся провести с Петром воспитательную беседу, когда они вместе ехали на извозчике:
– Подумай хорошенько, что ты делаешь! Ведь всю жизнь себе сломаешь! Таланта Глинки в тебе явно не наблюдается. Значит, ты обречен будешь на самое жалкое существование музыканта средней руки. А в Министерстве ты сможешь достичь хороших чинов, достойной жизни.
Петр слушал брата, нахмурившись и не глядя на него, но ни слова не отвечая, даже когда тот замолчал, закончив свою обличительную речь. Было обидно: ведь у него есть талант, почему же самые близкие люди не хотят этого признать? И особенно обидно было слышать подобное от Коли, который всегда был для него дорогим другом. Однако его уверенность в правильности выбранного пути ничто не могло поколебать. Уже выходя из фиакра, Петр обернулся и твердо произнес:
– С Глинкой мне, может быть, не сравняться, но увидишь: ты будешь гордиться родством со мной! – и спрыгнул на землю, оставив брата ошеломленно смотреть ему вслед.
При всеобщем осуждении приятной неожиданностью стала реакция отца. Он, конечно, огорчился, что сын не оправдал надежд, возлагаемых на его юридическую карьеру, но не упрекнул ни единым словом и только с теплым участием осведомлялся о его намерениях и планах, всячески ободряя.
Петр взял себе множество уроков, чтобы как-то заработать на существование. Некоторым он преподавал теорию музыки, другим – фортепианную игру. Но они давали не более пятидесяти рублей в месяц. Он во всем себя урезывал, питался в «пятикопеечной» кофейне, одевался более чем скромно, и всё же не мог избежать долгов.
Однако никакие трудности не могли разочаровать Петра в принятом решении, и он весело подшучивал над своей нищетой. В маленькой, узкой комнате, вмещавшей лишь постель да письменный стол, он был совершенно счастлив и покоен от уверенности, что теперь стоит на верном пути.
Видя рвение своего ученика, Рубинштейн все меньше и меньше стеснялся размерами задач. Любивший поспать Петр просиживал над ними ночи напролет и утром тащил только что оконченную, едва высохшую партитуру ненасытному профессору.
Дома он часто фантазировал за фортепиано, особенно в сумерки, но никогда по чьей бы то ни было просьбе и в присутствии свидетелей. Слишком личным это было, чтобы открыться даже перед самыми близкими людьми. Бывало, кто-нибудь случайно услышит, и тут же начинались восторги и похвалы. Но Петр резко обрывал дифирамбы, захлопывая крышку рояля:
– Ничего хорошего в этом быть не может!
Незадачливому свидетелю его излияний оставалось только ошеломленно смотреть вслед тут же сбегавшему музыканту.
Дабы сократить расходы и получить возможность расплатиться с долгами, отец на лето отправился к Саше в Каменку, взяв с собой близнецов. Петр остался один и, воспользовавшись приглашением Апухтина, уехал к нему в деревню Павлодар, Калужской губернии. Невероятно красивые пейзажи сразу покорили его. Но вскоре Алексей, соскучившись однообразием жизни, начал навещать разных приятелей, оставив Петра со своим отцом и братьями. Вынужденное пребывание в обществе почти незнакомых людей, бесцеремонность бросившего его Алексея вызвали возмущение. И даже красоты местной природы не могли сгладить негативного впечатления.
Осенью Петр вернулся в Петербург совершенно преобразившимся: от светского молодого человека не осталось и следа – с длинными волосами, одетый в собственные обноски прежнего франтовства. Легким подчеркиванием небрежности и бедности своего вида он хотел окончательно разорвать прежние знакомства – показать, что отныне не имеет с этими людьми ничего общего. Нашлось немало лиц, которые перестали кланяться ему, но все-таки большинство друзей признали в убогом виде своего прежнего любимца.
Отец вернулся из Каменки в сопровождении матери и сестер Льва Васильевича, познакомив с ними Петра. Александра Ивановна – бодрая добрая старушка со светлым умом и ясной памятью – встретила его тепло, как родного. Вдова декабриста, которая когда-то последовала за мужем в Сибирь, внушала ему безмерное восхищение и уважение. Он немедленно проникся симпатией к этой семье, часто у них бывал и вскоре стал своим человеком в их доме. Петр получал огромное удовольствие от рассказов Александры Ивановны о декабристах и Пушкине, который когда-то гостил у Давыдовых. Но особенно он сдружился с ее дочерями Елизаветой и Верой, поскольку обе сестры горячо любили музыку. С большим энтузиазмом он взял на себя роль их музыкального просветителя.
***
В числе немногих оставшихся светских друзей Петра был князь Алексей Васильевич Голицын. Он помогал ему найти уроки, часто звал к себе на роскошные обеды и ужины и, наконец, уговорил провести вместе лето в его поместье Тростинце, Харьковской губернии. Гораздо больше Петру хотелось поехать к сестре в Каменку, но на это не было средств: путешествие в дилижансе до Киева стоило весьма и весьма немало. Отец проводил лето в Петербурге с Елизаветой Михайловной, Модю с Толей отправили к дяде Петру Петровичу. И Петр принял предложение Голицина.
Никогда прежде он не бывал среди такого великолепия. Загородный дом князя больше напоминал белокаменный дворец, окруженный роскошным парком с красивейшими липовыми аллеями – настолько огромным, что в нем, пожалуй, можно было заблудиться. Что уж говорить о самом доме с множеством великолепнейших комнат и зал – гости могли и вовсе не встретиться друг с другом.
Понимая, как необходимо музыканту уединение, Алексей Васильевич не стеснял Петра обществом, и только в часы обеда и по вечерам он составлял компанию князю, остальное время проводя за работой и в одиноких прогулках по окрестностям. А какие там были окрестности! Кроме хозяйского парка, который и сам по себе вызывал восторг, неподалеку расстилались поля и луга, обрамлявшиеся вдалеке лесом. С детства страстно и восторженно любивший природу Петр с наслаждением отдавался прогулкам, забывая обо всем на свете.
Только однажды его уединение было нарушено: на его именины князь Голицин устроил настоящий праздник. Днем, после обедни состоялся торжественный завтрак. Петра поздравляли, пели «Многая лета», а вечером перед ужином, когда стемнело, имениннику предложили совершить прогулку в экипаже. Он пытался отказаться: он не любил такие прогулки, предпочитая ходить пешком в одиночестве. Но приглашения были столь настойчивы, что пришлось подчиниться. Шумное общество немного утомляло, но заботливое внимание окружающих было приятно. Кому же не понравится чувствовать себя любимым?
На лето всем ученикам композиторского класса задавалась крупная работа. В тот раз Петр должен был написать большую увертюру и сам выбрал для нее программой «Грозу» Островского. В Тростинце он ее и сочинил.
Оркестр он взял самый что ни на есть еретический: с большой тубой, английским рожком, арфой, тремоло в разделенных скрипках, большим барабаном и тарелками – всё то, что решительно не признавал Антон Григорьевич. Со свойственным ему оптимизмом Петр надеялся, что под флагом программы эти отступления от предписанного ему режима пройдут безнаказанно.
Закончив партитуру, он отправил ее по почте Герману с поручением отнести Рубинштейну. Несколько дней спустя, когда Петр вернулся в Петербург и поинтересовался у друга, как директор принял его работу, тот ответил чуть ли не с обидой:
– Знаешь, никогда в жизни я за собственные проступки не получал такой головомойки, какую мне пришлось выслушать за чужой. Представь: прекрасное воскресное утро, Антон Григорьевич в самом добродушном настроении. Я отдаю ему твою партитуру и вижу, как по мере чтения он всё больше мрачнеет. Наконец, он откладывает листы и заявляет: «Если бы вы мне осмелились принести такую вещь своей работы…» – и пошел пробирать на все корки. Я думал, живым от него не выйду!
Петр виновато улыбнулся – он потому и послал работу с приятелем: рассчитывал, что Антон Григорьевич не станет ругать того за чужое сочинение, а к моменту появления автора уже остынет. Кто ж знал, что гнев вспыльчивого директора обрушится на голову ни в чем не повинного Лароша!
И если уж вестника так отругали, что же будет с виновником? На следующий день Петр отправился к Рубинштейну, замирая от ужаса. Но вот парадокс: истощив запас своего гнева, для него директор ничего не приберег. Петр был встречен чрезвычайно ласково, и на его долю досталось лишь несколько коротких сетований.
Герман подвел итог этой истории возмущенным заявлением:
– Чтоб я еще когда-нибудь носил директору твои сочинения!
В Петербурге князь Голицин нанял для Петра меблированную комнату в доме на Мойке. Отец с Модей и Толей временно остановились у Давыдовых, чтобы позже переехать к тете Лизе. Ее дело с пансионом не удалось, и затею пришлось бросить.
Той осенью Герман уговорил Петра пойти на «вторник» к Александру Николаевичу Серову – вечер, на который хозяин собирал самых разных интересных личностей. Квартира представляла собой скромное холостяцкое жилище, а всё угощение состояло из чая с лимоном и булками.
К тому времени, как они с Германом пришли, уже почти все собрались. В большинстве своем гости были литераторами, среди которых – становившийся известным Федор Михайлович Достоевский. Впрочем, Петру он не особенно понравился, поскольку много, но бестолково говорил о музыке, не имея ни музыкального образования, ни природного слуха.
Эти «вторники» Петр посетил всего пару раз: хозяин дома не внушал ему симпатии, да и свободными вечерами он не располагал. Как правило, они были заняты уроками. Неизменный Герман часто провожал Петра на эти уроки, а по дороге они вели беседы и споры. Когда речь заходила о музыкальных формах, Петр неизменно принимался страстно убеждать друга:
– Никогда в жизни я не напишу ни одного фортепианного концерта, ни одной сонаты для фортепиано со скрипкой, ни одного трио, квартета, фортепианной пьесы, романса.
– Но почему? – искренне удивлялся Герман.
– Потому что я абсолютно неспособен к этим формам. А романсы – это вообще не искусство.
Петр был преисполнен глубочайшего презрения к романсам. И как Герман не пытался его переубедить, он упрямо стоял на своем. Но при этом непоследовательно восхищался Глинкой, Шуманом и Шубертом.
Однажды они так увлеклись, что, уже дойдя до нужного дома, уселись на тумбах и продолжали говорить. То есть говорил большей частью Герман. Петр же слушал, молчал и вдруг заявил:
– Вместо того чтобы говорить всё это, ты должен это написать. У тебя же призвание стать музыкальным критиком!
Слова друга пробудили в Германе энтузиазм, и он начал искать сотрудничества в петербургских журналах. А несколько лет спустя его поиски привели к результату.
***
Весной Илья Петрович узаконил свои отношения с Елизаветой Михайловной. К тому времени члены семьи привыкли к ней и начали считать своей. Так что их брак не вызвал никаких возражений, чего в тайне опасался Илья Петрович, больше всего на свете дороживший добрым мнением своих детей. Вскоре после венчания, по-прежнему борясь с долгами, он уехал к старшей дочери на Урал, Елизавета Михайловна поселилась у своих родных, а Петр с близнецами отправился на всё лето к сестре в Каменку.
Окружающая обстановка разочаровала его с первого взгляда. О бывшем дворянском гнезде почти ничто не напоминало. Каменка скорее представляла собой купеческую усадьбу. От великолепного дома остались лишь кучи мусора да хороший тенистый сад, расположенный на горе и спускающийся к реке Тясмину. Семья жила во флигеле, стоявшем через дорогу от бывшего главного дома. По ту сторону реки виднелись трубы и белые стены свеклосахарного завода. А сзади, сразу же за оградой усадьбы, начиналось так называемое «местечко»: сплошная масса домов, обитаемых исключительно евреями.
Среди встречающих, ожидавших Петра у самых ворот, он сразу же углядел сестру и живо спрыгнул на землю, радостно приветствуя ее.
– Петичка! – Саша тут же кинулась ему шею. – Я так скучала!
– Я тоже соскучился, Сашенька! – искренне ответил он, целуя ее в обе щеки.
Тут же к сестре с радостными криками подлетели Модя и Толя, и она принялась целовать и тормошить их. А Петру поднесли знакомиться племянниц: трехлетнюю Таню и годовалую Веру. Хорошенькие девочки совершенно очаровали его. После чего Петра представили старшему брату Льва Васильевича – Николаю, который и являлся владельцем усадьбы. Это был пожилой, но сильный, красивый, приветливый и веселый человек. Кроме того, как выяснилось позже, утонченно образованный и начитанный, правда, увы, нетерпимый к чужому мнению: спорить с ним было совершенно невозможно.
Вся обстановка, быт, уклад, каждая мелочь в Каменке представляли собой образец семейной жизни. Счастливее людей трудно было себе представить, и Петра охватило такое умиление и радость при виде этой картины, что он надолго связал жизнь каменских обитателей с воплощением земного благоденствия. Он с удовольствием общался с племянницами, вел научные споры с Николаем Васильевичем, беседовал о музыке с Верой Васильевной, слушал рассказы о старине Александры Ивановны, наслаждался обществом сестры, ну и, конечно, много времени проводил с близнецами.
В двух верстах от Каменки располагались прелестные дубовые рощи, а дальше – вековые леса до скалистых берегов Тясмина, вдоль которых Петр с удовольствием гулял. В то лето в гостях у сестры он был бесконечно счастлив.
Во второй половине августа Петр попрощался с Александрой. До самого Киева путешествие сопровождалось ужаснейшей погодой, наводившей страшную тоску. И только общество любимых братьев немного рассеивало грусть.
К их несчастью, из-за проезда великого князя Николая Николаевича на юг России все почтовые лошади были заняты, и приходилось довольствоваться обывательскими, которыми управляли неопытные в этом деле местные крестьяне. Ехали медленно, а однажды лошади понесли с горы. С грохотом мчался дилижанс, с бешеной скоростью мелькали за окном деревья. Кучер что-то кричал, но всё бесполезно. Казалось, ничто не сможет их спасти. В ужасе братья, вцепившись друг в друга, совершенно приготовились к гибели, и только непостижимым чудом в тот момент, когда перед ними уже показался обрыв к реке и они вот-вот должны были сорваться туда, лошади резко повернули в сторону и выехали на мост. Переведя дыхание, братья переглянулись и принялись радостно обниматься.
– Я уж думал: всё… – сдавленно произнес Толя.
Модя покивал, не в силах говорить, и Петр только крепче обнял их, пытаясь успокоить.
В довершение дорожных бед приходилось страдать от голода. Какие были припасы, все оказались уничтоженными большой свитой великого князя, и двое суток они, кроме черного хлеба и воды, ничего не ели.
***
В Петербурге на Петра обрушились квартирные неприятности. Комната, которую ему наняли за восемь рублей в месяц на Мойке, была мала и неуютна. Он пытался смириться и утешал себя мыслью, что ему неудобно с непривычки, что со временем станет легче. Но чем дальше, тем квартира становилась невыносимее и к середине сентября сделалась до того противной, что он решился бросить ее и переехать к тете Лизе. Однако не прижился и там. У тети Лизы царила невероятная сырость, от которой болели то зубы, то руки и ноги, появился постоянный кашель. Да и слишком далеко от консерватории. Плюс ко всему постоянный шум и невозможность нормально заниматься. Не прошло и месяца, как Петр оставил и эту квартиру.
Начал беспокоить и вопрос материального существования в будущем: после предстоявшего в декабре окончания курса в консерватории. Те средства, которые Петр прежде мог тратить исключительно на свои потребности, теперь уходили и на стол, и на прислугу, и на квартиру, а доходы оставались так же скромны. Кредитор грозил Долговым отделением. Петр упрашивал его подождать до весны, когда рассчитывал получить деньги от Рубинштейна за перевод учебника Геварта, но кредитор отказался наотрез.
Чтобы сократить расходы, Петр обедал то у приятеля Пиччиоли, то у тети Кати или тети Лизы, иногда наведываясь к мачехе, которая стала для него главной опорой. И он проникся к ней горячей благодарностью и нежной привязанностью. По возможности Лизавета Михайловна помогала деньгами, но и помимо того следила за его одеждой, искала квартиры, навещала в училище близнецов. Деньги высылала иногда и Александра, в том числе необходимые на обучение Моди и Толи. Младшие братья, ночевавшие у кузины Амалии, день проводили с Петром. Он вникал во все их училищные дела и проблемы, беседовал с инспекторами и директором, помогал им в учебе.
Забытые колебания насчет окончательного выбора музыкальной карьеры вновь охватили душу, и мысль о возвращении на государственную службу уже не внушала прежнего отвращения. Уверенность, что в известный день месяца будут необходимые деньги, в тяжкие минуты начала казаться заманчивой. Один из друзей даже предлагал доставить Петру сносно оплачиваемое место надзирателя за свежей провизией на Сенной площади. Но голос призвания слишком громко звучал в сердце, чтобы забыть о нем, и дальше разговора это дело не продвинулось.
Квартирные бедствия закончились только в ноябре, когда Апухтин, уехавший из Петербурга на два месяца, предоставил в распоряжение друга свою комнату.
Вопреки неприятностям, непростым жизненным условиям и вспыхнувшим сомнениям, Петр усиленно трудился и написал смычковый квартет B-dur и увертюру F-dur, которые были исполнены на музыкальном вечере учеников консерватории и в зале Михайловского дворца. Одобрительный отзыв профессоров, восторги товарищей заставили мгновенно забыть обо всех невзгодах и снова преисполнили душу уверенностью в правильности выбранного пути. Наиболее же волнительным событием стало исполнение его «Характерных танцев» в Павловске под управлением самого Иоганна Штрауса.
Незадолго до выпускных экзаменов Антон Григорьевич вызвал Петра к себе. В кабинете директора в кресле рядом с массивным столом, за которым сидел Рубинштейн, вальяжно расположился молодой жилистый мужчина среднего роста. У него были волнистые светло-русые волосы и светлые глаза с цепким взглядом. Щегольски одетый, он производил впечатление денди.
– Вот тот самый Чайковский, – обратился к нему Антон Григорьевич и представил своего гостя ученику: – Мой брат – Николай Григорьевич Рубинштейн. У него есть к вам предложение.
Петр поклонился, с любопытством посмотрев на Николая Григорьевича. Тот не стал утруждаться длинными предисловиями и сразу перешел к делу:
– Я в Москве руковожу Музыкальными классами Русского музыкального общества, – говорил Николай Григорьевич, лениво растягивая слова, что делало его похожим на избалованного барчука. – К сентябрю собираюсь преобразовать их в консерваторию, для которой нужны профессора. И мне хотелось бы видеть вас среди них: господин Ларош и господин Кашкин вас очень рекомендовали, да и брат мой весьма высокого о вас мнения.
Николая Дмитриевича Кашкина Петр знал по восторженным отзывам Германа. Не будучи знаком с ним лично, он успел проникнуться к нему искренней симпатией. Видимо, симпатия оказалась взаимной.
Предложение было лестным: далеко не каждому предлагают стать профессором, когда он еще не закончил обучение. Но… профессорское жалование ничтожно мало – пятьдесят рублей в месяц. Как тяжело жить на такие деньги, Петр знал даже слишком хорошо. Поэтому он не решился сразу дать ответ и обещал подумать.
***
Ученики старших теоретических курсов должны были управлять ученическим же оркестром. С ужасом думал Петр о том дне, когда наступит его очередь: с его болезненной застенчивостью стоять на публике представлялось ему настоящей пыткой. Но как бы ни хотелось отложить испытание, этот день неминуемо настал.
Еще когда Петр всходил на сцену, его начало трясти нервной дрожью. А едва поднял палочку, как неконтролируемый ужас пробудил ощущение, будто голова постоянно куда-то падает – того и гляди соскочит с плеч. Мертвой хваткой он левой рукой держал голову за подбородок, правой пытаясь махать палочкой. Весь концерт прошел как в тумане. Счастье еще, что музыканты произведение знали хорошо и могли особо не обращать внимания на бледного дирижера, расширившимися глазами уставившегося в партитуру, но ни одной нотки в ней не видевшего.
Сойдя со сцены, Петр в полной убежденности заявил:
– Больше никогда в жизни не возьму в руки дирижерскую палочку!
Приближался декабрь, а вместе с ним окончание консерватории. В ноябре Петр приступил к своей выпускной работе – кантате «К радости» на гимн Шиллера для хора и оркестра.
Кантата исполнялась учениками консерватории при торжественной обстановке, в присутствии директоров Русского музыкального общества и экзаменационной комиссии. Однако Петр на концерт не явился: он не хотел держать публичный ответ на предшествовавшем концерту экзамене по теории музыки. Ему хватило опыта дирижирования, чтобы еще и экзаменоваться при зрителях. Всё равно наверняка разволнуется настолько, что не сможет ничего сказать – так чего зря мучиться.
Вечером Герман зашел к нему рассказать, как все прошло:
– Антон Григорьевич был в ярости и грозился лишить тебя диплома. К твоему счастью, экзаменационная комиссия решила, что кантата достаточно демонстрирует твою зрелость и богатство знаний. В общем, тебя признали достойным получить диплом на звание свободного художника и даже наградили серебряной медалью.
Петр облегченно выдохнул – он справедливо боялся, что Рубинштейн не спустит ему нахальную выходку. Но обошлось.
Увы, критика не была к нему столь благосклонна. Несколько дней спустя, сидя в кафе и листая «Санкт-Петербургские ведомости», Петр наткнулся на статью некоего Цезаря Кюи, которая гласила:
«Консерваторский композитор г. Чайковский – совсем слаб. Правда, что его сочинение (кантата) написана в самых неблагоприятных обстоятельствах: по заказу, к данному сроку, на данную тему и при соблюдении известных форм. Но все-таки если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы».
Прочитав этот ужасный приговор, Петр почувствовал, как у него потемнело в глазах и закружилась голова. В смятении он выскочил из кафе и бросился бежать, не отдавая себе отчета в том, что делает. Только спустя несколько часов бесцельных блужданий по петербургским улицам в голове немного прояснилось. Было не просто обидно – статья вызвала леденящий душу страх: а вдруг прав Кюи, вдруг он действительно всего лишь посредственность, и нет у него будущего?
Когда Петр поделился своими сомнениями с Германом, тот сначала посмотрел на него недоуменно, а, убедившись, что он совершенно серьезен, принялся страстно его разубеждать:
– Да что ты слушаешь этого Кюи! Можно подумать, сам он великий композитор. Если хочешь знать, он всего лишь профессор фортификации, а туда же – берется чужие творения оценивать! Твоя кантата – самое большое музыкальное событие в России после «Юдифи». Она неизмеримо выше «Рогнеды» – и по вдохновению, и по работе. Ты величайшее дарование современной России, единственная надежда нашей музыкальной будущности. И не смей сомневаться в своем таланте!
Эти слова пролились бальзамом на раненное сердце, и в душе родилось упрямое желание доказать суровым критикам, что они глубоко заблуждаются.
Петр окончательно решился принять приглашение Николая Григорьевича Рубинштейна. Перед ним открывался новый путь, неизвестный и немного пугающий, но такой желанный.
Глава 7. Москва – новый мир, новая жизнь
В начале января Петр Ильич выехал в Москву. Последние дни перед отъездом настроение у него было отвратительным: мучила хандра при мысли о расставании – и надолго – с родными, а особенно с Модей и Толей. Он старался казаться веселым, чтобы не огорчать братьев, но получалось плохо. А уж на вокзале, когда они чуть ли не со слезами обнимали его, пришлось приложить колоссальные усилия воли, чтобы все-таки сесть в поезд, оставив их на платформе. Такими одинокими.
Всю дорогу до Москвы он грустил и думал о братьях.
В Первопрестольную прибыли вечером, когда уже стемнело. Выйдя из вагона, Петр Ильич зябко поежился, кутаясь в подаренную недавно Лелей Апухтиным шубу: самому купить ее было не на что. На привокзальной площади галдели извозчики, пристававшие к богатым пассажирам, сновали носильщики, торопились новоприбывшие, пытались высмотреть в толчее знакомые лица встречающие, шумно фыркали и перебирали ногами извозчичьи лошади. Тысяча воробьев и голубей, храбро шныряя у них под ногами, клевали овес. Морозный воздух пах навозом, шерстью, свежей выпечкой и кофе из трактира неподалеку. Шум, гам, ругань сливались в общий гул.
Петр Ильич растерянно огляделся, пытаясь понять, в какую сторону ему идти. К нему тут же подскочил извозчик: старик в армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи:
– Вам куды, барин?
– Кокоревская гостиница, – неуверенно ответил Петр Ильич.
Старик не внушал особого доверия. Как и его пузатая мохнатая лошаденка, запряженная в пошевни14. С другой стороны, извозчик поприличнее ему наверняка не по карману.
– Забирайтесь. Прокачу с ветерком! – старик лихо запрыгнул на свою дощечку, приглашая пассажира устраиваться. – Всего за двадцать копеек.
Вздохнув – для него и этого было немалым расходом, – Петр Ильич забрался в сани.
На следующий день он с утра отправился к Рубинштейну на Моховую. Николай Григорьевич принял его с распростертыми объятиями и тут же велел перебираться жить к нему. Как Петр Ильич не отнекивался и не говорил, что это неудобно и что он сам может о себе позаботиться, Рубинштейн не желал ничего слушать. В итоге он сам не заметил, как согласился и обещал завтра же переехать. С одной стороны, он чувствовал смущение от того, что стесняет человека, но с другой – был глубоко благодарен за заботу: ведь средств на гостиницу ему хватило бы ненадолго. Квартира Рубинштейна была удобна и тем, что Музыкальные классы располагались в том же здании.
В любом случае, противоречить Николаю Григорьевичу было совершенно невозможно: нечто сильное и жесткое в нем невольно подчиняло всех окружающих. Хотя Петр Ильич был младше всего на пять лет, из-за властности Рубинштейна разница казалась гораздо больше.
Петр Ильич занял небольшую комнатку рядом со спальней хозяина. Разделены они были тончайшей перегородкой, и это заставляло бояться, что скрипом пера он помешает соседу спать. А с другой стороны – какой у него был выбор?
Рубинштейн сразу же провел младшему коллеге небольшую экскурсию по зданию Музыкальных классов, после чего привел в свой кабинет. Там в удобных креслах расположились двое мужчин, сосредоточенно изучавших какие-то бумаги.
– Господа, наш новый профессор композиции Петр Ильич Чайковский. Прошу любить и жаловать, – представил его Николай Григорьевич.
– Карл Карлович Альбрехт, – мужчина с небольшой бородкой и в пенсне поднялся и протянул руку. – Профессор теории и хорового пения.
Пожимая его ладонь, Петр Ильич присмотрелся к коллеге: добродушное выражение лица, приветливый взгляд темных глаз – он сразу внушал симпатию.
– Петр Иванович Юргенсон, – продолжил представления Николай Григорьевич. – Владелец ното-издательской фирмы.
Второй мужчина – с серыми глазами и зачесанными назад темно-русыми волосами – в свою очередь встал, приветствуя Петра Ильича. Если Альбрехт казался простым и даже свойским, то Юргенсон производил впечатление человека значимого, делового. Хитро прищурившись, Рубинштейн добавил:
– Петр Иванович, возьмите на заметку этого молодого человека: уверен, в скором времени он принесет доход вашей фирме.
Юргенсон едва заметно улыбнулся, внимательнее приглядываясь к новому знакомому. Петр Ильич даже немного смутился. Однако, несмотря на важный вид, Юргенсон сразу ему понравился. К тому же иметь в знакомых и – кто знает? – может, даже в друзьях владельца издательской фирмы – это весьма неплохое начало. Николай Григорьевич явно старался завязать для своего протеже нужные знакомства, за что Петр Ильич был ему безмерно благодарен.
Более того, зная, насколько он ограничен в средствах, Николай Григорьевич устроил его к Альбрехту пансионером на завтраки и обеды. Таким образом, Петр Ильич быстро стал у него домашним человеком, подружился с его женой – милой гостеприимной женщиной – и детьми. Детей он вообще любил и относился к ним с умилением.
На следующий день знакомства продолжились. На этот раз Рубинштейн привел прямо в квартиру высокого молодого человека с неправильными, но симпатичными чертами чисто русского лица.
– Николай Дмитриевич Кашкин, – представился он, приветливо улыбаясь. – Я так много о вас слышал, Петр Ильич, и счастлив познакомиться, наконец, лично.
– Взаимно, – искренне ответил тот, пожимая ему руку.
Зная друг друга заочно через посредство Лароша, они встретились совершенно как старые товарищи. Николай Дмитриевич тут же предложил вместе пообедать, и за обедом они разговорились, точно были знакомы много лет. Петр Ильич редко ощущал себя настолько свободно с новыми людьми – обычно они вызывали у него робость, и он рта не мог раскрыть в их присутствии. Чувствовавший себя в чуждой Москве, как в огромной голой степи – безлюдной, угрюмой и холодной – он обрел в Кашкине поистине своего человека.
Очень быстро Петр Ильич понял, что зря боялся побеспокоить Николая Григорьевича ночными бдениями: зачастую Рубинштейн появлялся дома только под утро. Чуть ли не каждую ночь он играл в Английском клубе; отдохнув пару часов, уходил в классы на уроки, а потом весь день занимался административными делами и бесконечными визитами: Николай Григорьевич поддерживал знакомство со всей Москвой – великосветской, административной, коммерческой, литературной, ученой и художественной. Он был одним из местных тузов и регулярно приглашался на всякого рода общественные торжества. А ведь оставалась еще проверка работ учеников, концерты и подготовка к ним. Как можно существовать в таком бешеном ритме и быть таким бодрым и полным сил, Петр Ильич просто непостигал.
***
Начала занятий Петр Ильич ждал с ужасом: как он будет стоять перед толпой учеников или – еще хуже – учениц и пытаться им что-то объяснить?
И вот состоялась пробная лекция. Петр Ильич страшно волновался, входя в класс. А при виде количества студентов, среди которых было множество хорошеньких девиц, смутился окончательно. Ему понадобились колоссальные усилия воли, чтобы провести урок. Торопливой походкой, сложив руки за спиной в попытке унять дрожь, вошел он в аудиторию, сконфуженный и оттого слегка раздраженный. Дабы совсем не впасть в панику, Петр Ильич наклонил голову, глядя сосредоточенно прямо перед собой и стараясь не смотреть на учеников.
Однако он зря волновался. Двадцатишестилетний профессор – симпатичный, с глубоким выразительным взглядом, с пышными небрежно зачесанными волосами, с недавно отпущенной русой бородкой, бедновато небрежно одетый – ученикам понравился. Видя их полное внимание, Петр Ильич начал медленно и внятно диктовать, расхаживая по классу, заложив руки за спиной и слегка наклонившись вперед. Постепенно, когда он увлекся изложением предмета, волнение отступило. Он старался излагать ясно, сжато и понятно, а различные правила иллюстрировал ссылками на Моцарта и Глинку.
Увы, многое оставляло желать лучшего. Теоретический класс представлял собой жалкое зрелище: старые парты, отвратительно звучавший разбитый желтый рояль, черная с красными линиями доска. Быстро выяснилось и поверхностное отношение к искусству большинства учениц, мечтавших об эстраде и уверенных в том, что публика, аплодирующая их игре, не будет интересоваться их теоретическими познаниями. Приходилось постоянно сдерживаться, чтобы оставаться вежливым и деликатным с ними.
Кроме того, по теоретическим предметам почти не существовало учебных пособий. И Петр Ильич со всем жаром молодости принялся разрабатывать собственный «Учебник гармонии», которым впоследствии пользовались его ученики. Не удовлетворившись этим, он взялся переводить «Руководство к инструментовке» Геварта, «Музыкальный катехизис» Лобе и «Жизненные правила и советы молодым музыкантам» Роберта Шумана.
Немногие оставшиеся часы уходили на инструментовку сочиненной летом увертюры. Петр Ильич почти безвылазно сидел дома за исключением тех случаев, когда Николай Григорьевич насильно вытаскивал своего протеже в гости или в театры. Последние произвели на него двойственное впечатление: опера глубоко разочаровала, особенно в сравнении с петербургской, зато драматический театр доставил настоящее артистическое наслаждение. Рубинштейн, привыкший вести рассеянный образ жизни, не мог надивиться усидчивости коллеги и при каждом удобном случае стремился его отвлечь от работы:
– Нельзя же без конца трудиться, надо и отдыхать когда-то!
Раз вечером Николай Григорьевич, не обращая внимания на робкие протесты, повел его к своему приятелю Тарновскому, занимавшему просторную квартиру по соседству. Высокий, толстый, совершенно седой усач сорока лет встретил гостей с бурным радушием. Он долго тряс руку Петра Ильича, задавал бесконечные вопросы, прошедшие мимо его сознания, наконец, представил жене, сыну и двум племянницам. Когда прошла первая робость, и Петр Ильич освоился в новой среде, первое, что его поразило – необычайная красота обеих девушек. Особенно же ему понравилась Елизавета Михайловна.
Он начал наносить визиты Тарновским уже по собственной инициативе, в надежде увидеть ее. Домашние называли Елизавету Михайловну забавным прозвищем Муфка, и Петр Ильич был всецело занят мыслью, как бы достичь того, чтобы и ему иметь честь называть ее этим именем. Немедленно заметив его увлечение, Николай Григорьевич принялся его дразнить и подталкивать молодых людей друг к другу, что вызывало досаду и раздражение.
Визиты прекратились, когда Тарновские поссорились с Рубинштейном, и из солидарности с ним Петр Ильич разорвал с ними все отношения. Прекрасная Муфка осталась возвышенной мечтой, так и не ставшей реальностью.
Рубинштейн же ввел его в Коммерческий клуб, в котором Петра Ильича больше всего привлекала превосходная библиотека. Он набирал там множество книг и наслаждался чтением. С особенным удовольствием читал Диккенса, в котором находил много общего с Гоголем: та же непосредственность и неподдельность комизма, то же умение двумя малейшими чертами изобразить целый характер. И всё же Диккенс не обладал гоголевской глубиной.
Жалование за первый месяц полностью ушло на новый костюм, поскольку Николай Григорьевич безапелляционно заявил, что платье Петра Ильича не подобает профессору.
***
Несмотря на множество новых знакомств и полное отсутствие свободного времени, Петр Ильич тосковал по близким, особенно по близнецам. Он не мог перестать думать о том, как они влились в училищную жизнь после праздников. И ему всё казалось, что Модя, уткнувшись в одеяло, проливал тайные слезы, и очень хотелось утешить его бедного. Модя вообще сильно его беспокоил: учился он хуже Толи и, кажется, совершенно не был заинтересован ни в учебе, ни в будущей карьере. Петр Ильич писал ему, чтобы брал пример с брата, учился и водил дружбу только с порядочными товарищами. Впрочем, и с Толей были проблемы: тот воображал себя непризнанным гением и страдал от обыденности и серости своей жизни. Старший брат пытался убедить его, чтобы не стремился к славе, а просто старался стать хорошим человеком.
Единственным утешением была жажда к работе. К сожалению, увертюра выходила непомерно длина, чего Петр Ильич никак не ожидал и теперь не знал, что делать. Тем не менее, закончив оркестровку, он показал ее Николаю Григорьевичу. Тот работы не одобрил, заявив, что увертюра неудобна для исполнения в симфоническом собрании Русского музыкального общества. А ведь прежде торопил с оркестровкой, собираясь включить увертюру в концерт!
Потерпев неудачу в Москве, Петр Ильич послал свое сочинение в Петербург Антону Григорьевичу. Но и там его забраковали. Задетое артистическое самолюбие позже согласилось с мнением старших товарищей, и он стал считать эту увертюру страшной гадостью.
Уроки пошли гораздо успешнее – первоначальная робость начала отступать, и Петр Ильич даже замечал, что пользуется сочувствием своих учениц. Глупые ошибки и небрежность по-прежнему сильно злили его, но он старался не срывать раздражение на учениках, только хмурился и недовольно смотрел на них. Однако порой терпения не хватало. Когда одна из учениц без тени сомнения сдала ему работу, в которой у восьмушек хвостики были прописаны с другой стороны, Петр Ильич просто перечеркнул всю страницу красным карандашом и сердито заметил:
– Вам раньше надо пройти науку о хвостах, а потом уж по гармонии решать задачи!
Девушка заметно обиделась. Ну, о чем можно говорить с человеком, который оформить свою работу правильно не может, да еще и обижается при этом! Думают – это мелочи, не хотят понимать, что именно из мелочей состоит великое.
Помимо занятий с учениками, Петр Ильич участвовал в составлении программ по теоретическим предметам и в административной работе. В тот год постоянно проходили комитеты и прения по поводу консерватории, которая открывалась в сентябре. Петр Ильич стал одним из составителей устава и написал огромную инструкцию инспектора, которую приняли без изменений.
Николай Григорьевич, по-прежнему заботившийся обо всех сторонах жизни своего коллеги, привел его в Артистический кружок: центр, в котором собирались писатели, артисты Малого театра, музыканты и вообще люди, интересовавшиеся искусством и литературой. Находился он на Тверском бульваре в величественном белом здании с колоннами.
Собрания кружка не имели определенной программы, но почти всякий день устраивалось что-нибудь интересное. Нередко проводились чтения новых литературных произведений, музыкальные вечера. В числе посетителей бывало много дам, для которых организовывались танцы, причем в роли тапера выступали все пианисты, начиная с Рубинштейна.
Там Петр Ильич познакомился с Александром Николаевичем Островским, творчеством которого давно восхищался, и Алексеем Николаевичем Плещеевым. С обоими литераторами сразу завязались дружеские отношения.
***
На весенних каникулах Петр Ильич ездил в Петербург повидать отца и близнецов. На обратном пути в поезде во время остановки, когда пассажиры пили чай, получили известие о покушении Караказова на государя. Оно дошло в неясном виде, и все вообразили, что император умер. Одна из попутчиц по этому поводу проливала слезы, другая – восхваляла качества нового государя. И только в Москве Петр Ильич смог узнать всё точно.
По этому поводу в Первопрестольной творилось нечто невообразимое. В Большом театре, где давали «Жизнь за царя», во время спектакля, как только на сцене появлялись поляки, весь театр вопил:
– Долой! Долой! Долой поляков!
А в последней сцене, где поляки должны были убить Сусанина, Демидов, исполнявший эту роль, начал драться с хористами-поляками. Будучи силен, он многих повалил, а остальные, видя, что публика относится к происходящему с одобрением, попадали. Торжествующий Сусанин удалился невредимым, грозно махая руками, при оглушительных рукоплесканиях. В конце на сцену вынесли портрет государя и началась невероятная кутерьма. И всё из-за того, что в покушении на императора подозревали поляка.
После свидания с родными тоска по ним проснулась с новой силой. С лихорадочным нетерпением ожидал Петр Ильич лета, когда собирался поехать к сестре в Каменку, то и дело подсчитывая дни и часы.
Весной он начал работать над своим первым крупным произведением – симфонией «Зимние грезы», но работа шла вяло. Много времени уходило на уроки, посещение Артистического клуба, визиты к знакомым. Нервы расстроились донельзя, и даже стали посещать мысли о скорой смерти и страх, что он не успеет закончить симфонии. От переутомления нарушился сон, и начались ударики – когда всё тело словно немело. Как обетованного рая ждал Петр Ильич лета, надеясь отдохнуть в Каменке, забыть все неудачи и поправить здоровье.
Однако планам не суждено было сбыться из-за проблем с дорогой, и вместо этого Петр Ильич приехал в Петербург. Зря потратившись на билет до Каменки, он остался почти без денег. С вокзала он сразу пошел к тете Лизе, но ее квартира оказалась переполненной, ночевать у нее не представлялось возможным. В лицах, готовых приютить его, недостатка не было, но полностью отдавшись радости свидания с братьями, Петр Ильич не заметил, как прошло время до вечера. А расставшись с ними, постеснялся беспокоить кого-либо на ночь глядя. Денег на гостиницу не было, и всю ночь он провел, гуляя по улицам и сидя на скамейке Адмиралтейского бульвара.
Несколько дней спустя пришло приглашение от Александры Ивановны Давыдовой провести с ее семейством лето на даче под Петергофом. Отправив все-таки Толю к сестре, Петр Ильич принял любезное приглашение и вместе с Модей на все лето поселился у Давыдовых. Неподалеку от них жил отец, и частые свидания с ним прибавляли прелести летней жизни.
В окрестностях Петру Ильичу особенно нравилась Сергиевская пустынь, куда он с удовольствием ходил по субботам ко всенощной, а в воскресенье – на литургию.
На даче он усиленно работал над симфонией и потому днем предпочитал гулять в одиночестве, не беря с собой даже Модеста, что сильно обижало последнего. Но Петру Ильичу необходимо было одиночество – во время прогулок он обдумывал темы симфонии. Живописная природа, с детства звучащая для него разнообразными мелодиями, подталкивала творческую мысль, помогала преодолеть трудности. А вот общество, даже самого близкого человека, только помешало бы. Так что с семьей Петр Ильич виделся лишь по вечерам, зато тогда уж полностью отдавался в их распоряжение. Они совершали экскурсии пешком в ближние леса, на экипаже – в Стрельну, Михайловское, Знаменское и Петергоф. Когда все собирались в гостиной, он играл на рояле. С особенным удовольствием он исполнял «Рай и Пери» Шумана, каждый раз требуя особенного внимания, когда наступало появление героя перед грозным властителем.
– Выше этого ничего не знаю в музыке! – неизменно утверждал Петр Ильич.
Несмотря на усидчивость и рвение, работа над симфонией продвигалась тяжело: сказывались неопытность и непривычка к композиторским приемам. Петр Ильич работал по ночам, когда все расходились спать, стремясь как можно быстрее закончить. Изнуряющий труд убивал сон, а бессонные ночи парализовали энергию и творческие силы. Получался замкнутый круг, от которого нервы пришли в крайнее расстройство. Его начали преследовать галлюцинации, находил ужасающий страх чего-то и чувствовалось полное омертвение всех конечностей.
Перепуганные родственники немедленно вызвали доктора, который посчитал его положение почти отчаянным.
– Вы на шаг от безумия, – мрачно объявил врач свой вердикт.
Он предписал полный покой, никаких ночных бдений, и через несколько дней Петр Ильич пришел в себя. Боязнь повторения болезни на всю жизнь отучила его от ночной работы. Сочинение пошло еще медленнее, и закончить симфонию за лето, как он надеялся, не удалось.
Воспользовавшись визитом Лели Апухтина, Петр Ильич вместе с ним посетил Валаам, чтобы отдохнуть и развеяться. Долгое путешествие, дикая суровая красота природы, сам монастырь произвели на него глубокое поэтическое впечатление.
На следующий день после приезда друзей произошло волнующее событие с послушником Кириллом. Он был единственным сыном богатого сибирского купца. Как выяснилось, из дома он сбежал, оставив письмо, что уходит в монастырь. Кирилл быстро завоевал любовь всей братии своей кротостью и глубокой верой.
Однако родители не смирились с исчезновением сына, бросились его искать, и вот, спустя семь месяцев, прибыли на Валаам. После обедни, на которой они увидели сына, отец бросился на колени, заклиная его вернуться домой. На шум собрались братия и паломники. Игумен пытался убедить отца, что его сын выбрал благой путь, впрочем, оставив право решения самому Кириллу. Вдруг зарыдала мать и тоже упала к ногам сына. Послушник, всё это время стоявший молча, бледнел с каждой минутой, при виде слез матери тоже заплакал, опустился рядом, крепко обняв родителей. Но остался в монастыре.
Эта душераздирающая сцена сильно взволновала Петра Ильича, оставив в его душе глубокий след.
***
Перед отъездом в Москву Петр Ильич решил показать принесшую ему столько мучений симфонию своим учителям – Рубинштейну и Зарембе. Он надеялся, что они поддержат его и симфония будет исполнена в одном из собраний Русского музыкального общества в Петербурге. Однако его ждало страшное разочарование: симфония подверглась строгой и даже жесткой критике. Причем наибольшее неодобрение вызвали именно те места, которые самому Петру Ильичу нравились. Как ни велика была обида и горькое недоумение, он преклонился перед авторитетом профессоров и уехал в Москву, собираясь переделать симфонию.
Возвращение неожиданно принесло много радости. Петр Ильич и не подозревал, что успел так соскучиться по своим новым друзьям, к которым добавился перебравшийся сюда из Петербурга Герман Ларош.
С открытием консерватории жалование Петра Ильича увеличилось вдвое. Ему, неизбалованному в финансовом отношении, сто рублей в месяц казались настоящим богатством. Они с Рубинштейном переселились в здание консерватории – устроились во флигеле, сообщавшемся с классами внутренним ходом. Таким образом, не приходилось даже выходить на улицу, чтобы пойти на уроки. Столовался Петр Ильич, как и в прошлом году, у Альбрехта – и дешево, и вкусно. Жизнь наладилась и стабилизовалась.
Открытие консерватории, состоявшееся первого сентября, сопровождалось большими торжествами. После молебна в присутствии многих высоких гостей в зале нового помещения устроили обед, за которым говорилось множество речей. Выступил и Петр Ильич, преодолев свою обычную робость. Пожелав новорожденной консерватории тех же высот, каких успела достичь петербургская, он предложил тост за Антона Григорьевича Рубинштейна. Его речь всем понравилась, и тост был радостно поддержан.
Когда же дело дошло до музыки, Петр Ильич высказал предложение, что первым в новой консерватории должен прозвучать Глинка – величайший русский гений. А потому сам сыграл увертюру из «Руслана и Людмилы», что тоже было воспринято всеми присутствующими благосклонно. Затем начали играть других композиторов, празднество затянулось до поздней ночи.
Занятия в консерватории предстояли нетрудные: всего восемь учеников и учениц в начальном классе. Старших классов пока не было, и количество недельных часов не превышало двадцати, что оставляло достаточно времени для сочинения. Почти сразу же по приезде в Москву Петр Ильич принялся за увертюру на датский гимн, которую заказал ему Рубинштейн по случаю бракосочетания наследника престола с датской принцессой Дагмарой. Увертюра должна была исполняться при посещении новобрачными Москвы.
Условий для работы на квартире Рубинштейна не было никаких: в ней собирались все консерваторские профессора, да и прочих посетителей хватало. Все они, не церемонясь, заглядывали к Петру Ильичу, постоянно отвлекая от работы. Поэтому он уходил из квартиры, предпочитая сочинять в трактирах, где днем бывало почти пусто и его никто не трогал. Особенно его любовью пользовался трактир «Великобритания» на Неглинной. Работал Петр Ильич столь усердно, что закончил увертюру раньше назначенного срока. В благодарность за посвящение наследник пожаловал его золотыми запонками с бирюзой.
Свободное время Петр Ильич чаще всего проводил у Кашкина, который недавно женился, и его дом стал одним из любимейших мест сбора профессоров консерватории. Молодая хозяйка удивительно умела создавать теплую непринужденную атмосферу. Сидели до восьми утра, когда горничная приносила самовар, и после прощального стакана расходились. В московской музыкальной среде Николая Дмитриевича ценили как критика: показать ему рукописную партитуру или рукописную критическую статью было для всех такой же потребностью, как советоваться с ним в частных житейских делах.
Близко Петр Ильич сошелся и с Юргенсоном, который начал издавать его первые произведения. Издателя и композитора скоро связала теплая дружба, и последний стал своим человеком в семье Петра Ивановича, подружился с его детьми и женой Софьей Ивановной.
Расширились дружеские связи среди профессоров консерватории и околомузыкального мира. Одним из самых значительных знакомств стала встреча с Владимиром Петровичем Бегичевым – начальником репертуара Московских императорских театров. Знаменитый красавец и герой романтической хроники города, он пользовался огромной популярностью. Его жена – Мария Васильевна Шиловская – имела славу превосходной салонной певицы. В их семью Петр Ильич попал по рекомендации Николая Григорьевича в качестве учителя музыки для Владимира – сына Марии Васильевны от первого брака. Четырнадцатилетний мальчик, слабый и болезненный, и потому сильно избалованный, был одарен феноменальными способностями к музыке.
Закончив увертюру, Петр Ильич тут же принялся за переделку симфонии: несмотря на обиду, мнение петербургских учителей оставалось важным для него. Однако и после переделки Петербург симфонию забраковал. Достойными исполнения были признаны только анданте и скерцо. Их успех был ниже среднего. Публика аплодировала, но автора не вызывала, а это для одного из первых появлений имени на афише равносильно провалу.
После столь холодного приема обида на учителей возросла, и Петр Ильич перестал добиваться признания своего таланта в Петербурге. Из почтительного ученика, робко представляющего на суд учителей свои произведения, он резко перешел к роли человека, перед которым они должны заискивать.
Былую любовь к Петербургу охлаждало и появление там кружка молодых музыкантов, руководимого Милием Алексеевичем Балакиревым. Их самоуверенное ниспровержение всех кумиров – Гайдна, Моцарта, Генделя, – война, которую они вели с консерваторией, вызывали у Петра Ильича неприязнь. А поскольку Могучая кучка, как они себя именовали, завоевывала все большее общественное внимание, свое отношение к ним он перенес на весь Петербург.
В Москве же у него появилось множество друзей. Здесь твердо верили в его артистическую будущность. И любовь к этому городу, поначалу вызвавшему отторжение, становилась все более пылкой.
***
Едва закончив одну работу, Петр Ильич принялся думать о следующей. Ему давно хотелось написать оперу, но долгое время он колебался в выборе сюжета. Наконец, становившееся всё более дружеским общение с Островским натолкнуло его на мысль. Поколебавшись, Петр Ильич решился на очередном заседании Артистического кружка высказать драматургу свое предложение:
– Александр Николаевич, я давно думаю о том, чтобы сочинить оперу. И мне хотелось бы взять сюжетом вашу «Грозу». Не согласились бы вы написать для меня либретто?
– Понимаете, Петр Ильич, – медленно и задумчиво ответил тот, – я был бы только рад сотрудничеству с вами, но «Гроза»… Как раз сейчас Кашперский работает над оперой на этот сюжет. Думаю, ни мне, ни вам было бы неинтересно повторять одно и то же, – Александр Николаевич помолчал и решительно заключил: – А знаете, мы можем взять «Сон на Волге». По-моему, неплохой сюжет для оперы, а?
Как ни жаль было Петру Ильичу расставаться со столь любимым сюжетом, он вынужден был признать правоту Островского и согласиться.
Работа над оперой, озаглавленной «Воевода», началась весной, когда Островский дал Петру Ильичу первую часть либретто. Совершенно неопытный в этом жанре, он долго работал над своей первой оперой: до июня успел закончить лишь первый акт. И тут – о, ужас! – он ухитрился потерять либретто. Как это могло случиться, он сам не мог понять. Но что делать – пришлось просить Александра Николаевича восстанавливать утерянный текст, что, конечно же, было встречено с недовольством. Черновиков тот не хранил, и ему пришлось заново писать значительную часть первых актов.
Так и не дождавшись либретто, Петр Ильич уехал на лето в Финляндию, взяв с собой Толю, а Модю отправив в Гапсал, где устроилась семья Давыдовых. Имея в кармане всего сто рублей, но совершенно не сомневаясь в том, что этих денег хватит на поездку, Петр Ильич с Толей не только жили в Выборге, ничем себя не стесняя, но и через несколько дней решили отправиться на Иматру. И вот тут-то они с ужасом обнаружили, что деньги закончились, и их едва хватает возвращение Петербург. О том, чтобы провести остаток лета в Выборге, не могло быть и речи.
Братья утешились тем, что в Петербурге всегда можно найти знакомых и родственников, которые помогут, и с первым пароходом отправились на родину. Увы, в столице их ждало горькое разочарование: все разъехались на лето кто куда, Петербург опустел, приютить их было некому.
На последние рубли, которых едва хватило на третий класс парохода «Константин», они поплыли в Гапсал, где обреталась семья Давыдовых. Несмотря на лето, ночи стояли невероятно холодные, а ехать в третьем классе означало круглые сутки находиться на палубе, без права входить в общую каюту. Как нарочно, теплой одежды у братьев с собой не было. Петр Ильич ужасно страдал и упрекал себя за непредусмотрительность и непрактичность, из-за которой младший брат, полностью полагавшийся на него, был вынужден существовать в таких условиях. К счастью, вместе с ними ехал Кун – преподаватель французского языка в Училище правоведения, и Петр Ильич выпросил у него на ночь теплый плед, которым и укрыл Анатолия. Тот сопротивлялся, уговаривал и даже требовал, чтобы брат взял плед себе, но тот остался непреклонен в этом вопросе. Обеспечив Толю хоть каким-то удобством, он немного успокоил угрызения совести. И дал себе зарок, что впредь не будет столь опрометчиво поступать.
Гапсал встретил их гостеприимно: несчастных скитальцев поселили в домике бедной вдовы, неподалеку от того дома, который занимала Александра Ивановна с дочерями, обласкали и утешили. Больше всех обрадовался Модест, успевший соскучиться по братьям. Он с криком бросился им в объятия, едва завидев.
На троих они занимали две комнаты, а поскольку денег катастрофически не хватало, еда бралась на две персоны. Каждый обед начинался с дележа – распределения порций поровну. Петр Ильич, как старший обремененный этой миссией, под хохот близнецов пытался разделить на три равные части две половинки цыпленка.
К помощи Давыдовых прибегать не хотелось, ведь они сами брали обед из столовой порционно, и гордость мешала Петру Ильичу становиться нахлебником. Но добрейшие барышни, прекрасно знавшие бедственное положение братьев, пускались на всяческие ухищрения, чтобы накормить их: выдумывали ужины «собственного» приготовления, поездки в лес с едой…
Всё лето Петр Ильич усиленно работал над «Воеводой» – несмотря на плачевное финансовое положение, ясное и мирное настроение не оставляло его. Присутствие рядом любимых братьев, приятное общество Давыдовых, красивая природа и тишина окрестностей – всё это перевешивало неприятные стороны.
Некоторое время спустя прислала денег Саша, да и из Москвы пришла значительная сумма, и пребывание в Гапсале стало совсем чудесным. Опера, правда, по-прежнему продвигалась страшно медленно, не в последнюю очередь из-за проблем с потерянным либретто. К середине июня Островский прислал лишь восстановленный первый акт. Но музыку этого акта Петр Ильич уже написал и нуждался в продолжении. А его-то всё не было. Вынужденный бездельничать, он взялся за другую работу – его впечатления о безмятежном лете нашли отражения в трех фортепианных пьесах «Воспоминание о Гапсале».
Безоблачное существование вскоре нарушили бесконечные знакомства, раздражавшие Петра Ильича, тяготившегося обществом чужих людей. Смущало и постоянное общество Веры Васильевны, которая всерьез им увлеклась. Не отвечая ей взаимностью и не желая ранить сердце девушки, которую он глубоко уважал, Петр Ильич надеялся, что его отрицательные черты, ежедневно наблюдаемые, скорее охладят ее влюбленность, чем его отсутствие, когда можно воображать себе идеальный образ. Он прекрасно осознавал свои недостатки, замечая за собой раздражительность, беспорядочность, трусость, мелочность, самолюбие и многое другое.
Однако Веру Васильевну ничто не смущало: она часто с удовольствием приходила поболтать с ним и, воображая свое будущее, они сходились на том, что хотели бы провести старость в отдаленном хуторке, вдали от шумных городов. Неизвестно, что имела при этом в виду Вера Васильевна, а Петр Ильич мечтал когда-нибудь поселиться рядом с сестрой. Жениться, становиться во главе семейства, нести ответственность за жену и детей казалось ему слишком утомительным, слишком много времени отнимающим от музыки. А с другой стороны, хотелось порой жить в семье. И в этом отношении дом сестры представлялся идеальным вариантом.
Глава 8. Желанная
Только в сентябре Петр Ильич смог приняться за второй акт оперы. Одновременно он занялся благоустройством своей комнаты, чтобы иметь возможность с удовольствием сидеть дома и прилежно работать. Однако вскоре Островский надолго уехал в Петербург, и дело снова застопорилось. Помучившись в ожидании, Петр Ильич, никогда не отличавшийся терпением и не любивший сидеть без дела, охладел к сюжету и бросил работу.
Модест начал сильно его беспокоить: целиком отдаваясь светским удовольствиям, совершенно забывая об учебе, он стал легкомыслен и расточителен не по средствам. Иногда Петру Ильичу казалось, что это его вина: он сам избаловал близнецов готовностью всегда дать денег, купить чего те ни попросят, вот они и привыкли жить беззаботно, не задумываясь о будущем. Пытаясь образумить брата, Петр Ильич буквально умолял его в письмах: «Ради Бога, подумай о себе и о своей будущности».
Забыть о заброшенной опере Петру Ильичу не дали. В начале ноября к нему обратилась артистка Большого театра Меньшикова с просьбой предоставить ей новую оперу для бенефиса. Пришлось скрепя сердце вернуться к «Воеводе», и, чтобы не дожидаться Островского, сотрудничество с которым не складывалось, он взялся писать либретто сам.
Еще до завершения оперы в декабре были исполнены «Танцы сенных девушек» из нее. Ничего хорошего от этого исполнения Петр Ильич не ожидал, и тем большими были его удивление и восторг при виде огромного успеха. Юргенсон даже решил напечатать их.
В эти дни Петру Ильичу впервые посчастливилось встретиться с прославленным композитором: в Москву приезжал Берлиоз. Он дирижировал своими произведениями два раза, и в его честь в консерватории устроили обед. Старый, больной человек – согнувшаяся фигура, полузакрытые глаза, болезненное выражение лица – вызывал у Петра Ильича острую жалость. И хотя ему не особенно понравилась музыка Берлиоза, к человеку он отнесся с большой симпатией и даже произнес на обеде тронувшую всех речь.
***
Всё более популярным становился Петр Ильич в музыкальной среде Москвы. Бальзамом на сердце автора стало исполнение в феврале симфонии, столь сурово принятой в прошлом году в Петербурге. Бурные аплодисменты, многочисленные вызовы превзошли все его ожидания. Публика была в восторге. Стесняясь, он неловко и неизящно выходил на поклоны, нервно теребя в руках шапку. Как ни рад он был успеху тяжело давшейся ему симфонии, от поклонов Петр Ильич с удовольствием отказался бы: выходить на сцену всегда было для него пыткой. Однако долг благодарности публике требовал пересилить себя. Его артистическое самолюбие было удовлетворено, и Москва окончательно заняла в его сердце главное место, потеснив холодный Петербург.
Окрыленный успехом, Петр Ильич решился на повторение дирижерского опыта, к которому со времен петербургской консерватории не возвращался. На самом деле, он предпочел бы не возвращаться и сейчас, но его очень просили, и отказаться никак было нельзя. Дирижировать предстояло «Танцами сенных девушек» на концерте в пользу голодающих.
К собственному удивлению, ожидая за кулисами начала концерта, Петр Ильич не испытывал ни малейшего страха. О чем и сообщил Кашкину, зашедшему его проведать и справиться о самочувствии. Они немного поболтали, весело и непринужденно, после чего Николай Дмитриевич ушел на свое место в партер. Тут-то и началось самое страшное. Стоило выйти на сцену, как Петра Ильича охватил такой ужас, что ему захотелось сделаться невидимкой, и он инстинктивно пригибался, идя к капельмейстерскому месту. Понимал, что со стороны это выглядит глупо и некрасиво, но ничего не мог с собой поделать. А уж когда он открыл партитуру, его затрясло, перед глазами поплыло, он не видел нот, не помнил собственного сочинения и подавал знаки вступления совершенно не там, где надо. К нему вернулась прежняя фобия: будто у него падает голова, и все силы уходили на то, чтобы удержать ее.
К счастью, музыканты произведение знали прекрасно и не обращали внимания на несчастного дирижера, только слегка посмеивались. Концерт прошел благополучно, публика ничего не заметила и несколько раз вызывала автора.
– Больше никогда в жизни не возьму в руки дирижерской палочки! – убежденно заявил Петр Ильич Кашкину, как только пришел в себя после этого кошмарного выступления.
Отдышавшись, он даже смог получить удовольствие от остальной части концерта, на которой присутствовал уже как зритель. Особенно очаровала его «Сербская фантазия» Римского-Корсакова, заставив пересмотреть мнение о представителях Могучей кучки. К тому же незадолго до этого он получил письмо от Балакирева, лестно отозвавшегося о его «Танцах», что тоже рассеяло былое предубеждение.
Зато московская критика встретила Римского-Корсакова враждебно. «Сербскую фантазию» назвали бесцветной. Петр Ильич с пылом бросился защищать без сомнения замечательное произведение. Его статья в «Современной летописи» вызвала восхищение московских журналистов и горячую благодарность представителей Могучей кучки, расположив их к прежде не слишком любимому музыканту. И, когда на Пасху Петр Ильич приезжал в Петербург в гости к отцу, они встретили его с восторгом. Балакирев пригласил его на квартиру Даргомыжского, которого они считали своим учителем и примером для подражания, чтобы познакомиться с остальными членами кружка. В то время Даргомыжский был прикован к постели смертельной болезнью, и они часто собирались у него, чтобы прослушать то, что он успел написать (он работал над «Каменным гостем»), и показать ему свои сочинения.
Вопреки тяжелой болезни Даргомыжский оставался бодр, весел, доброжелателен со своими молодыми почитателями. К Петру Ильичу он отнесся с той же теплотой, что не могло не завоевать симпатии последнего. Он по-прежнему не одобрял многих мнений и методов кучкистов и, признавая их таланты, отказывался видеть шедевры во всяких любительских экстравагантностях. Петербуржцы продолжали презирать его консерваторское образование, восхищаясь отдельными произведениями. И всё же между ними завязались дружеские отношения.
***
В мае в Москву с гастролями приехала итальянская труппа. Петр Ильич, с детства любивший итальянскую оперу, пошел посмотреть спектакль, но был глубоко разочарован. Пели ужасно, играли и того хуже. Единственным исключением являлась прима – Дезире Арто. Зато каким исключением! Певицу нельзя было назвать красивой, скорее наоборот —полноватая, с неправильными чертами лица. Но какой у нее был голос! Сопрано с прекрасным низким регистром, дававшим возможность исполнять многие меццосопранные партии – сильный, драматический голос. Она ослепляла фейерверком трелей и гамм. Тембр ее дышал невыразимой прелестью, звучал негой и страстью. Но не только талант певицы завораживал в Арто – не менее талантливой она была актрисой: она полностью сживалась со сценой, обладая редкой пластикой и грацией движений.
Забыв обо всем, на протяжении спектакля Петр Ильич сидел, как завороженный, не отрывая восхищенного взгляда от Арто. Как же удивительно подходило ей ее имя!15
Он стал ходить на каждый спектакль, в котором Дезире участвовала, и с каждым разом открывал всё больше прелестей в ее пении и игре. Страшно хотелось с певицей познакомиться, но он не решался из-за своей вечной стеснительности. Лишь однажды посчастливилось увидеть ее вблизи – на ужине после ее бенефиса. Однако подойти он так и не осмелился. А вскоре Дезире уехала вместе со своей труппой. И Петр Ильич с нетерпением ждал их возвращения осенью.
На каникулах ему предложили путешествие за границу в компании ученика Владимира Шиловского. Он долго колебался: хотелось лето провести в семье сестры – с людьми по-настоящему близкими и любимыми. Но… предложение Бегичева было столь выгодным… а средств у Петра Ильича, как всегда, не хватало… Скрепя сердце он все-таки поехал за границу, расставшись с мечтой повидать Александру.
Путешественники посетили несколько городов, когда Владимир тяжело заболел, и им пришлось надолго осесть в Париже. Петр Ильич воспользовался этим, чтобы всецело погрузиться в работу, и из своей «норы» лишь изредка выбирался в театр. В Париже он и закончил партитуру «Воеводы».
Новый учебный год начался тяжело. За лето Петр Ильич совершенно отвык от уроков и стояния перед множеством учеников. В какой-то момент в голове помутилось, и его охватил такой ужас, что, пробормотав нечто невразумительное в свое оправдание, он поспешно вышел из класса и несколько минут стоял в коридоре, собираясь с силами.
Число учеников увеличилось, а вместе с ним возросло и жалование. Петр Ильич начал подумывать о том, чтобы разъехаться с Рубинштейном: слишком стесненно он чувствовал себя там. Собравшись с духом, он начал разговор с Николаем Григорьевичем:
– Мне неудобно и совестно пользоваться вашей квартирой даром. Я теперь достаточно получаю, чтобы жить самостоятельно.
Рубинштейн оскорбленно вскинулся:
– Так и скажи прямо, что я мешаю тебе заниматься!
– Что вы, Николай Григорьевич…
– Нет, молчи! Я устрою так, чтобы никто тебе не мешал, но не надо мне говорить, будто тебе стыдно принимать помощь от друга!
Петр Ильич почел за благо перестать сопротивляться, пока не поссорился со вспыльчивым и не терпящим возражений Николаем Григорьевичем. Тем более скоро выяснилось, что, несмотря на увеличение жалования, на самостоятельный съем квартиры денег все-таки не хватало.
Осенью без ведома автора начались репетиции «Воеводы». Когда ему пришла повестка явиться в театр, он с удивлением обнаружил, что уже прошли две хоровые репетиции и назначена считка для солистов. Певцы были довольны оперой, но слишком мало времени оставалось до назначенной даты постановки. Можно ли за месяц как следует разучить вещь столь трудную?
Репетиции проходили каждый день, и время, свободное от консерватории, оказалось полностью занято ими. Тем не менее Петр Ильич нашел возможность пойти в театр на «Отелло», когда в Москву вернулась Дезире Арто. Он вновь посещал каждый спектакль, в котором она играла, всё более очаровываясь певицей и женщиной. Но встретиться с ней по-прежнему не решался.
Гастроли итальянской труппы отвлекали музыкантов, и, поняв, что к назначенному сроку «Воеводу» подготовить невозможно, Петр Ильич снял его с репетиций вплоть до отъезда итальянцев. Освободившись от забот об опере, он принялся за сочинение симфонической фантазии, названной им «Фатум».
Юргенсон, к великому удивлению Петра Ильича, захотел получить право на издание всех его будущих произведений. Не могло же это быть исключительно данью их дружбе – Петр Иванович слишком деловой для этого человек. Значит, правда считал стоящими его произведения? Это было необычайно лестно для молодого композитора. Ведь Юргенсон, не будучи сам музыкантом, обладал исключительным чутьем на хорошую музыку.
В октябре в Москву приезжал брат Николай. Петр Ильич был рад повидаться с ним, услышать последние новости о родных, о замужестве любимой кузины Ани, а особенно о близнецах, с которыми Николай только-только расстался в Петербурге, привезя по поручению Анатолия необычайно милую его фотографию. Однако радость от встречи с братом омрачила неожиданно проявившаяся неприятная черта его характера. Когда Петр Ильич полушутя попросил у Николая десять рублей, тот рассердился и не дал. Не то чтобы ему сильно нужны были эти деньги, но жадность брата произвела удручающее впечатление. Прежде он таким не был.
Итальянская труппа на этот раз задержалась в Москве на несколько месяцев. На одном из музыкальных вечеров, где присутствовали и гастролирующие артисты, Петр Ильич заметил Дезире Арто. Он издалека с восхищением наблюдал за ней, пока один из общих знакомых – актер Большого театра – не повел его представить певице. Замирая от ужаса и восторга, Петр Ильич неловко поклонился, а она очаровательно улыбнулась:
– Рада знакомству. Почему же вы не бываете у меня? Обещайте, что непременно придете.
Петр Ильич обещал, но исполнить обещание не решался. Наверное, так и не исполнил бы, если бы не Антон Григорьевич, бывший тогда проездом в Москве. Не спрашивая его мнения и не обращая внимания на попытки отказаться, он потащил Петра Ильича на вечер к Арто, с которой был давно знаком. Впрочем, сопротивлялся он не очень сильно, скорее по привычке. Вечер прошел на удивление хорошо: он быстро освоился с обществом Дезире, и ему стало казаться, будто они друзья давным-давно. Он открыл в ней не только прекрасную певицу, очаровательную и добрую женщину, но и интересного, умного и образованного человека, с которым было приятно поговорить. С тех пор Петр Ильич начал бывать у нее чуть ли не каждый день, и вскоре понял, что влюбился окончательно и бесповоротно.
Дезире проявляла к ухажеру ответный интерес, и в декабре Петр Ильич решился на признание.
– Chère Désirée16, – страшно волнуясь, начал он, когда был у нее в гостях, – я давно уже испытываю к вам глубокие нежные чувства… Мне показалось, что и вы неравнодушны ко мне… Если я прав… – и, собравшись с духом, выпалил: – Согласны вы стать моей женой?
Весь его сбивчивый монолог Дезире не смотрела на него, отвернувшись к окну, но по выражению ее порозовевшего лица было понятно, что его слова приняты благосклонно. Наконец, она повернулась, с легкой улыбкой сжала его ладонь и просто ответила:
– Я согласна.
Окрыленный успешным сватовством, Петр Ильич написал и посвятил своей невесте нежный фортепианный романс, который скоро стал популярным и часто исполнялся Николаем Григорьевичем.
Однако получить согласие у невесты оказалось самым простым делом. Ее мать, постоянно сопровождавшая Дезире на гастролях, сразу же воспротивилась предполагаемому браку.
– Вы слишком молоды для моей дочери, – безапелляционно заявила она смутившемуся Петру Ильичу. – А кроме того, подумайте хорошенько, что значит жизнь артистки. Готовы ли вы сопровождать мою дочь в гастролях? Уверена, вам скоро наскучит подобная жизнь. Вы совершенно друг другу не подходите!
Слишком молод! Скажите, пожалуйста! Дезире старше его на какие-то несчастные пять лет. Можно подумать, такая уж страшная разница! Петр Ильич пытался спорить, доказать, что готов стать спутником своей жены во время гастролей, но на сторону мадам Арто неожиданно встали друзья, а в особенности Николай Григорьевич.
– Ты с ума сошел! – возмущенно воскликнул он, когда Петр Ильич поделился с ним своими матримониальными планами. – Она известная уже певица, всё время на гастролях. И что? Ты будешь колесить с ней по Европе? Играть жалкую роль мужа знаменитой жены, жить на ее счет? У тебя не будет возможности работать, ты загубишь свой талант – подумай об этом! И когда первая влюбленность пройдет, останутся отчаяние, страдания самолюбия и погибель! Одумайся пока не поздно – брось эту безумную затею!
Озадаченный и смущенный страстной убедительностью слов Николая Григорьевича, Петр Ильич решил поговорить с невестой. А вдруг прав Рубинштейн? Но на предложение бросить сцену и жить в России, возмутилась уже Дезире:
– Сцена – моя жизнь, и никогда я ее не покину!
Они договорились встретиться летом в имении Дезире близ Парижа, когда закончатся ее гастроли в этом сезоне. Пока же она уехала петь в Варшаву, а мучимый сомнениями Петр Ильич написал отцу и сестре, прося совета. Ответы от них озадачили еще больше, поскольку были совершенно противоположны по своему настроению и пожеланиям.
Отец не видел никаких препятствий к браку и уверял, что если они искренно любят друг друга, то ни он не станет заставлять ее отказываться от сцены, ни она не помешает его творчеству и будущности, а напротив они будут служить поддержкой и вдохновением друг для друга. Илья Петрович желал сыну всяческого счастья с избранницей и ставил в пример свою собственную жизнь с его матерью, которую пылко любил до самого конца.
Зато письмо от Александры пронизывало беспокойство. Она тоже желала любимому брату счастья, но была далеко не так уверена в том, что Дезире – правильный для него выбор. И именно то, что она артистка, больше всего беспокоило сестру. Мать большого семейства, она по опыту знала, как дети занимают всё свободное время, и не представляла, как может знаменитая певица сочетать с гастролями обязанности жены и матери. Саша и желала этого брака, поскольку желал его брат, но и боялась его. Если письмо отца ободрило и вселило уверенность, то письмо сестры только еще больше запутало Петра Ильича.
Оставалось утешать себя тем, что до лета, когда он должен был встретиться с невестой для окончательного решения, у них еще есть время испытать себя, проверить силу чувств. Что, кстати, советовал и папаша.
Модест и Анатолий вдруг дружно обеспокоились тем, что, женившись, старший брат перестанет их любить, как прежде. Это было бы даже смешно, если бы не предельно серьезный тон их писем. Надо же было такое выдумать! Петр Ильич постарался их уверить, что никто и никогда не сможет заставить его перестать любить своих братьев. Хотелось встретиться с ними, а не писать только, но в тот момент такой возможности у него не было.
Сомнения разрешились самым неожиданным образом: из Варшавы пришло известие, что Дезире Арто вышла замуж за баритона их труппы Падиллу. Николай Григорьевич взял на себя обязанность сообщить новость, сопроводив ее назидательным комментарием:
– Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что не ты нужен ей в мужья? Вот ей настоящая партия, а ты нам, пойми, нам, России нужен, а не в прислужники знаменитой иностранки!
В шоке смотрел Петр Ильич на Рубинштейна, почти не веря услышанному. Почему? А он-то считал, что действительно понравился ей. И если она передумала, почему сама не сообщила об этом? Почему он узнал о ее замужестве через третьих людей? Ранено было не только сердце, но и самолюбие. А самым обидным был выбор Дезире: как она могла выйти замуж за Падиллу, над которым постоянно насмехалась и ни в грош его не ставила?
Страстная безжалостная речь Николая Григорьевича прошла мимо сознания Петра Ильича. Может, Рубинштейн и прав был, но в данный момент он был не способен почувствовать его правоту. К счастью, постановка оперы отнимала массу сил и времени, и он мог погрузиться в работу, заглушив ею обиду и боль.
А с «Воеводой» дела обстояли далеко не прекрасно. Репетиции возобновились в январе, после отъезда итальянской труппы. Хотя певцы относились к опере с энтузиазмом, шла она тяжело, что безмерно огорчало автора. Некоторые места оказались слишком трудны для разучивания, пришлось делать купюры. Удручала постановка в целом: случайные костюмы, собранные из разных спектаклей, и совершенно не подходящие к месту действия декорации. Старания дирижера и артистов разбивались о царившее в Москве равнодушие к русской опере.
Во время разучивания Петр Ильич всё больше замечал недостатки своего сочинения, которые исправлять было уже поздно. Артисты не справлялись со многими сложными местами, пели совсем не так, как хотелось автору. Но, будучи страшно застенчив, он не решался их поправлять и требовать большего старания. А когда из-за неспособности певцов воспроизвести трудный квартет – венец первого акта – его пришлось выбросить, и весь акт был испорчен, Петр Ильич потерял всякую надежду добиться хорошего исполнения и только молча страдал.
Пару раз на репетиции приходил Николай Григорьевич. Он хотел помочь, делал замечания певцам, но видя немую покорность автора, рассердился:
– Вот чего ты молчишь?! Они же изуродуют твою оперу. С исполнителями, дорогой мой, надо быть построже: иначе они совсем от рук отобьются.
Петр Ильич только обреченно отмахнулся – он давно смирился с мыслью, что поставить «Воеводу» так, как ему хотелось, не получится. Вспыльчивый Николай Григорьевич окончательно потерял терпение и перестал ходить на репетиции, оставив коллегу страдать в одиночестве.
Премьера прошла не лучше, чем репетиции. У исполнителя главной роли Финокки нарывал палец, из-за чего он не спал несколько ночей, а потому в течение вечера плохо себя чувствовал и в первом действии чуть не упал без сознания. Бенефициантке Меньшиковой приходилось поддерживать его на руках, как ребенка. Не в силах смотреть на этот ужас, Петр Ильич сидел за кулисами зажмурившись, с минуты на минуту ожидая свиста и шиканья разочарованной публики.
Вопреки всему музыка «Воеводы» понравилась. На премьере композитора вызывали пятнадцать раз, преподнесли ему лавровый венок. Выходя на сцену, Петр Ильич, донельзя смущенный, неловко кланялся и спешил скрыться за кулисы. Но артисты упорно не отпускали автора, заставляя его кланяться вместе с ними. Аплодисменты оглушали. Вот уж никак он не думал, что так тепло встретят это его детище, доставившее столько мучений. Друзья ликовали, Николай Григорьевич долго восторженно тряс ему руку. На следующий день на него посыпались поздравительные письма.
А затем начались нападки прессы. Уже немного привыкший к суровости критиков, Петр Ильич, может, и не стал бы сильно огорчаться – хотя, конечно, было обидно, – если бы один из самых неодобрительных отзывов не поступил с той стороны, откуда он совсем не ожидал. Пару дней спустя после премьеры, открыв «Современную летопись», Петр Ильич наткнулся на разгромную статью. То, что автор ругал оперу, было бы еще полбеды – он и сам всё больше разочаровывался в своем творении – но в статье в презрительном тоне говорилось о его таланте вообще:
«Г. Чайковский – композитор очень привлекательный в своей сфере, но, сколько до сих пор видно, не способный выходить из нее. Мягкие, прекрасно умеренные, благородно изящные излияния везде, где были возможны в «Воеводе» вышли весьма удачно. Напротив того, энергические и страстные места крайне натянуты и некрасивы: напускная храбрость, которая слышится в громовой оркестровке, резко противоречит мелкому бессилию содержания».
Еще большее потрясение ждало Петра Ильича, когда он увидел подпись: Герман Ларош. От близкого дорого друга такого вероломства он не ожидал, и несколько мгновений просто не мог поверить глазам. Не Герман ли не столь давно уверял его в силе и величии его таланта? Не Герман ли всячески поддерживал на избранном пути? Так что же случилось? Пусть опера вышла нехороша, но ведь он обругал, по сути, всё его творчество в целом, и композиторские способности как таковые, обвинял его в односторонности и неумении выразить драматизм. Да еще этот упрек в отсутствии русского характера в его музыке! Это уж чересчур!
Обиженный и оскорбленный до глубины души Петр Ильич немедленно высказал все другу. Тот невозмутимо ответил:
– Я написал то, что думаю. Неужели ты хотел бы слышать от меня только успокоительную лесть? Друзья для того и нужны, чтобы говорить правду.
– Правду?!
Да что такое случилось с Германом? Смотрит холодно и равнодушно, будто и не старый друг, а маститый критик, снисходительно выслушивающий упреки неопытного композитора. Так и не придумав, что сказать, Петр Ильич ушел, хлопнув дверью, и с тех пор стал избегать встреч с Германом и перестал с ним разговаривать.
Особенно же больно было от того, что другие критики, ругая постановку, о музыке отозвались доброжелательно, называя ее хоть и недостаточно зрелой, но несомненно талантливой.
Склонный к порывистым реакциям Петр Ильич, всё сильнее разочаровывавшийся в своей опере, после пятого представления забрал партитуру из Большого театра. Больше «Воевода» в его репертуаре не появлялся.
Однако первая неудача не охладила пыл и желание написать достойную оперу. Петр Ильич тут же взялся за новый сюжет. На этот раз он не захотел связываться с либреттистом из опасения задержек, какие были с «Воеводой», и начал искать готовое либретто. Искомое он обнаружил среди сочинений графа Соллогуба: либретто по поэме Жуковского «Ундина». И он немедленно принялся за сочинение.
Вскоре после премьеры «Воеводы» состоялось и исполнение «Фатума», написанного еще в декабре. Публика приняла новое произведение с энтузиазмом, но «Современная летопись» вновь обругала. Не понравилась симфоническая поэма и в Петербурге. Балакирев написал, что вещь очень слаба. Но дружелюбный тон его письма, полный веры в талант Петра Ильича, смягчал приговор. Кое обстоятельство вновь возбудило обиду на Лароша. Вот Милий Алексеевич – практически чужой человек – смог поругать так, что это было совершенно не обидно, хоть и огорчительно, а главное справедливо и по существу. А Герман? Впрочем, не стоило и думать о бывшем друге.
Признав правоту Балакирева, Петр Ильич сжег партитуру «Фатума».
***
Весной Анатолий окончил Училище правоведения. Модест, как отстающий в учебе, оставался там еще на год. Все помыслы Петра Ильича устремились на подыскание хорошего места для брата. Хотелось устроить его в Москве, поближе к себе, но никак не удавалось.
Уроки в консерватории, лихорадочная работа над новой оперой – к апрелю она уже была сочинена, – беспокойство об Анатолии привели к новому нервному срыву. Здоровье расстроилось настолько, что Петр Ильич ослабевал до полного изнеможения. Доктор прописал ему абсолютный покой, и на лето, впервые с тех пор, как переселился в Москву, он поехал к Александре.
Семейство сестры всё разрасталось – у нее было уже четыре очаровательные дочки. Бесконечно любивший детей Петр Ильич предвкушал радости общения с маленькими племянницами. К тому же, в том году к Саше собралась вся семья, за исключением Николая, и было таким счастьем увидеть всех разом. Отец, братья, сестра для Петра Ильича стояли превыше всего, и он ужасно скучал по ним в разлуке.
Ипполит привез с собой невесту – Софью Петровну Никонову. Сонечка, как ее тут же стали все называть – невысокая, обаятельная девушка, – семье жениха сразу понравилась, ее приняли как родную сестру. Там же в Каменке и отпраздновали свадьбу.
К этому торжественному дню долго готовились: растирали порох и бертолетову соль для фейерверка, мастерили гильзы и клеили фонари для иллюминации. Фейерверк готовили дети под руководством старого солдата, служившего при конюшнях Давыдовых, но и Петр Ильич с удовольствием принимал участие во всеобщей суматохе. По инициативе Александры, которая давно привыкла относиться к братьям – даже к старшим – как к собственным детям, и стараниями всей семьи свадьба Ипполита должна была стать грандиозным праздником.
Окруженный любящими родственниками Петр Ильич почувствовал себя ребенком. Вспомнился Алапаевск и изобретаемые им для сестер забавы. В свободное от подготовки время он принялся придумывать развлечения для каменского общества. Для начала выдумал спорт прыгания через канавы. Канавы, конечно же, выбирались пошире – чем шире, тем больше чести прыгуну. Порой кто-нибудь, не рассчитав сил, не допрыгивал до противоположного берега и плюхался в воду, что нисколько прыгуна не огорчало и только служило поводом для всеобщего веселья. В забаву втянулись все, даже сорокалетний собственник Каменки – Николай Васильевич.
Во время поездок в лес Петр Ильич изобрел еще одно развлечение: воздвигнуть самый большой и эффектно горящий костер. Все из кожи вон лезли, стараясь перещеголять друг друга, выстраивая из сухих веток целые дворцы, которые потом полыхали на фоне закатного неба. Победитель удостаивался чести весь вечер носить переходящую красную ленту. Определить выигравшего было довольно сложно, и каждый раз по этому поводу возникали бурные споры, в которых Петр Ильич отстаивал свой костер с запальчивостью ребенка, точно победа в этих соревнованиях была самым важным делом в его жизни. А добившись успеха, торжествовал так, как, наверное, не торжествовал на премьере своей оперы.
В день свадьбы в большом доме с утра царила суматоха: все бегали, делали последние приготовления, собирали жениха и невесту. Петр Ильич, впервые исполнявший роль шафера, страшно волновался. Но все прошло гладко – венчание в небольшой белой церкви получилось каким-то домашним, семейным. А уж последующее торжественное застолье стало не только веселым, но и по-настоящему теплым.
В качестве свадебного подарка подготовили спектакль «Спящая красавица», для которого Петр Ильич сочинил музыкальное сопровождение. Шестилетняя Таня играла принца, пятилетняя Вера – принцессу Аврору, а Аню, которая была слишком мала для серьезной роли, одели в костюм Купидона и посадили у изголовья ложа Авроры охранять ее сон. От спектакля, а особенно от игры маленьких артисток в восторге были все.
Беззаботная каменская жизнь пошла Петру Ильичу на пользу – в августе он вернулся в Москву поправившимся, отдохнувшим и с готовой партитурой «Ундины».
Его ждала здесь новая смена квартиры: они с Николаем Григорьевичем переехали на Знаменку. Это жилье было гораздо просторнее и удобнее предыдущего. И всё же Петр Ильич всячески пытался подвести Рубинштейна к тому, чтобы жить отдельно, но так и не смог добиться вожделенной цели. Они только пришли к соглашению, что он будет сам платить за свою комнату наверху и наймет своего лакея. Хотелось уже начать жить самостоятельно и не зависеть от деспотичного соседа.
В августе в Москве гостил Балакирев, который непременно каждый день желал проводить с Петром Ильичом, что последнего немало раздражало. Он испытывал симпатию к Милию Алексеевичу, считал его хорошим человеком, но сойтись с ним душа в душу не мог, и оттого его общество было ему тягостно и скучно. Особенно же не нравилась узость его музыкальных воззрений и резкость тона. Своих пристрастий Балакирев держался с поразительным упорством и не терпел чужого мнения. Именно это делало его невыносимым собеседником для Петра Ильича, слишком деликатного, чтобы переубеждать, и слишком независимого, чтобы соглашаться.
Зато во время одной из прогулок Балакирев предложил написать увертюру на сюжет шекспировской «Ромео и Джульетты». Тема Петра Ильича увлекла, и сразу по отъезде Милия Алексеевича он приступил к новому сочинению.
С тоской и неудовольствием воспринял он возобновление уроков в сентябре. Посредственные ученики утомляли с каждым годом всё больше. Из всей массы можно было выделить два, от силы три по-настоящему сильных таланта. Конечно, такие вундеркинды, как Сережа Танеев, становились бальзамом на душу профессора. Но их было так мало! Консерватория начала вызывать отвращение, отнимая невероятное количество времени, которое можно было бы посвятить сочинению. Но что делать? Приходилось зарабатывать себе на хлеб насущный.
Балакирев с интересом следил за сочинением вдохновленной им увертюры, высказывал пожелания и советы. Между двумя композиторами завязалась оживленная переписка. Угодить Милию Алексеевичу оказалось не так-то просто: он неизменно находил недостатки, требовал переделок, но и переделки не удовлетворяли его полностью. Правда, в одном из писем он соизволил-таки заметить: «Это первое произведение ваше, которое в сумме красот своих притягивает до того, что можно решительно постоять за эту вещь, как за вещь хорошую».
Одновременно Петр Ильич занимался аранжировкой в четыре руки увертюры Рубинштейна «Иоанн Грозный», аранжировал народные песни, готовил лекции для своих учеников. Времени не оставалось даже на театр. Впрочем, хотя в Москве и были неплохие певицы, с Дезире сравниться не мог никто.
Беспокоила и судьба «Ундины»: из Петербурга о ней не было ни слуху ни духу, и Петр Ильич начал сомневаться, что ее вообще собираются ставить.
***
В ноябре Дезире Арто вернулась с гастролями в Москву. Вопреки причиненным ему страданиям, Петра Ильича влекла к ней неизъяснимая симпатия до такой степени, что он начал ждать ее возвращения с лихорадочным нетерпением, едва узнав о приезде итальянцев. Он не мог ничем спокойно заниматься, всё время думая о том, как встретится с ней.
Вместе с Кашкиным Петр Ильич отправился в Большой театр на первое же выступление Дезире. От волнения его едва не трясло – неужели он вновь увидит эту женщину, к которой вопреки всему продолжал испытывать теплое чувство? Едва она появилась на сцене, он закрылся биноклем от своего спутника, сделав вид, что хочет получше рассмотреть, на самом же деле пытаясь скрыть слезы, которые не смог удержать, несмотря на титанические усилия. Дезире была хороша как никогда, ей бурно аплодировали после каждой сцены, а Петр Ильич так и просидел весь спектакль, не шевелясь и не отнимая бинокля от глаз.
Их встреча была неизбежна и произошла на одном из музыкальных вечеров. С замирающим сердцем Петр Ильич издалека смотрел на Дезире, не решаясь приблизиться. Заметив его, она подошла сама и с великолепным равнодушием произнесла:
– Здравствуйте, Петр Ильич, рада вас видеть, – и протянула руку для поцелуя.
Пораженный до глубины души – как она может вести себя так, будто ничего не было, будто они чужие друг другу? – он машинально поцеловал протянутую руку и поспешил отойти. Она так легко вычеркнула его из своей жизни, значит, сможет и он. Желанная осталась в прошлом. Может, оно и к лучшему.
Глава 9. Первые неудачи, первые успехи
Петр Ильич попытался добиться для Анатолия места в Москве, чтобы брат жил рядом с ним, но хлопоты ничего не дали. Пришлось отпустить младшего в самостоятельное плавание. Впрочем, ему удалось получить назначение судебным следователем в Киев – далеко от Петра Ильича, зато близко к Александре. За службу Толя принялся усердно и со всей ответственностью. А вот Модест без конца жаловался на судьбу и на то, что никто его бедного не любит. Его сетования были слишком напускными, чтобы всерьез им поверить, но все равно расстраивали, а временами и сердили.
По-прежнему ничего не было слышно об «Ундине». Отчаявшись дождаться хоть каких-то известий из Петербурга, Петр Ильич написал директору Императорских театров Гедеонову, прося сообщить о судьбе оперы. Столица ответила молчанием. Еще более обеспокоенный Петр Ильич попросил знакомого певца Сетова разузнать о деле, и тот сообщил, что в петербургских театрах никто и слыхом не слыхивал, что партитура «Ундины» вот уже три месяца лежит в архивах. А позже добавил, что в этот сезон она точно не пойдет, поскольку едва хватает времени поставить две оперы, ранее стоявшие в репертуаре.
Это вызвало раздражение. Не хотят ставить оперу – так сказали бы прямо! Зачем столько времени автору нервы трепать? Да еще эта безалаберность ужасающая, когда партитура давно в театре, а никто об этом не знает.
История с «Ундиной» на некоторое время отбила всякую охоту сочинять что-либо еще. К тому же за оперу Петр Ильич рассчитывал получить поспектакльную плату и не экономил, оставшись совсем без денег. До такой степени, что приходилось занимать у Агафона – слуги Николая Григорьевича. Это было унизительно само по себе, но хуже всего то, что теперь Петр Ильич не мог послать денег Модесту на зимние праздники, как обещал. Было невыносимо стыдно, и он попытался обратить все в шутку – чувство юмора всегда выручало его в таких случаях:
«Любезный брат Модя! Полагаю, милый брат, что ты не сердишься за мое долгое молчание и веришь в мое родственное расположение, которое я тебе не раз оказывал. Вспомни, сколько раз я тебе давал денег и вообще сколько благодеяний тебе оказал! Вообще, милый брат, я тебя очень люблю; и хоть я нещадно тебя надул, обещав тебе прислать денег на праздники и не исполнив этого, – но все-таки я твой благодетель и ты не должен знать, чем меня отблагодарить».
Нежелание сочинять, вызванное несчастной судьбой «Ундины» продлилось недолго: уже пару недель спустя Петр Ильич начал искать сюжет для новой оперы. Сергей Александрович Рачинский, профессор ботаники в Университете и большой меломан предложил взять «Мандрагору» на сюжет старинной рыцарской легенды. Петр Ильич увлекся ее поэтичностью, успел написать «Хор насекомых», когда на беду решил поделиться планами с друзьями. Все как один принялись уверять, что опера получится не сценична и не стоит писать на подобный сюжет. Хуже всего вышел разговор с Кашкиным. Нет, поначалу отрывок, сыгранный ему, Николай Дмитриевич одобрил. Но, когда он увидел сценарий предполагаемой оперы, его мнение резко изменилось.
– Сюжет, конечно, весьма поэтичен, – осторожно начал он. – Но… Из таких фантастических историй получаются отличные балеты. Опера же… Для нее нужно что-то более реалистичное.
Петр Ильич принялся с жаром защищаться:
– Ты не прав! Представь, какие чудные арии можно написать для дуэта влюбленных, а потом для несчастной отчаявшейся Мандрагоры!
– Возможно. Но на сцене, к примеру, эпизод с вырыванием корня мандрагоры и превращением его в девушку будет выглядеть комично. И весь драматизм музыки тут не поможет.
Спор продолжался долго, Кашкин говорил так убежденно и приводил такие разумные доводы, что Петр Ильич начал мало-помалу соглашаться с ними. И от этого стало обидно и тоскливо – ведь он совсем видел в воображении готовую оперу, музыка уже звучала в душе.
– Очень хорошо, Николай Дмитриевич, – почти со слезами произнес он, – ты своего добился. Я не стану писать эту оперу. Но знаешь, я так этим огорчен, что впредь больше никогда не буду сообщать тебе своих намерений и никогда ничего не покажу.
Кашкин при виде того, как расстроился друг, сам огорчился успешностью своих доказательств. Но поздно. Петр Ильич забросил работу, кроме хора, больше ничего не написав.
Тем временем из Петербурга сообщили, что дирекция театров забраковала «Ундину». Причинами послужили якобы ультрасовременное направление музыки, небрежная инструментовка, отсутствие мелодичности. До сих пор остававшаяся надежда увидеть «Ундину» на сцене хотя бы в следующем сезоне, рассыпалась в прах. Горькое разочарование и обида на несправедливость дирекции вызвали приступ меланхолии, к счастью, непродолжительный. Петр Ильич смирился с мыслью, что его обманули, успокоился и принялся за новую оперу.
«Опричник» по трагедии Лажечникова продвигался невероятно медленно и с огромным трудом.
***
Первое исполнение «Ромео и Джульетты» состоялась при неблагоприятных для увертюры обстоятельствах. Совсем недавно рассматривалось дело Рубинштейна, на которого подала в суд ученица Щербальская. Вспыльчивый Николай Григорьевич однажды во время урока крикнул ей:
– Ступайте вон!
И та, оскорбившись, развернула целую компанию, о которой толковала вся Москва. Мировой съезд приговорил Рубинштейна к двадцати пяти рублям штрафа. Однако профессора консерватории возмутились и этим малым наказанием, считая его незаслуженным. Адвокат должен был апеллировать, и в случае, если суд не отменит свой приговор, вся профессура Московской консерватории решила демонстративно подать в отставку.
Как ни странно, большинство москвичей встало на сторону Щербальской. В одной газете даже появилась ехидная заметка, предлагавшая поклонникам Рубинштейна собрать ему двадцать пять рублей, дабы избавить его от необходимости отбывать заключение. Эта история вызвала негодование в музыкальном мире, и концерт четвертого марта превратился в настоящую демонстрацию в поддержку Николая Григорьевича. Начиная с его первого выхода на сцену и до окончания концерта ему беспрестанно аплодировали. Тут же сочинили для него адрес, под которым в одно мгновение собралось несколько сот подписей. В общем, о самом концерте и о музыке не думал никто.
Петр Ильич, надеявшийся на успех своего, как он считал, лучшего сочинения, был глубоко разочарован. Он горячо сочувствовал Николаю Григорьевичу, но его сильно угнетала и раздражала сложившаяся ситуация. Ладно еще публика: в конце концов, они всего лишь хотели поддержать любимого всеми Рубинштейна. Но друзья! Когда после концерта они ужинали у Гурина, ни один из них даже не заикнулся об увертюре! Вот что обижало больше всего. А ведь автору особенно хочется получить отзывы на свое произведение, когда оно исполняется впервые. Весь вечер Петр Ильич был угрюм и молчалив. Меланхоличное в последнее время настроение стало совсем мрачным.
Беспокойство за Модеста, окончившего в марте училище и отправившегося служить в Симбирск, тоже радости не добавляло. От него пришло несколько писем, из которых невозможно было понять в каком он состоянии: он то радовался, то тосковал, то жаловался на безденежье и несчастье в любви. При этом о службе не заботился совсем – все его радости и горести зависели исключительно от бурной светской жизни. Насколько Петр Ильич был спокоен за Толю, в уверенности, что тот все силы отдаст службе, добиваясь хорошего положения, настолько страшила его судьба Моди.
***
Уступив настойчивой просьбе своего больного чахоткой ученика Володи Шиловского, Петр Ильич отправился к нему за границу, в очередной раз расставшись с мечтой провести лето у сестры. А как хотелось погостить у нее! Временами появлялось желание участвовать в семейных делах, видеть вокруг себя детей. Но жениться самому мешал страх потерять привычный, столь необходимый для композиторской работы уклад. Сашина семья представлялась в этом отношении идеальным выходом: он мог пожить среди родных, пообщаться с детьми, которых любил, и при этом не был связан обязательствами и в любой момент мог уехать.
Выезжая за границу, Петр Ильич боялся застать Шиловского при смерти. Однако тот чувствовал себя гораздо лучше, хотя и был еще слаб. Пробывши в Париже два дня, они перебрались в небольшую швейцарскую деревню Соден. Деревня лежала у подножия горного хребта, не слишком высокого, зато покрытого густым сосновым лесом. Вокруг располагались прелестные замки, восхитившие Петра Ильича. К сожалению, присутствие множества больных чахоткой портило наслаждение природой. От вида этих несчастных на Петра Ильича напала такая страшная тоска, что первые дни он едва мог держать себя в руках. Но вскоре он успокоился, тоска улеглась, и он погрузился в заботы о Шиловском, жизнь которого висела на волоске.
В свободное от процедур время они вместе бродили по живописным окрестностям – доктор советовал пациенту побольше дышать горным воздухом. Особенно впечатлил Петра Ильича замок Кенигштейн, от которого остались лишь живописные развалины, среди которых возвышалась одинокая башня. Они с Володей поднимались на нее, чтобы посмотреть на открывавшийся сверху вид. Внизу расстилались широкие просторы полей и небольших холмов, в ложбинах ютились деревеньки с белыми домиками, на горизонте их окаймляли горы.
Величественная красота местной природы вдохновляла, и по утрам, когда Володя был у врачей, Петр Ильич в одиночестве удалялся в местечко под названием Драй Линден и там сочинял.
Однако спокойно отдохнуть на курорте не пришлось. Между Францией и Пруссией началась война, и люди из Содена спасались в Швейцарию. Наплыв путешественников был так велик, что многие не находили места в поездах и отелях. Вместе с пассажирами везли войска к французской границе, отчего происходила невероятная кутерьма и затруднения. Чтобы избежать ее, Петр Ильич с Володей поехали в Швейцарию окружной дорогой через Штутгарт. Но и этот путь оказался неудобным и беспокойным: невообразимая теснота в вагоне, проблемы с едой и питьем.
С неимоверным трудом добравшись до Швейцарии, они обосновались в Интерлакене. Природа этого местечка восхитила Петра Ильича еще больше, чем Соден. Городок расположился между двумя озерами – Тун и Бриенц, из-за чего и получил свое название17. Неописуемо красивое зрелище представляли собой огромные голубые озера в окружении гор, внизу покрытых лесами, а сверху – снежными шапками. Восторгам и удивлению Петра Ильича не было пределов. Целыми днями он гулял по окрестностям, нисколько не уставая. И все же его постоянно тянуло на родину.
***
Консерватория становилась все противнее, занятия утомляли до крайности, ученики вызывали раздражение, но иначе не на что было бы жить. Стремясь к свободе, Петр Ильич решил сделать хотя бы первый шаг к ней: съехать от Николая Григорьевича. Жизнь с ним на одной квартире сделалась невыносимой. Деспотичный характер Рубинштейна, его привычки, противоположные привычкам Петра Ильича, вызывали досаду, злость и, как следствие, невозможность спокойно работать.
И вот на тридцать втором году от роду ему удалось-таки начать самостоятельную жизнь. Он переехал в Гранатный переулок, где в пятиэтажном доме классического стиля снял квартирку из трех крохотных комнат, и с увлечением занялся ее обустройством. Радость почувствовать себя независимым, полновластным хозяином своего времени была поистине безграничной. Обставить квартиру как следует на свои скромные средства не получалось: большая оттоманка да несколько дешевеньких стульев стали единственными приобретениями. Зато впервые появилась собственная прислуга – молодой парень Михаил Софронов. Правда, у Михайлы была одна забавная особенность: он любил деревню и потому не принимал места, если на лето нельзя было уехать к себе, в Клинский уезд. Но в данный момент Петра Ильича это устраивало.
Дел по возвращении в Москву прибавилось: он взялся быть рецензентом в «Московских ведомостях». Герман Ларош, с которым он все-таки помирился, перебрался обратно в Петербург, а заменить его в журналистике должен был Губерт – человек болезненный да к тому же ленивый, и потому не исполняющий свою задачу как следует. Не желая оставить Москву без серьезного рецензента, что могло повредить всему музыкальному делу, Петр Ильич с Кашкиным решили заменить нерадивого товарища.
Писание статей оказалось в какой-то степени даже увлекательно, к тому же давало дополнительный заработок, но, увы, отнимало время, которого было и так-то не слишком много. С лихорадочной торопливостью Петр Ильич стремился любой свободный час посвятить сочинению и так утомлялся, что порой не оставалось сил написать пару строк родным.
По-прежнему сильно беспокоил его Модест. Оказавшись в Симбирске, он немедленно начал жаловаться на жизнь, которой совсем недавно был вполне доволен. Писал, что председатель его не ценит, нарочно не обращает внимания на его заслуги, и вообще его никто не любит. При этом швырял деньгами так, что становилось страшно: в Петербурге оставил множество долгов, в Симбирске наделал еще больше. А когда Петр Ильич потребовал отчета о своем поведении, Модя с наивной уверенностью заявил, что ему просто необходимо платить за пикники, складчины в пользу раненых, конфекты для дам, обеды и подписки в пользу актеров. Безалаберность младшего брата начинала не только тревожить, но и злить, особенно «конфекты для дам» вызвали негодование Петра Ильича. А что самое неприятное – в поведении Модеста он с ужасом узнавал свои собственные недостатки, и это раздражало еще больше. Однако он продолжал высылать деньги, сам при этом постоянно в них нуждаясь. Ну не мог он бросить брата, даже если тот сам был виноват.
Видя бедственное положение коллеги, Николай Григорьевич посоветовал дать концерт и заработать немного денег. И Петр Ильич решил написать что-нибудь новое, дабы заинтересовать публику. Не смея рассчитывать на большой оркестр, он ограничился квартетом, посвятив ему весь февраль.
Концерт, состоявшийся в марте и прошедший с большим успехом, посетил Тургенев. Внимание знаменитого писателя подогрело интерес публики. Позже он благожелательно отозвался о сочинениях Петра Ильича, к удовольствию последнего.
На каникулах Петр Ильич съездил в Конотоп к Николаю, потом в Киев к Анатолию и, наконец, вместе с последним к Александре в Каменку. Проведя у сестры большую половину лета и насладившись теплой семейной обстановкой, вместе с Модестом он уехал в Низы к Николаю Дмитриевичу Кондратьеву – предводителю дворянства Сумского уезда.
Петр Ильич познакомился с ним еще в годы обучения в Училище правоведения. Но тогда знакомство осталось шапочным, по-настоящему сблизиться они не успели. А совсем недавно в Москве – куда Кондратьев с женой и дочерью приехал на зиму – они встретились у общих знакомых и быстро сдружились. Петра Ильича привлекал в Кондратьеве неиссякаемый оптимизм. Жизнь для него была вечным праздником и ликованием, любые беды он рассматривал как нечто временное, за чем непременно последует радость. Даже самый простой разговор с ним вселял заряд бодрости, что было необходимо Петру Ильичу, подверженному частым приступам меланхолии.
Николай Дмитриевич пригласил друга к себе в поместье, чем тот и воспользовался. Кондратьев жил в совершеннейшей глуши. Сначала ехали по железной дороге, потом от станции Ворожба – на дилижансе, а уже в Сумах гостей поджидали лошади Кондратьева.
Но все трудности дороги померкли по сравнению с невыразимой прелестью местной природы. Имение располагалось рядом с очаровательной рекой Пселл с быстрой прозрачной водой, кругом расстилались изумрудные равнины заливных лугов, окаймленных группами дубовых лесов. Петру Ильичу отвели две отдельные комнаты, где он жил в полном уединении.
У Николая Дмитриевича была пятилетняя дочка Надежда – Диночка – с которой Петр Ильич, обожавший детей, сразу подружился. Она любила забираться к нему на колени и рассказывать все подробности своей жизни, которые он выслушивал с неподдельным интересом. Детские горести и радости бесконечно его умиляли, и он мог часами возиться с малышами. Такие-то минуты порой заставляли пожалеть об отсутствии собственной семьи.
Заходя к Дине в комнату, Петр Ильич говорил:
– Ну, показывай игрушки.
И девочка с восторгом принималась демонстрировать свои богатства. Любившая старшего друга Диночка по утрам обходила все уголки сада в поисках цветов и приносила ему большие букеты. Такое внимание ребенка безмерно его трогало.
На обратном пути с Петром Ильичом и Модестом произошел трагикомический случай. Поначалу все шло хорошо, настроение было прекрасное, и они не заметили, как доехали до станции между Сумами и Ворожбой. Здесь братья позавтракали, после чего их ждала неприятная неожиданность. Когда Петр Ильич подозвал станционного смотрителя – невысокого мужчину средних лет – и велел закладывать лошадей, тот, даже не пытаясь изобразить сожаление, невозмутимо ответил:
– Нечего закладывать, барин: все лошади в разгоне. Придется обождать.
Рассердившись, да к тому же под действием выпитого за завтраком практически натощак вина, Петр Ильич начал спорить с ним, а тот, явно не считая их важными персонами, в свою очередь стал кричать. В пылу спора, надеясь испугать и пристыдить наглого смотрителя, Петр Ильич воскликнул:
– Да знаете ли вы, с кем говорите?
Но он не поддался на эту избитую ловушку и высокомерно ответил:
– И знать-то нечего всяких встречных!
Еще более подзадоренный презрительным ответом, Петр Ильич потребовал жалобную книгу. Смотритель, нисколько не испугавшись, моментально принес ее. Поняв по этой поспешности, что жалоба сама по себе, да еще подписанная никому ничего не говорящим именем Чайковского, не будет мщением достойным проступка, Петр Ильич подписал под ней: «Камер-юнкер князь Волконский».
Не прошло и четверти часа, как смотритель пришел доложить, что лошади поданы. Манеры его разительно поменялись: он весь стал услужливость и почтение:
– Умоляю, простите, ваше сиятельство. Это все староста виноват: лошади, возившие одно важное лицо, вернулись, а он, подлец, не доложил. Вот и вышла задержка. Все готово, ваше сиятельство. Вы можете езжать.
Сменив гнев на милость, Петр Ильич дружелюбно распрощался со смотрителем, и братья отправились в путь, радуясь удачной выдумке. Они прибыли в Ворожбу почти одновременно с поездом, на котором Петр Ильич должен был ехать дальше. И только тут, подойдя к кассе взять билет, он обнаружил, что бумажник со всеми деньгами и документами остался на станции возле жалобной книги.
Мало того, что он пропускал свой поезд – а следующий шел только на другой день, – так приключение еще грозило позором: станционный смотритель наверняка заглянул в бумажник, а там рядом с деньгами лежали паспорт и визитные карточки, уличающие в самозванстве.