Гены, эгоизм и сила сотрудничества: Эволюция как командная игра
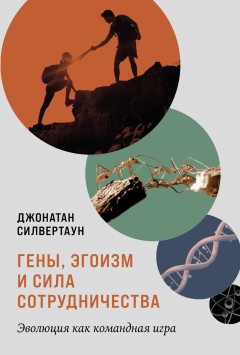
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Переводчик: Любовь Макарина
Научный редактор: Валентина Бологова
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Елена Кунина
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Мария Смирнова, Анна Кондратова
Компьютерная верстка: Максим Поташкин
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Jonathan Slivertown 2024. This edition published by arrangement with The Curious Minds Agency GmbH, Louisa Pritchard Associates and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2025
Моим коллегам по Профсоюзу университетов и колледжей в их коллективной борьбе за справедливость
Часть I
Группы
1
«Кроты» и наркоторговцы
19 сентября 1985 года Мехико содрогнулся от землетрясения магнитудой 8 баллов – самого мощного за всю историю наблюдений. В считаные минуты рухнули или были серьезно повреждены тысячи зданий, в том числе 12-этажная башня больницы, под обломками которой погибло более 500 человек[1]. Мехико стоит на дне некогда существовавшего здесь озера, ныне по большей части осушенного, но в свое время служившего ацтекам надежной защитой. Когда сейсмическая волна достигла города, высохшие озерные отложения заколыхались, словно водяной матрас: одни здания рухнули, а другие, стоявшие с ними бок о бок, уцелели. Некоторые высотки устояли, но сложились, как стопка блинов: одни этажи обвалились, а другие выдержали. Выживете вы или погибнете, зависело лишь от того, на каком этаже вы оказались в момент катастрофы.
Смерть – неизменный мотив мексиканского фольклора. Зачастую она предстает в образе веселого скелета в сомбреро, бренчащего на гитаре. В то роковое 19 сентября костлявая рука смерти в одночасье оборвала многие тысячи жизней. Погибло, вероятно, не менее 10 000 человек, хотя истинный масштаб трагедии до сих пор неизвестен. Кризис обнажает и лучшее и худшее в людях и организациях. Мексиканские власти охватил паралич, но жители города взяли спасение соседей в свои руки. В первые критические дни после землетрясения обычные граждане вызволили из-под завалов 4000 человек. Всего за четыре часа добровольцы эвакуировали почти 2000 тяжелобольных пациентов из пострадавших больниц в безопасные места.
В числе гражданских групп, пришедших на помощь погребенным заживо под руинами Мехико, оказались и молодые люди из Тлателолько – сурового района сурового города. Для них это был вопрос гордости – суметь пробраться в здания, куда никто больше не решался сунуться. Без всякой подготовки и специального снаряжения, в кризисной ситуации они находили в себе силы делать то, что требовалось. Через несколько месяцев после землетрясения ребята организовали постоянную команду добровольцев под названием Los Topos de Tlatelolco («Кроты из Тлателолько») для подготовки и проведения спасательных работ при таких же бедствиях, как в 1985 году. С тех пор «Кроты» участвуют в подобных операциях по всей Латинской Америке и в разных странах мира – от Италии до Индонезии. Список их требований к новобранцам весьма напоминает развернутое определение альтруизма. Молодой «Крот» должен стремиться помогать людям, быть готовым к тяжелым тренировкам, спешить на выручку всякому, кто в беде, не ища ни личной выгоды, ни признания своих заслуг[2].
Рис. 1. «Кроты из Тлателолько»
Разве кто-то станет отрицать, что «Кроты» и весь отклик общества на землетрясение 1985 года в Мехико – это квинтэссенция всего самого светлого в человеческой природе? Но все же сегодняшняя Мексика – это, мягко говоря, неблагополучная страна. Наркокартели безнаказанно убивают, творят необузданное насилие. В один июньский день 2020 года органы правопорядка зарегистрировали 117 убийств – новый суточный рекорд[3]. Растет и число фемицидов: в 2020-м произошло несколько жесточайших убийств на фоне эскалации насилия против женщин в целом[4]. Впрочем, Мексика в этом не уникальна. В 2020 году она была лишь на четвертом месте в мировом рейтинге стран по числу убийств[5].
Веками философы спорили о человеческой природе – добры мы изначально или злы. Томас Гоббс (1588–1679) полагал, что общество, предоставленное самому себе, – это война всех против всех, которую и должен обуздать авторитетный правитель. Жан-Жак Руссо (1712–1778), напротив, верил, что люди в естественном состоянии, не испорченные цивилизацией, – благородные дикари. Так кто же мы на самом деле? «Кроты» или наркоторговцы? Или же сама постановка вопроса неверна, поскольку ведь в каждом из нас есть и доброта, и жестокость? Вспомним «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына:
Если б это было так просто! – что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека[6].
Пример Мексики и многих других стран показывает, что человеческую природу нельзя считать ни безусловно доброй, ни безусловно злой, – но в целом мы склонны к сотрудничеству. Чаще всего мы взаимодействуем мирно и доброжелательно, а то и героически, как «Кроты», но если объединяемся, как наркокартели, с преступными целями, то результаты получаются чудовищными. Гоббс стремился убедить нас, что мы злы по природе. Руссо, напротив, видел в нас невинных созданий, развращенных просвещением. Но достаточно взглянуть на наши реальные поступки – и ни одно из этих крайних суждений, касающихся человеческой сути, не выдержит критики.
Сотрудничество у нас в природе – и во благо, и во зло[7].
«Кооперативный вид», «суперкооператоры», «ультрасоциальный вид» – авторы, пишущие на эту тему, наперебой пытаются передать, до какой же степени мы склонны к сотрудничеству. И вряд ли кто-то усомнится, что превосходная степень тут более чем уместна[8]. Только вообразите, сколько совместных усилий предшествовало тому, что вы сейчас читаете эту книгу: возникновение языка, а затем письменности; появление и развитие науки; распространение знаний через книги и интернет; ваше образование и мое собственное. Все это держится на разделении труда и экономике: труд исправно снабжает нас пропитанием, но при этом у нас остаются время и силы не только на насущные нужды. Воистину, наша жизнь – лес команд, выросший на горе сотрудничества.
Осознание этого раскрепощает. Нам больше не нужно терзаться из-за якобы греховности человеческой природы или опасаться, что молочные реки человеческой доброты пересохнут. И все же остается навязчивое сомнение, что нечто биологическое в нас принуждает нас к эгоизму – наши гены. В эпохальной книге Ричарда Докинза «Эгоистичный ген»[9] прозвучал призыв: «Давайте попробуем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рождаемся эгоистами». Позже Докинз отказался от этого заявления, пояснив: если прочитать его книгу, а не ограничиться лишь ее броским названием, станет ясно, что на самом деле она повествует о том, как гены сотрудничают – в собственных интересах[10]. Как мы увидим, это повторяющаяся картина. Гены эгоистичны в том смысле, что ими движет самовоспроизведение, однако сотрудничество то и дело проявляется. Естественный отбор представляет собой гонку, цель которой – в будущем: индивидуальный успех измеряется числом потомков. Как же получается, что в такой гонке естественный отбор превращается в командный вид спорта?
Люди по своей сути – командные игроки, но, может быть, вся природа объединяется в команды с самого зарождения жизни 4 миллиарда лет назад?[11] Команды – это группы, члены которых сотрудничают друг с другом, будучи неизменно связанными преимуществами, проистекающими из эффекта численности и разделения труда. У всех команд – будь то футбольная команда или команда клеток, составляющих организм каждого конкретного футболиста, – есть ряд общих свойств. Параллель между футбольной командой и командой клеток, между прочим, не просто метафора. Можно представить себе команду, где все ведут себя одинаково, но в реальности такого не бывает. Члены команды играют разные роли, у них разные функции. И вратарь, и лейкоцит – каждый выполняет особые защитные функции в своей команде. Вратарь защищает ворота, белая кровяная клетка защищает вратаря.
Чтобы сформировать команду, нужно обуздать личные интересы и дух соперничества. Успешное разделение труда в команде требует и грамотного управления. Главная задача футбольного тренера – сдерживать амбиции отдельных игроков ради высшей цели: победы команды. Общей победы. Каждая клетка в теле содержит копию генома индивида, и это выполняет ту же функцию управления. Иногда случаются мутации, клетки выходят из-под контроля и начинают размножаться как им заблагорассудится, образуя опухоли. Самые опасные опухоли – те, которые обзаводятся собственным кровоснабжением и накапливают множество клеток разных типов, объединяющихся в команды, что и позволяет раку распространяться по всему организму. Даже раковые клетки-мошенники получают выгоду от слаженной работы.
Таким образом, первыми командными игроками были, возможно, вовсе не обезьяны, не пчелы и даже не бактерии. А что, если первые команды – это «голые» молекулы, предки генов у самых истоков жизни? Ведь гены, пусть и печально известные своим эгоистичным стремлением плодить себе подобных, тоже должны объединяться. Иначе жизнь до сих пор была бы если не первичным бульоном, то первичным супом, в котором хаотично плавают кусочки овощей. В конце концов, разве история жизни – это не история сотрудничества? Давайте выясним, так ли это.
Мы начнем с мира больших масштабов и с того, что нам хорошо знакомо, – с поведения групп нашего собственного вида. На протяжении четырех основных частей книги мы будем уменьшать масштаб и углубляться в прошлое, переводя фокус с групп на индивидов, на клетки и, наконец, на гены. Мы разберемся, действуют ли в нашей повседневной жизни те же фундаментальные правила сотрудничества, что и у других видов. Мы поймем, как наши клетки кооперируются в организме, как работают вместе части самой клетки и как эгоистичные гены объединяют усилия ради появления социальных существ. Бессмысленное насилие, к которому так склонен наш вид, – самое суровое испытание для теории кооперации, поэтому давайте начнем разговор о сотрудничестве с самого неподходящего, казалось бы, места – с Западного фронта Первой мировой войны.
Эти жестокие события отзываются в памяти даже теперь, век спустя, когда не осталось в живых ни одного очевидца. С 1914 по 1918 год Первая мировая опустошила даже крохотные деревушки воюющих стран и их колоний. Сыновья, отцы, мужья – все уходили на войну, которая должна была положить конец всем войнам. Женщины и дети тоже гибли, но их имена не увековечены на военных мемориалах. Кровавая бойня унесла жизни по меньшей мере 8,5 миллиона военных и, согласно некоторым оценкам, около 13 миллионов мирных жителей[12]. Мясорубка войны работала в поистине промышленных масштабах и не выбирала жертв, поэтому возможны лишь примерные оценки. В ходе битвы на реке Сомме британская армия потеряла за сутки более 57 000 солдат. Для сравнения: примерно столько же американских солдат погибло за 14 лет войны во Вьетнаме. Чудовищные потери – результат тщетных и многократных попыток выйти из позиционного тупика на Западном фронте, где силы воюющих сторон, окопавшись в траншеях, противостояли друг другу вдоль линии, протянувшейся через Северную Францию и Бельгию.
Если и можно извлечь какой-то урок из этой бессмысленной бойни, то вот он: даже в самых чудовищных обстоятельствах между врагами может спонтанно возникнуть сотрудничество. Британский рядовой Мармадьюк Уокинтон годы спустя вспоминал, что произошло в канун Рождества 1914 года:
Мы стояли на передовой, ярдах в трехстах от немцев. Помнится, был сочельник, мы пели рождественские гимны и всякое такое, а немцы делали то же самое. И мы перекрикивались – иногда грубо, чаще в шутку. В общем, один немец наконец крикнул: «Завтра не стреляйте, мы тоже не будем». Наутро мы и правда не стали стрелять, и они тоже. Тогда мы начали высовывать головы из окопов, готовые в любой момент нырнуть обратно, если начнется стрельба. Но выстрелов не было. Потом мы увидели немца: он стоял во весь рост и махал руками. Мы перестали стрелять, потом еще кто-то, и так все это постепенно разрасталось[13].
Рис. 2. Рождественское перемирие 1914 года
Во многих местах Западного фронта солдаты противоборствующих сторон договорились о неофициальном перемирии, которое длилось два дня. Враги братались на нейтральной полосе между траншеями, обмениваясь подарками и сувенирами. Кто-то даже гонял мяч. Немецкий артиллерийский офицер по фамилии Рикнер так вспоминал встречу с французами:
Я очень хорошо помню то Рождество, помню тот день, когда немецкие и французские солдаты вышли из окопов, подошли к колючей проволоке между ними с шампанским и сигаретами в руках, братались и кричали, что хотят прекратить войну.
Если бы все зависело от солдат в окопах, рождественское перемирие переросло бы в прочный мир. Но вскоре весть дошла до командования в тылу, и с обеих сторон последовал приказ прекратить безобразие.
Тыловые генералы, должно быть, прознали об этом и заподозрили неладное. Поэтому они приказали батарее позади нас открыть огонь, пулеметам – тоже, а офицерам было велено палить из револьверов по немцам. Конечно, война снова разгорелась. Ох и крыли мы их на чем свет стоит, этих генералов и всех прочих: вам-то хорошо раскатывать в шикарных авто и раздавать приказы из своих замков. Сами бы посидели в этом пекле! Как же мы ненавидели саму мысль об этих чертовых генералах…
Джордж Ашерст
Знаменитое рождественское перемирие 1914 года больше так и не повторилось, но породившие его условия никуда не делись. Солдаты по обе стороны фронта, находившиеся друг от друга на расстоянии крика, понимали, что их противники такие же, как они, терпят те же лишения и так же рискуют бессмысленно погибнуть. На этой почве взаимопонимания и сочувствия вдоль всего Западного фронта установилась негласная система «живи и дай жить другим» – везде, где внимание командования было приковано к чему-нибудь еще[14].
В этих относительно спокойных местах солдаты обеих сторон понимали, что нужно по-прежнему разыгрывать спектакль перед вышестоящими офицерами, изображая враждебность. С немецкой стороны особенно мирно настроены были саксонские полки. Однажды они привязали к камню записку и швырнули его во вражескую траншею 46-й дивизии:
Нам придется кинуть в вас 40-фунтовую бомбу. Мы не хотим, но обязаны. Кинем вечером, но сначала просвистим, чтобы предупредить.
Вновь прибывший батальон 51-й дивизии услышал из траншеи напротив:
Мы саксы, вы англосаксы, не стреляйте!
А позже, когда тот же отряд должны были сменить пруссаки, саксонцы крикнули англичанам: «Всыпьте им как следует!»
Артиллерия обеих сторон располагалась на приличном удалении от передовой и постоянно угрожала хрупкому сотрудничеству между пехотинцами в траншеях, разделенных лишь узкой нейтральной полосой, «ничейной землей». Один британский офицер описал такой случай с саксонским подразделением:
Я пил чай с ротой А, когда мы услышали громкие крики и пошли посмотреть, что там творится. Смотрим: стоят наши и немцы, каждый на своем бруствере. Вдруг – залп, но без потерь. Само собой, все попрятались, наши давай костерить немцев, и тут один храбрый фриц вскакивает на бруствер и орет: «Простите, пожалуйста! Надеемся, никто не пострадал. Мы не виноваты, это все чертова прусская артиллерия!»[15]
Порой солдаты устраивали обмен сообщениями на табличках, которые высовывали из окопов. Одно из таких сообщений, адресованное бойцам Восточно-Суррейского полка, гласило: «Не стреляйте, вы слишком меткие!» Кроме того, послания передавали и внутри обезвреженных снарядов – в этом случае от адресатов требовалась, должно быть, изрядная доля доверия. Поэт Роберт Грейвс рассказывал, что капралы его батальона Королевских Уэльских фузилёров однажды получили приглашение на обед от своих немецких коллег – в разряженной гранате.
Таблички и дружеские послания внутри снарядов – это, конечно, хорошо, но слишком уж явно. Нужно было убеждать командование, что вражда никуда не делась, даже если кое-кто из офицеров и смотрел на это сквозь пальцы. Поэтому солдаты превращали обстрелы вражеских позиций едва ли не в ритуал, зная, что неприятель поймет их миролюбивые намерения по самой предсказуемости атак. Полковник Джонс из 48-й дивизии через несколько дней после прибытия на фронт обнаружил, что немцы обстреливали его траншею согласно строжайшему ежедневному расписанию. Благодаря этому он мог точно предсказать, где и когда упадет следующий снаряд. Это позволяло ему красоваться перед начальством, идя на риск, который мог показаться чудовищным, – но на деле Джонс знал, что он в совершеннейшей безопасности. Медаль за храбрость полковник, может, и не заслужил, а вот за доверие к намерениям противника – безусловно.
Когда солдат на передовой сменяли товарищи из тыла, последним сразу же сообщали местные правила:
[Французские союзники] объяснили мне, что у них был своеобразный код, и неприятель прекрасно его понимал: они стреляли дважды в ответ на один вражеский выстрел, но никогда не открывали огонь первыми[16].
Эти подробности о «мирной» стороне окопной войны на Западном фронте я почерпнул из замечательного исследования историка Тони Эшворта. Он описал систему «живи и дай жить другим», основываясь на свидетельствах солдат всех воюющих сторон[17]. Труд Эшворта представляет интерес не только с исторической точки зрения – это классический пример того, как между противниками при определенных условиях способно возникнуть сотрудничество. Эти условия применимы к огромному числу самых разных ситуаций – от эволюции конфликтов в животном мире до рыночной экономики.
Чтобы понять, при каких условиях противники способны пойти на сотрудничество, обобщим ситуацию на Западном фронте как противостояние оппонентов, каждый из которых должен решить, сотрудничать со второй стороной или нет. Формально это игра, потому что, как в шахматах, выигрышная стратегия игрока определяется действиями соперника. Термин «игра» здесь не подразумевает, что речь о спортивном состязании, исход которого не так уж важен. Этот особый тип игры, известный как дилемма заключенного, отличается от шахмат и других подобных игр тем, что сотрудничество позволяет победить обоим игрокам. В шахматах же победа одного (+1) непременно означает проигрыш другого (–1). Сумма равна нулю, поэтому шахматы – так называемая игра с нулевой суммой.
На Западном фронте ставка была высока: жизнь или смерть. Очевидно, что наилучшим – беспроигрышным – исходом для обеих сторон было одновременное выживание. Еще одно отличие от шахмат заключается в том, что в дилемме заключенного игроки в каждом раунде решают, как поступить, а затем делают ход одновременно. На фронте «сотрудничать» означало «не атаковать», а если и стрелять, то так, чтобы ни в кого не попасть, – иными словами, избежать причинения ущерба. Для двух игроков возможны четыре сценария, четыре комбинации действий (см. табл. 1).
У каждого действия свои последствия, или исход, – в зависимости от того, что предпримет противник. Давайте ранжируем результаты от лучшего к худшему для любого игрока, британца или немца. Начнем с того, что атака на сотрудничающего противника должна давать наибольший выигрыш: если убить врага раньше, чем он тебя, ты победил. Этот исход обозначим T (temptation) – соблазн атаковать, то есть не сотрудничать. И наоборот, попасть под атаку, решив сотрудничать, – худший расклад: в итоге ты мертв. Это S – исход простофили (sucker).
Табл. 1. Четыре возможных сценария (комбинации игры) дилеммы заключенного в стиле Западного фронта
Итак, мы определили наилучший (T) и наихудший (S) исходы из четырех сценариев, но какие из двух оставшихся займут второе и третье места? На втором разумнее всего разместить взаимное сотрудничество: ни одна сторона не терпит урона от другой. Это исход R, который называется наградой (reward) за сотрудничество, и по правилам дилеммы заключенного R должно быть больше, чем среднее арифметическое T + S. Это условие подчеркивает, что перед нами игра не с нулевой суммой («если я выиграл, ты должен проиграть»), – ведь при взаимном сотрудничестве в выигрыше обе стороны. Завершим ранжирование сценариев: логично, что последствия взаимного нападения будут хуже, чем последствия взаимного сотрудничества: ведь во втором случае каждый причиняет ущерб другому. Значит, на третьем месте исход P – наказание (penalty) за взаимную атаку.
В базовой версии игра состоит из единственного отдельного раунда. В этом случае у вас нет информации о том, как поступит противник: безопаснее всего будет предположить, что человек, направивший на вас пулемет, убьет вас, если вы его не опередите. Он, разумеется, думает так же. Прогнозируемый исход – взаимная атака и взаимный ущерб. Обдумывая свою стратегию заранее, вы оказываетесь перед дилеммой. Рациональный ход – атаковать: ведь именно этого вы ожидаете от противника. Нельзя же рисковать и попасться на удочку сотрудничества! Но дилемма в том, что взаимное сотрудничество выгоднее взаимной атаки (R > P). Рискнете?
Умы генералов, планировавших операции на Западном фронте в начале войны, занимало, разумеется, скорее нападение, чем сотрудничество. Обе стороны были уверены в своей победе и в том, что все закончится к Рождеству 1914 года. Это оказалось большой ошибкой. Как только противники зарылись в траншеи, обстановка кардинально изменилась. Во-первых, из-за тупиковой ситуации противостояние затянулось, и никто не знал, когда ему придет конец. Во-вторых, между пехотинцами по обе стороны нейтральной полосы неизбежно возникала связь, что позволяло им проникнуться взаимным сочувствием и доверием. Когда игра происходит многократно, это называется повторяющейся дилеммой заключенного (ПДЗ), и ее результат сильно отличается от базового однократного варианта. Исходы остаются теми же, но, если ни одна из сторон не способна нанести другой фатальный удар и противникам приходится встречаться снова и снова, требуется стратегия для максимизации долгосрочной выгоды. Но какой должна быть эта стратегия? Может ли она привести к сотрудничеству?
Этот вопрос политолог Роберт Аксельрод задал в конце 1970-х годов. Он предложил ученым представить решения в виде компьютерных программ, которые будут играть друг против друга, используя различные стратегии. Победителя должен был определить турнир[18]. В этом состязании столкнулись всевозможные сложные стратегии, но неизменно лучшей оказывалась простейшая из них: «око за око» (Tit-for-Tat, TfT). Она предполагает, что игрок на первом ходу выбирает сотрудничество, а затем просто повторяет предыдущий ход противника. Если оппонент атаковал, TfT атакует в ответ; если он решил сотрудничать, TfT тоже идет на сотрудничество. Более сложные стратегии, приблизившиеся к успеху TfT, проявили себя так хорошо именно потому, что сотрудничали с ней и тем самым ей помогали. Мораль турнира оказалась столь же ясной и простой, как и сама победившая стратегия: сотрудничество окупается.
Признаки стратегии «око за око» можно углядеть во взаимодействии между двумя сторонами окопной войны. Солдаты часто предлагали противнику сотрудничество: обе стороны шли на него, когда могли, но каждая отвечала ударом на удар. Таким образом, даже в самом кровавом конфликте современности сотрудничество на линии фронта нередко оказывалось возможным. Почему же оно не вылилось в мир? Все просто: ему мешали командиры. Они были уверены, что смогут победить, и не считались с жертвами. Как в том стихотворении Зигфрида Сассуна[19]:
«С добрым утром, ребята!» – сказал генерал,
- Когда наш батальон к Аррасу шагал.
- Мало кто уцелел из этих ребят —
- В нашем штабе бездарные свиньи сидят.
- Джек винтовку свою и мешок волочил.
- «Вот веселый дедок!» – Гарри Джеку твердил.
- Но приказ старика их обоих убил.
Ситуации, подобные дилемме заключенного, возникают везде, где сталкиваются двое и встают перед выбором – сотрудничать или нет. Солдатам на Западном фронте не нужно было подглядывать в учебник по теории игр, чтобы сообразить, как увеличить свои шансы выбраться живыми. Тем более что теорию игр тогда еще не придумали. Суть в том, что индивиды, преследующие собственные интересы, в один прекрасный миг могут обнаружить, что сотрудничают с недавними противниками. Это первый намек на то, как эгоизм – то есть простое стремление к собственному благу – способен привести к кооперации.
Человеческое сотрудничество очень часто возникает благодаря такому «просвещенному эгоизму». И все же пока непонятно, как объяснить тот бескорыстный альтруизм, который проявили «Кроты из Тлателолько» во время землетрясения в Мехико. Может быть, в склонности людей к взаимопомощи есть нечто более глубокое? Существует некий биологический импульс, побуждающий нас сотрудничать? И если он существует, то откуда он взялся и как эволюционировал? Это и есть наш главный вопрос: ведь именно эволюция путем естественного отбора привела нас туда, где мы находимся сейчас. Каким образом естественный отбор, благоприятствующий любой наследуемой черте, которая дает преимущество в выживании и размножении, мог взрастить в нас явно бескорыстную готовность помогать другим?
2
Река сияющего света
Санкт-Петербург, 30 июня 1876 года, четыре часа пополудни. У открытого окна небольшого домика стоит скрипач: смычок замер над струнами. Музыкант ждет сигнала. И вот знак подан – не взмахом дирижерской палочки, а переданным по цепочке сообщением: «Все чисто». Его посылают друг другу анархисты-заговорщики, выстроившиеся в дозор вдоль дороги на протяжении трех с лишним километров. Каждый из них – часовой, следящий за тем, чтобы ничто не помешало карете промчаться во весь опор по намеченному маршруту. Ни одна неповоротливая крестьянская телега с тяжелым грузом не должна оказаться у нее на пути. Одному из часовых поручено прохаживаться взад-вперед по своему участку с носовым платком в руке, другому – сидеть на придорожном камне, поедая вишни. Этими вроде бы невинными жестами они подают условные знаки, стараясь не привлечь внимания царской охранки.
В четыре часа с небольшим приходит сообщение «Все чисто», и скрипач начинает играть бравурную мазурку. Напротив домика – двор тюремной больницы. Услышав условный музыкальный сигнал, заключенный, прогуливающийся по двору, сбрасывает тяжелый арестантский бушлат и бросается бежать к открытым воротам. О плане побега ему сообщили всего двумя часами ранее в зашифрованной записке, спрятанной в карманных часах. Охранник устремляется в погоню, швыряя в беглеца винтовку со штыком, но узник, хоть и слабый после двух лет заточения, все же опережает преследователя и невредимым достигает ворот. Он проскакивает мимо караульного солдата, который, по счастью, отвернулся, увлекшись беседой с приветливым прохожим – еще одним заговорщиком. Они обсуждают… как устроен микроскоп: солдат раньше работал в больничной лаборатории. Выбежав за ворота, беглец видит поджидающий экипаж, но с тревогой замечает, что кучер в военной фуражке. Уж не ловушка ли это? Он хлопает в ладоши, привлекая внимание. Кучер оборачивается: это друг! Кучер, в свою очередь, тоже узнает беглеца – князя Петра Кропоткина.
Поздним вечером весь Санкт-Петербург гудит. Сам царь приказывает немедленно найти Кропоткина, но друзья князя все предусмотрели. Облачившись в цилиндр и фрак, сбрив бороду, князь скрывается у всех на виду, ужиная с приятелями в модном ресторане: охранке и в голову не приходит туда наведаться. Но оставаться в России Кропоткину нельзя: в городе повсюду расклеены его портреты, всех его друзей уже допросила тайная полиция. С чужим паспортом, переодевшись в военную форму, он бежит через Финляндию в Швецию, а оттуда через Норвегию в Британию, которая уже стала пристанищем для Карла Маркса и других политических изгнанников.
Побег Кропоткина из российской тюрьмы – яркий пример командной работы и альтруизма. В заговоре с целью освобождения князя участвовали 20 человек, и все они рисковали разделить его участь: сесть в тюрьму, отправиться в ссылку – и это в лучшем случае[20]. Впрочем, как бы ни был драматичен этот эпизод, у Кропоткина есть еще более веские основания претендовать на место в истории сотрудничества благодаря книге, которую он впоследствии написал в эмиграции, – «Взаимная помощь»[21].
Рис. 3. Петр Кропоткин
Князь Петр Кропоткин (1842–1921) происходил из высших кругов русской аристократии. У его отца, генерала, было более 1200 крестьянских душ, но Петра воспитывали заботливые крепостные слуги, чья доброта и сердечность оставили неизгладимый след в его характере[22]. В 20 лет, окончив Пажеский корпус, Кропоткин был произведен в офицеры, но отказался от службы в гвардии, добровольно выбрав назначение в Сибирь, в одну из казачьих частей. Он надеялся, что в этом суровом краю сможет дать волю своему увлечению естественной историей и географией. Вдохновленный недавно опубликованным трудом Дарвина «Происхождение видов», он ожидал увидеть в Сибири свирепую конкуренцию между дикими животными. Однако его поразило другое: насколько звери зависят от сородичей не только в отношении размножения, но и в том, что касается самозащиты и добычи пищи. К тому времени уже было хорошо изучено, как тесно сотрудничают муравьи и пчелы в своих колониях, но Кропоткин обнаружил и другие примеры. Скажем, жуки-могильщики, обычно живущие особняком, объединяются с «коллегами», а порой и с жуками других видов, чтобы закапывать трупы мелких животных – дом и пищу для своих личинок[23].
Кропоткин провел в Сибири пять лет. Он сделал важные научные наблюдения и опубликовал их результаты, но также воочию увидел, как упорно российское государство противится любым попыткам улучшить жизнь сибиряков. Этот опыт укрепил его в мысли, что справедливости для масс можно добиться лишь одним способом: полностью упразднив государство и заменив его сетью стихийно возникающих и самоорганизующихся сообществ. Вернувшись в Санкт-Петербург, Кропоткин развернул агитацию за свои анархистские идеи, за что был арестован и заключен в мрачную Петропавловскую крепость. Спустя два года ему удалось совершить уже описанный дерзкий побег.
Русские эволюционисты, которые, как и Кропоткин, не понаслышке знали о суровости отечественного климата и его губительном влиянии на все живое, поэтому были склонны толковать дарвиновскую борьбу за существование как испытание на прочность перед лицом неумолимых сил природы[24]. Однако, перебравшись в густонаселенную Англию с ее более мягкими природными условиями, Кропоткин обнаружил, что здешние ученые, такие как Томас Генри Гексли, рассматривают эту борьбу скорее как соперничество за ресурсы между представителями одного вида, а не как противостояние с внешней средой. На воззрения англичан сильно повлиял труд преподобного Томаса Мальтуса «Опыт закона о народонаселении»[25]. По мысли Мальтуса, человеческая популяция всегда растет до предела, обусловленного доступными пищевыми ресурсами, после чего природа берет свое[26]. Книга Мальтуса вдохновила Чарлза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса, которые установили, что описанный в ней принцип применим ко всем живым существам.
Дарвин и Уоллес независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу: естественный отбор будет способствовать распространению в популяции любого наследуемого признака, дающего его носителю преимущество в борьбе за существование. Именно это и приводит к эволюционным изменениям видов.
Работа Гексли «Борьба за существование в человеческом обществе» своей гоббсовской жестокостью неприятно поразила Кропоткина, который к тому времени уже снискал некоторую известность в Англии как писатель и журналист. Гексли писал:
[Можно было] сказать о древнем человеке в его «диком» состоянии: слабейшие и глупейшие погибали, тогда как самые стойкие и хитрые, лучше всех приспособившиеся к обстоятельствам, пусть и не лучшие ни в каком ином отношении, – выживали. Жизнь была нескончаемой схваткой, и за пределами ограниченных и временных семейных уз гоббсовская война всех против всех была нормой существования[27].
Иными словами, общество возникает вопреки естественному отбору, а не благодаря ему. Полученное в России образование, собственные непосредственные наблюдения в Сибири и, разумеется, анархистские взгляды – все это сподвигло Кропоткина написать серию статей о сотрудничестве и эволюции в ответ Гексли. Эти статьи впервые вышли во влиятельном литературном журнале The Nineteenth Century, а затем были собраны воедино в его книге «Взаимная помощь», опубликованной в 1902 году[28]. Этот классический труд, представляющий собой пространный исторический обзор проявлений взаимопомощи в истории человечества, изобилует примерами сотрудничества и социальной организации среди животных. Объединение примеров из жизни животных и людей под одной обложкой сильно напоминает позднейшие работы Дарвина, в которых подчеркивается эволюционная преемственность.
Эмигрировав из России, Кропоткин 40 лет прожил в Западной Европе, по большей части в Англии, однако несколько раз побывал в Соединенных Штатах с длительными лекционными турне. К моменту свержения ненавистного царского режима в ходе Февральской революции 1917 года он был уже немощным стариком, но не мог оставаться в стороне от того, что казалось воплощением мечты всей его жизни о свободе для русского народа. Он покинул Великобританию под чужим именем, но слух об этом разлетелся, и во время путешествия на восток знаменитого писателя и радикала на каждой станции встречали восторженные толпы. Когда в два часа ночи поезд Кропоткина подъехал к Финляндскому вокзалу, к конечной точке пути на родину, его приветствовали военный оркестр, игравший «Марсельезу», и 60-тысячное людское море.
Но обещания революции не сбылись. В последовавшей борьбе за власть победили большевики во главе с Лениным, добившись абсолютного господства. Кропоткин язвительно говорил: «У революционеров были идеалы. У Ленина их нет… Вещи, называемые добром, и вещи, называемые злом, для него одинаково бессмысленны». Анархистов и других политических противников большевиков расстреливали, но Кропоткина пощадили – судя по всему, было очевидно, что он долго не протянет, а его убийство вызовет международный резонанс. Он умер под Москвой в феврале 1921 года. Английский поэт и анархист Герберт Рид позже написал о его смерти:
Река сияющего света
- текла в разверстую могилу
- будто весь свет в мире перелился
- вместе с его гробом
- в русскую землю.
Кропоткин боготворил Дарвина и полагал, что взаимопомощь среди особей одного вида полностью согласуется с эволюционной теорией. Хоть это и верно, Кропоткин все же упустил нечто важное. Естественный отбор благоприятствует наиболее приспособленным особям, которые оставляют больше потомства. Аргумент Кропоткина – взаимопомощь возникает в результате борьбы за существование – основывался на преимуществах, которые эта борьба дает группе, а не отдельной особи. Кропоткин осознавал это различие, но не увидел, что, сместив акцент с особи на группу, он подорвал объяснительную силу теории естественного отбора[29]. Впрочем, многие после него угодили в ту же ловушку, полагая, например, что естественный отбор действует на благо вида. Это не так, и нетрудно понять почему, если внимательнее рассмотреть пример, приведенный в книге Кропоткина «Взаимная помощь».
Кропоткин описал жуков-могильщиков, объединяющихся для захоронения трупов, которыми будет питаться их потомство, и с тех пор ученые многое узнали о жизни этих насекомых. Исследования показывают: действия, кажущиеся выгодными для группы, производятся лишь тогда, когда есть выгода и для особи. Как и предполагал Кропоткин, жуки сотрудничают, потому что один жук не может самостоятельно закопать труп, а сделать это нужно быстро, пока труп – настоящий пир для бактерий и грибков – не сгнил. К тому же падаль – лакомый кусочек для ворон, лис и других животных, а мухи всегда готовы отложить яйца и заразить труп своими личинками. Защита ценного ресурса от такого множества конкурентов может стать для жуков-могильщиков мощным стимулом к сотрудничеству.
Раскапывая почву под мертвым животным, чтобы спрятать его, жуки также очищают его от перьев или шерсти, придавая трупу форму шара и нанося на него слой слизи. Такое покрытие представляет собой в основном экскременты жука, обогащающие труп бактериями из кишечника насекомого, которые подавляют рост других бактерий – гнилостных, они в свою очередь быстро превратили бы труп в разложившуюся массу[30]. Этот слой не только сохраняет плоть, но и подавляет запах разложения, привлекающий мух. Жуки удаляют с трупа отложенные мухами яйца. Впрочем, если труп изрядно заражен личинками, жуки-могильщики проявляют меньший интерес к его колонизации[31].
Забальзамированный труп становится съедобным подземным гнездом, где могут вместе расти несколько выводков личинок жуков. Самых юных личинок кормят кусочками туши взрослые особи обоих полов. Это может показаться идиллической картиной домашнего благополучия, пусть и в духе семейки Аддамс, – но сотрудничество между взрослыми, заботящимися о подрастающем поколении, не безусловно. Жуки объединяются только тогда, когда совместная родительская забота выгодна отдельной семье или когда жуки не могут различить, какие личинки их собственные, а какие – чужие.
Если туша настолько мала, что ее может захоронить одна пара жуков-могильщиков, они не делятся ресурсом, а отгоняют других жуков, пытающихся отложить свои яйца в будущее «гнездо». Но есть еще одна ситуация, когда обычно враждебные жуки-могильщики сотрудничают друг с другом: наличие конкуренции. Туши, поедаемые личинками мух, издают характерный неприятный запах из-за соединения под названием диметилдисульфид (DMDS). Одного присутствия DMDS в воздухе достаточно, чтобы побудить жуков-могильщиков к сотрудничеству[32]. Для жука-могильщика DMDS – это громкая сирена, предупреждающая о необходимости объединиться перед лицом общего врага.
Такое поведение жуков-могильщиков иллюстрирует одну из простейших ситуаций, когда сотрудничество возникает благодаря естественному отбору: прямую выгоду для сотрудничающих. Вникнув в детали их естественной истории, мы ясно видим, что жуки сотрудничают только тогда, когда это выгодно лично для каждого из них. Как и у солдат в окопах, сотрудничество среди жуков-могильщиков условно. Альтруизмом как таковым здесь и не пахнет. Более того, если бы имелся гипотетический ген, который заставлял бы самку жука-могильщика помогать другой самке, не откладывая при этом собственных яиц, то, очевидно, такой ген альтруизма не смог бы передаваться дальше. В этом и заключается сложность объяснения возникновения альтруизма в процессе эволюции: создается впечатление, что мы зашли в тупик.
Казалось бы, где жуки-могильщики, а где «Кроты»-спасатели… Но мы знаем, что альтруизм и сотрудничество без прямой выгоды – реальные явления, не в последнюю очередь у представителей нашего собственного вида. А среди социальных пчел и муравьев есть стерильные самки-рабочие, которые всю свою недолгую жизнь собирают пищу для матки – единственной особи, способной к размножению. Мир людей и мир животных полны примеров взаимопомощи, Кропоткин был прав – даже если он не смог увязать самые крайние ее проявления с естественным отбором. Но, может быть, эта проблема решается иначе?
3
От эгоистичных генов к социальным существам
Моряки вынуждены действовать сообща. Это единственный способ выжить посреди полной опасностей морской стихии. И особенно это справедливо для тех, кто ведет суровую жизнь пирата… Во времена так называемого золотого века пиратства (середина XVII – начало XVIII вв.) экипажи пиратских судов представляли собой удивительно сплоченные коллективы. Команды численностью более 100 человек не были редкостью. Знаменитый капитан Черная Борода как-то набрал больше 300 головорезов[33]. Как же добиться слаженности действий и избежать раздоров в такой огромной банде, запертой на тесном деревянном судне? Ответ может показаться неожиданным, поскольку он идет вразрез с расхожими представлениями. В самом деле, разве пираты не самые жадные, жестокие и эгоистичные люди на свете?
Экипажами торговых судов, становившихся добычей пиратов, управляли посредством страха и телесных наказаний. Капитан мог вытворять с командой чуть ли не все, что ему вздумается, лишь бы держать ее в узде, – и частенько пользовался этой властью. Пираты же, напротив, направляли свою жестокость в основном вовне, а не друг на друга. Пиратские корабли, захваченные у законных владельцев, принадлежали всей команде. Капитан считался первым среди равных: он жил в тех же условиях и ел ту же пищу, что и остальные (женщины-пираты, конечно, существовали, но их было крайне мало). Капитана выбирала сама команда, причем она же могла его и сместить, и даже наказать – например, за трусость или жадность.
На пиратских судах существовало разделение полномочий, которое позволяло еще эффективнее предотвращать злоупотребления, – задолго до того, как этот принцип взяли на вооружение демократические государства. Вне боевого режима дисциплину поддерживал не капитан, а квартирмейстер (эта должность также была выборной). Словом, у пиратов жилось настолько лучше, чем на торговых судах, что каждое нападение не только приносило добычу, но и обеспечивало приток новобранцев – из числа матросов.
Пираты не только практиковали разделение полномочий – у них была и своя «конституция»: свод правил, гарантировавший каждому право голоса, честную долю пропитания (включая спиртное) и добычи, а также компенсацию в случае ранения или увечья. Существовали и правила поведения на борту: никаких женщин, никаких азартных игр, никакого открытого огня вблизи крюйт-камеры, где хранился порох, никаких драк, отбой – строго в восемь вечера. Наказывали за нарушение этих правил порой сурово, но, в отличие от торговых судов, произвола не было. Пиратские «конституции» намеренно составлялись так, чтобы способствовать сотрудничеству и поощрять стремление к справедливости среди членов команды. Или, как неодобрительно высказался один судья, пираты были «злонамеренно сплочены и связаны уставом»[34].
Анархист Петр Кропоткин, знай он о принципе, лежащем в устройстве пиратских сообществ, вне всякого сомнения, охарактеризовал бы его как «взаимопомощь». На примере торговых и пиратских судов мы видим два совершенно разных способа добиться того уровня сотрудничества, который необходим для успешного выживания в море: принуждение или общность интересов. Удивительно, пожалуй, то, что именно пираты выбирали путь единой цели и взаимной выгоды.
Пираты со своим отбоем в восемь вечера – еще не самые опасные «командные» хищники в открытом море. Этот титул по праву принадлежит другому хищнику: особи этого вида тоже склонны объединяться в «злонамеренно сплоченные» коллективы. Речь о португальском кораблике. Внешне это существо напоминает медузу, но относится не к ним, а к родственному медузам отряду сифонофор. Сифонофоры – это не столько отдельные организмы, сколько колонии или плавучие поселения специализированных организмов, именуемых зооидами, общим предком которых был один-единственный основатель колонии. Зооидов сплачивает не пиратский кодекс, а общие гены, но в остальном сходство поразительное.
Колонию венчает особый модифицированный зооид: заполненный газом пузырь, удерживающий всех на плаву[35]. На пузыре красуется высокий тонкий прозрачный гребень с фиолетовой каймой – настоящий парус, под которым колония рассекает волны. Любопытно, что если у людей есть ведущая рука, то и у португальских корабликов имеется некое подобие «рукости»: у половины парус развернут вправо, у половины – влево, и этот признак закладывается еще на ранних стадиях эмбрионального развития. Ветер гонит «левшей» и «правшей» в противоположных направлениях. К нижней части пузыря (пнефматофора), расположенного над поверхностью воды, крепятся другие специализированные зооиды.
Среди них есть гастрозооиды, у которых имеется рот: они вырабатывают пищеварительные ферменты. Самостоятельно добывать пищу они не способны – эту задачу берут на себя ловчие зооиды (дактилозооиды), вооруженные длинными (до 30 м!) щупальцами. Щупальца, можно сказать, нашпигованы стрекательными клетками: коснувшись рыбы или другой мягкотелой жертвы, они парализуют ее посредством особого токсина. А затем, сокращаясь, как пружина, подтягивают добычу к поверхности – прямо ко ртам изголодавшихся гастрозооидов. В момент захвата добычи гастрозооиды начинают извиваться, разевая рты, словно ненасытные змеи Горгоны Медузы. Один ученый описал, как 50 гастрозооидов облепили рыбу длиной в 10 см и заглотили ее. Ферменты, выделяемые гастрозооидами, быстро превращают пойманную добычу в питательный «суп», который изливается в общую полость, где все зооиды колонии могут разделить трапезу.
Размножение у португальского кораблика – тоже делегированная функция. Она возложена на особых репродуктивных зооидов (гонофор), производящих сперму или яйцеклетки (в зависимости от пола колонии). Эти зооиды собраны в структуру (гонодендрон), которую, если провести аналогию с космическим кораблем, можно было бы назвать «посадочным модулем». Созрев, такой «модуль» действительно отделяется от колонии. Но репродуктивные зооиды не единственные его пассажиры. Там же располагаются маленькие щупальценосные зооиды, некоторое количество прожорливых гастрозооидов, нектофоры, двигатели гонодендрона (медузоиды, которые, сокращаясь, создают ток воды) и несколько студенистых полипов. Никто толком не знает, за что отвечают эти полипы, – но ведь в любой большой команде у кого-то есть такая загадочная роль, верно? Если бы мы, на манер пиратов, решили составить кодекс для португальского кораблика, он выглядел бы примерно так:
1. Куда дует ветер – туда и плывем; налево или направо – решает Капитан Пузырь.
2. Все зооиды – равноправные совладельцы генома.
3. Вся добыча – общая.
4. Никакого секса на борту!
И у пиратов на корабле, и у зооидов в колонии португальского кораблика сотрудничество зиждется на одном и том же принципе: на общности интересов. Пиратская команда на равных владела судном, и каждый пират получал равную долю добычи. Зооиды же в колонии – генетические клоны, у них общие гены и, следовательно, общая (и равная) заинтересованность в процветании колонии. И неважно, кто за что отвечает – за поддержание плавучести, ловлю добычи, пищеварение, движение, размножение или… в общем, за то, чем занимаются студенистые полипы. Вопрос в том, насколько принцип общности интересов объясняет кооперацию у других живых существ.
Перейдем к наземным животным. Колониальную структуру, схожую с португальским корабликом, мы видим у пчел, ос и муравьев – так называемых общественных перепончатокрылых. Возьмем, к примеру, европейскую медоносную пчелу. В этих семьях бесплодные рабочие самки заняты добычей пищи и заботой о потомстве, а откладывание яиц – исключительная прерогатива матки. А самцы (трутни) только с ней спариваются. Похожее разделение труда встречается у муравьев – с той разницей, что у некоторых видов есть еще и каста «солдат», специализирующихся на защите муравейника.
Если трутни – воплощение мужской праздности, то рабочие пчелы – прямо-таки викторианский идеал женской добродетели: усердно трудятся на благо улья и никогда не предаются плотским утехам. С точки зрения биологии рабочая пчела – альтруистка до мозга костей: одни затраты, никакого потомства. Такую семейную структуру, при которой бесплодная каста помогает растить и защищать чужих детенышей, называют эусоциальной. Эусоциальный организм – это команда, которая, как единое целое, передает свои общие гены следующим поколениям.
Но как вообще возникла эусоциальность? Ведь естественный отбор благоприятствует генам, кодирующим поведение, которое увеличивает представленность этих же генов в будущих поколениях. Альтруисты же действуют с точностью до наоборот: помогают другим в ущерб себе. «Этот случай, – писал Чарлз Дарвин о своих попытках объяснить подобное самопожертвование, – представляет собой одно из самых серьезных специальных затруднений для моей теории»[36]. Как вообще могут эволюционировать существа, не оставляющие потомков? У Дарвина был ответ.
Он заметил, что все члены колонии общественных насекомых принадлежат к одной семье и, следовательно, у них общие гены (если говорить современным языком). Поведением рабочих пчел управляют те же гены, которые передает будущим поколениям другой член команды, специализирующийся на размножении, – матка. Если все члены колонии генетически идентичны (как в случае с сифонофорами), принцип понятен. Общественные перепончатокрылые в этом смысле похожи на сифонофор: они живут колониями, состоящими из специализированных особей, по большей части бесплодных. Но есть и важное отличие. Если зооиды в колонии полностью генетически идентичны, то насекомые в своем улье или муравейнике – нет.
Рабочие пчелы – сестры. В среднем они разделяют половину своих генов друг с другом и с маткой (их матерью). Значит, половина усилий каждой рабочей пчелы идет на благо генов, которых у нее самой нет. Выходит, Дарвин ошибался? Ключ к ответу мы находим в шутке британского биолога Дж. Б. С. Холдейна: он как-то обмолвился, что готов пожертвовать жизнью ради двух братьев или восьмерых кузенов. У родных братьев и сестер (если точнее, у полнородных сиблингов, то есть потомков одних родителей) общих генов – половина. Значит, если один брат пожертвует собой ради двух других, с чисто генетической точки зрения это равносильно спасению самого себя. Двоюродные же братья и сестры разделяют лишь 1/8 генов. Отсюда и шутка Холдейна: нужно спасти ни много ни мало – целых восьмерых кузенов, чтобы «окупить» самопожертвование. (Кстати, сам Холдейн был отчаянным смельчаком: он и вправду, не считаясь с ущербом для себя, не раз рисковал жизнью ради других. Но об этом потом, а сейчас давайте сосредоточимся на генах.)
Прошло 10 лет, прежде чем непростая шутка, отпущенная Холдейном в пабе, в кругу студентов, превратилась в настоящую научную теорию – теорию социальной эволюции, описывающую законы, по которым живут сообщества животных. Cразу два ученых пришли к ней независимо друг от друга.
В 1964 году Уильям Д. Гамильтон сформулировал концепцию совокупной (или инклюзивной) приспособленности, объясняющую коллективную выгоду от социального поведения среди родственников. Он вывел простое правило: ген, кодирующий помощь сородичу, будет распространяться, если затраты того, кто помогает, меньше, чем выгода для получателя, умноженная на степень родства[37]. Вернемся к шутке Холдейна. Цена помощи – одна жизнь, выгода братьев – две жизни (по одной каждому), родство – 1/2. Обе части уравнения в точности равны: 1 × Дж. Б. С. Х. = (2 брата) × 1/2. Нашелся бы, конечно, дерзкий студент, готовый поправить светило науки: «Вообще-то, профессор, не совсем так. Чтобы ген распространился, затраты должны быть меньше выгоды, а не равны ей»[38]. Замечание, конечно, справедливое, но если умничать в пабе, то потом весь вечер приходится проставляться.
В том же 1964 году Джон Мейнард Смит, учившийся генетике у Холдейна (собственно, он и пересказал ту шутку, брошенную в пабе), предложил термин «родственный отбор», или «кин-отбор». Так он назвал особую форму естественного отбора, действующую на семьи, – ту самую, о которой писал Дарвин. Смит показал, что родственный отбор объясняет эволюцию большинства форм социального поведения, а вот популярные тогда альтернативные объяснения, основанные на «благе вида» или на «благе группы», несостоятельны[39]