Падение империи
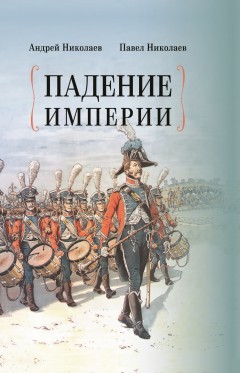
© Николаев А.П., Николаев П.Ф., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Книга первая
От Немана до Парижа
Считается, что империя Наполеона развалилась в результате освободительной войны 1813–1814 годов. Её вела Россия в союзе с Австрией и Пруссией. Зарубежный поход русской армии был, по существу, продолжением Отечественной войны, итоги которой завоеватель подвёл так:
– От великого до смешного только шаг.
Академик В.Е. Тарле удивлялся:
– Что он нашёл смешного в гибели сотен тысяч солдат и офицеров? В провале своих честолюбивых планов покорения России?
В том-то и дело, что не было у великого завоевателя таких планов. Россия была нужна Наполеону как надёжный и достаточно сильный союзник в борьбе против Англии. Она была нужна как транзитный пункт на пути в Индию. Выбив эту жемчужину из британской короны, Наполеон рассчитывал поставить Англию на колени. Поход в Россию был для завоевателя, выражаясь фигурально, местом для перекуса при дороге, ведущей в Дели. И это было достаточно хорошо известно.
Перед вторжением в Россию, беседуя с генералом Нарбоном, Наполеон обронил: «Хотите знать, куда мы идём? Мы покончим с Европой, затем по-разбойничьи набросимся на менее храбрых разбойников, чем мы, и завладеем Индией, хозяевами которой они стали.
Ещё в Акре я сказал себе, что путь Александра до Ганга был не более длительным. Ныне я должен, двигаясь от края Европы, захватить Индию с тыла, дабы поразить в самое сердце Англию.
Представьте себе, что Москва взята, царь умирает или же убит своими в результате дворцового заговора. Тогда можно будет основать новый, зависимый от нас трон, и скажите мне, не сможет ли французская армия, усиленная вспомогательными отрядами из Тифлиса, дойти до Ганга, чтобы там одним своим появлением разрушить всю пирамиду английского меркантилизма! Одним ударом Франция сломала бы независимость Альбиона и добилась свободы мореплавания!
Я ещё не готов к столь дальнему театру военных действий! Мне нужно ещё три года!»
То есть Индия была в поле зрения Наполеона с 1798 года, но в 1812-м он ещё считал себя не готовым к этому: нужен был серьёзный союзник, и с Россией он полагал возможным договориться после первого же генерального сражения.
В лице и в жизни арлекин
Наполеон или я, он или я»
В ноябре и декабре 1812 года перед армией и высшим кругом российского общества вплотную встал вопрос: продолжать военные действия или заключить мир с Францией, если Наполеон пойдёт на это?
За мирное разрешение конфликта были мать и жена Александра I, его брат Константин Павлович, министр иностранных дел Н.П. Румянцев, государственный секретарь А.С. Шишков, главнокомандующий Москвы граф Ф.В. Ростопчин и будущий «временщик» А.А. Аракчеев. Этот круг указывал на то, что центральная Россия разорена, страна понесла большие людские и материальные потери, и вообще, нам нет никакого смысла вмешиваться в дела Запада, пусть сами немцы и прочие разбираются.
Между тем Кутузов придерживался противоположного взгляда, считая, что война должна завершиться там же, где и началась, – на Немане. Помимо убеждения, что дальнейшее продолжение войны может быть выгодно только англичанам и немцам, к прекращению боевых действий его вынуждало катастрофическое сокращение численности армии: из 100 тысяч солдат, имевшихся у него под рукой в Тарутино, в Вильну вступили только 27 тысяч человек. Всё это вынудило Михаила Илларионовича просить Александра дать войскам отдых, иначе, предупреждал он, расстройство войск дойдёт до такой степени, что придётся создавать новую армию, и писал царю:
«Главную армию располагаю на время в тёплых квартирах, дабы иметь время присоединить к ней выздоровевших и отставших людей. Между тем признаться должно, что, ежели бы не приостановясь, а продолжить действия ещё верст на полтораста, тогда бы, может быть, расстройка дошла до такой степени, что должны бы, так сказать, снова составлять армию».
Ответом царя на эту просьбу было требование новых жертв: «Поверхность наша над неприятелем расстроенным и утомлённым, приобретённая помощью Всевышнего и искусными распоряжениями вашими, и вообще положение дел требуют всех усилий к достижению главной цели, несмотря ни на какие препятствия. Никогда не было столь дорого время для нас, как при нынешних обстоятельствах. И потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим».
18 января 1812 года указом Сената было поставлено призвать под знамёна 100 тысяч человек из списков этого года. Кроме того, повелевалось немедленно созвать конскриптов 1812 года, чтобы 150 тысяч подростков этого призыва могли в течение года окрепнуть в лагерной жизни.
Да, для царя было самоочевидно, что войну с Наполеоном необходимо продолжить. Это совершенно ясно из его беседы с фрейлиной Стурдзой, состоявшейся перед его отъездом из Петербурга в армию.
– Нынешнее время напоминает мне всё, что я слышал от этого необыкновенного человека в Тильзите. Тогда мы подолгу беседовали, так как он любил выказывать мне своё превосходство, говорил с любезностью и расточал передо мною блёстки своего воображения. Война, сказал он мне однажды, вовсе не такое трудное искусство, как воображают, и, откровенно говоря, иной раз трудно выяснить, каким образом удалось выиграть то или другое сражение. В действительности оказывается, что побеждён тот, кто последним устрашился, и в этом заключается вся тайна. Нет полководца, который бы не опасался за исход сражения; всё дело в том, чтобы скрывать этот страх как можно дольше. Лишь этим средством можно настращать противника, а затем дальнейший успех уже не подлежит сомнению. Я выслушивал, – продолжал государь, – с глубоким вниманием всё, что ему угодно было сообщить мне по этому поводу, твёрдо решившись воспользоваться тем при случае, и в самом деле, я надеюсь, что с тех пор мною приобретена некоторая опытность для решения вопроса, что нам остаётся делать.
– Неужели, государь, – заметила фрейлина, – мы не обеспечены навсегда от подобного нашествия? Разве враг осмелится ещё раз перейти наши границы?
– Это возможно, – сказал царь, – но если хотеть мира прочного и надёжного, то надо подписать его в Париже. В этом я глубоко убеждён.
Ну почему укрощать Наполеона должны русские? Почему Россия, пережившая нашествие почти всех народов Европы, должна ещё и благодетельствовать им? Словом, российская элита была против продолжения войны, но Александр, которого считали слабым царём, полностью зависимым от своего окружения, пошёл наперекор ему Почему? Откуда такая решимость у правителя, который ещё полгода назад собирался отступать до Камчатки?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, лежит на поверхности. Наполеон не просто потерпел поражение в России. Он потерял в ней 600 тысяч человек – утрата для начала XIX столетия немыслимая. По тому времени – это почти десяток полнокровных армий. Фактически враг был обезоружен, и не воспользоваться этим было просто глупо.
Что касается людских резервов России, то, по мнению царя, они были неограниченные. К тому же, полагал он, сегодняшние невольные союзники Наполеона (Австрия, Пруссия и германские государства) не замедлят переметнуться на сторону сильнейшего, то есть России. Значит, впереди несомненный успех и слава освободителей Европы. Всё это верно, но всё же, на наш взгляд, определяющую роль в решении Александра продолжить военные действия сыграла его личная ненависть к Наполеону, его эгоизм, его самовозвеличение.
Александр I мечтал о славе полководца и не мог простить военные успехи своему талантливому сопернику, тяжело перенёс позор Аустерлица. Но были и другие неприятные моменты в контактах царя и Наполеона, скрытые от широких масс, но хорошо известные в придворных кругах. Так, 21 марта 1804 года по приказу Наполеона был расстрелян герцог Энгиенский, выкраденный французской жандармерией с чужой территории.
Александр I заявил по этому поводу протест. Ответ был следующий: герцог Энгиенский арестован за участие в заговоре против Наполеона. А далее приводилось такое обоснование действий французских властей: если бы император Александр узнал, что убийца его отца находится хоть и на чужой территории, но вполне досягаемой, разве он воспротивился бы возможности отомстить ему? Это была оплеуха российскому самодержцу, лживому и подлому. Неслучайно А.С. Пушкин писал о его скульптурном портрете:
- Напрасно видишь тут ошибку:
- Рука искусства навела
- На мрамор этих уст улыбку,
- А гнев на хладный лоск чела.
- Недаром лик сей двуязычен.
- Таков и был сей властелин,
- К противочувствиям привычен,
- В лице и в жизни арлекин.
Эпиграмма «К бюсту завоевателя» при жизни А.С. Пушкина не печаталась, что, конечно, вполне объяснимо. Но нота Наполеона была документом официальным и быстро получила известность при всех дворах Европы.
Академик Е.В. Тарле писал по этому поводу: «Более ясно назвать публично Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их: ни Палена, ни Беннигсена, ни Зубова, ни Талызина и вообще никого из них, хотя они преспокойно сидели не на „чужой территории“, а в городе Петербурге и бывали в Зимнем дворце».
Беспринципность и аморальность Александра коробили его блестящего соперника, человека, тоже далеко не идеального. В Тильзите императоры обменивались высшими орденами своих держав. Царь опрометчиво попросил орден Почётного легиона для генерала Л.Л. Беннигсена, не называя причины, Наполеон категорически отказал. Александр понял свой промах и промолчал. Это была ещё одна пощёчина, нанесённая самодержцу. Наполеон же позднее говорил:
– Было противно, что сын просит награду для убийцы своего отца.
То, что являлось тайной за семью печатями в России, на Западе знали хорошо. Интересна подробность убийства Павла I, о которой тогда же узнал Наполеон: генерал Беннигсен был тем, кто нанёс последний удар; он наступил на труп.
Конечно, прославленный полководец и дворцовый шаркун не могли ужиться в одном пространстве.
Неслучайно в разговоре с флигель-адъютантом А.Ф. Мишо у Александра как-то вырвалось:
– Наполеон или я, он или я, но вместе мы существовать не можем!
Страх перед талантливым соперником и ненависть к нему помогли царю не спасовать и до конца выдержать борьбу с завоевателем.
К тому же Мишо Александр говорил, указывая на свою грудь:
– Я отращу себе бороду, вот до сих пор, и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири скорее, чем подпишу стыд моего Отечества.
И при таком настрое российского самодержца Наполеон продолжал бомбардировать его мирными предложениями. Всё было тщетно: 2 января 1813 года первые отряды армии П.В. Чичагова вступили в пределы Пруссии – Заграничный поход русской армии начался. В этот день М.И. Кутузов издал следующий приказ:
«Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу. Не было ещё примера столь блистательных побед. Два месяца сряду рука ваша каждодневно карала злодеев. Путь их усеян трупами. Токмо в бегстве своём сам вождь их не искал иного, кроме личного спасения. Смерть носилась в рядах неприятельских. Тысячи падали разом и погибали. Тако всемогущий Бог изъявлял на них гнев свой и поборал своему народу.
Не останавливаясь среди геройских подвигов, мы идём теперь далее. Прейдём границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдат. Они жгли дома наши, ругались святынею, и вы видели, как десница Всевышнего праведно отмстила их нечестие.
Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России».
4 января в Вильно прибыл Александр I. По свидетельству графини Шуазёль-Гуфье (Тизенгаузен), чтобы устранить от чувствительного государя вид бедствий, нанесённых войной, для проезда к городу подвели новую дорогу Весьма подробно графиня запечатлела внешность царя:
«В 1812 году Александру было тридцать пять лет. Несмотря на тонкие и правильные черты и нежный цвет лица, в нём прежде всего поражала не красота его, а выражение бесконечной доброты. Выражение это привлекало к нему сердца всех окружающих, сразу внушало полное к нему доверие. Он был очень хорошо сложён, но стан его, наклонённый немного вперёд на манер древних статуй начинал уже полнеть. Он был высокого роста, осанку имел благородную. Чисто голубые глаза его, несмотря на близорукость, смотрели быстро; в них просвечивал ум и какое-то неподражаемое выражение кроткости и мягкости. Глаза эти точно улыбались. Прямой нос был прекрасно очерчен, рот мал и приятен, весь профиль и оклад лица напоминали красоту его августейшей матери. Даже недостаток волос на лбу не портил этого лица, а придавал ему выражение открытое и весёлое. Золотисто-белокурые свои волосы он тщательно причёсывал на манер античный.
В его голосе и манере было бесчисленное множество оттенков; в разговоре со значительными особами Александр I принимал величественный вид, хотя был с ними весьма любезен; с приближёнными обходился весьма ласково; доброта его доходила иногда до фамильярности. С пожилыми дамами он был почтителен, с молодыми – грациозно любезен; тонкая улыбка мелькала на губах, глаза его принимали участие в разговоре.
Александр I
Слушая кого-нибудь, он подставлял слегка правое ухо, потому что, будучи ещё юношей, был оглушён залпом артиллерии и плохо слышал на левое ухо.
Ни одному живописцу не удалось передать вполне выражение лица государя. Правда, он и не любил снимать с себя портретов. Один только Жерар успел выпросить у него несколько сеансов; но и тут, несмотря на всё своё мастерство, не сумел передать характер лица государя. Он ему придал вид завоевателя, который вовсе не гармонировал с добрым выражением физиономии.
Скульптуре более посчастливилось, и я увидела бюст Александра, превосходно сделанный одним берлинским художником. Говорят, что Торвальдсену тоже удалось верно передать черты и выражения его лица».
К 6 января в России не оставалось уже ни одного вооружённого неприятеля, и в первый день Рождества Христова народу был объявлен манифест об окончании Отечественной войны.
«С сердечной радостью и горячею к Богу благодарностью, – гласил манифест, – объявляем Мы любезным Нашим верноподданным, что событие превзошло даже и самую надежду Нашу и что объявленное Нами, при открытии войны сей, выше меры исполнилось: уже нет ни единого врага на лице земли Нашей; или лучше сказать, все они здесь остались, но как? Мёртвые, раненые и пленные. Сам гордый повелитель и предводитель их едва с главнейшими чиновниками своими отселе ускакать мог, растеряв всё своё воинство и все привезённые с собою пушки, которые более тысячи, не считая зарытых и потопленных им, отбиты у него и находятся в руках Наших.
Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить.
Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего над войсками Нашими знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго Нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих.
Итак, да познаем в великом деле сем Промысел Божий. Повергнемся пред святым Его Престолом и, видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, вместо тщеславия и кичения о победах наших, научимся из сего великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли Его исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, врагов наших, которых тела в несметном количестве валяются пищею псам и воронам! Велик Господь наш Бог в милостях и во гневе своём! Пюйдём благостью дел и чистотою чувств и помышлений наших, единственным ведущим к нему путём, в храм святости Его и там, увенчанные от руки Его славою, возблагодарим за излитые на нас щедроты да припадём к Нему с тёплыми молитвами, да продлит милость свою над нами и прекратит брани и битвы, ниспошлёт к нам побед победу, желанный мир и тишину».
Итак, из царского манифеста следовало, что победа в Отечественной войне была одержана благодаря промыслу Господню. Эта мысль подчёркивалась и наградными медалями, на которых было выбито: «Не нам, не нам, а имени Твоему», то есть Богу.
Александр в самом начале войны был вынужден оставить армию, в боевых действиях не участвовал. Но ему очень не хотелось отдавать должное за победу над Наполеоном тем, кто действительно выиграл войну: командному составу армии, рядовым солдатам, народу.
И он нашёл удовлетворявшее его объяснение свершившемуся – Божий промысел[1].
– До 6 ноября я был властителем над Европой, – убеждал Наполеон Прадта, добравшись 10 декабря до Варшавы. Но пасовать император не собирался и заявил своему представителю в Польше: – Вы, кажется, обо мне беспокоились? Вздор, пустяки, у меня ещё 120 тысяч под ружьём. Скоро я опять приведу сюда 300 тысяч, а теперь мне надобно быть на троне, а не на коне. Я везде бил русских. Все беды наши от суровости климата их.
В Варшаве Наполеон не задержался: спешил в Париж. Немецкий историк Людвиг писал о размышлениях императора в пути: «Днём и ночью сани несут на запад. Днём и ночью в его мозгу теснятся вопросы, приказы, проекты. Действительно ли Англия непобедима? Теперь её торговле с балтийскими государствами, а также с Кадиксом и Левантом нет препон. Индию придётся пока отложить, но больше никаких шагов, никаких планов!
Будет ли Рейнский союз подчиняться, как всегда? Как объяснить провал кампании, поскольку долго отрицать его будет невозможно? Поставит ли Франция ещё 120 тысяч новобранцев? Придётся ли заранее мобилизовать резервистов следующего призыва? С папой нужно будет быстро помириться, так же как и с испанцами, – тыл должен быть обеспечен».
В Париже побеждённого господина встречают сорок согнувшихся в поклоне спин, и вид этих фраков, расшитых его прозрением, возвращает ему веру в глупость и слабоволие людей, желающих одного – подчиняться чужой воле. Император выступает перед своими склонёнными сановниками словно Цезарь и грозно валит всё на бога погоды, в то время как ещё позавчера сам мнил себя богом погоды для Европы.
«Армия понесла большие потери лишь в результате рано начавшийся зимы… Оказалось, что король Неаполя не способен командовать войском, после моего отъезда он совсем потерял голову… Несмотря на это, у меня ещё есть достаточно батальонов, причём я не отзову ни одного человека из Испании».
Наполеон
11 декабря Наполеон принял депутацию Сената, которой прямо заявил, что при существующих условиях все малодушные должностные лица должны быть уволены в отставку, так как присутствие их на службе только подрывает авторитет закона.
Отвечая на адрес Государственного совета, он беспощадно громил всех приписывавших народу державные права, которыми народные массы не в состоянии пользоваться на самом деле. Вместе с тем император высказал строжайшее порицание всем мечтавшим основать авторитет власти не на принципе справедливости естественной природы вещей.
Готовясь остановить армию, Наполеон говорил:
– В Париж я упаду как бомба. В Париже и в иной Франции ни о чём не будут больше говорить, как только о моём возвращении, и забудут всё, что случилось.
Конечно, трудно поверить, что сотни тысяч отцов и матерей могли забыть гибель своих сынов, но в целом Париж позитивно воспринял возвращение императора из пугающей французов загадочной и страшной России. Что касается прессы, то она изощрялась в дифирамбах великому императору. Любецкий писал по этому поводу:
«В Париже между журналистами происходило междоусобие, образовались два враждебных лагеря: одни превозносили Наполеона, называли его „необыкновенный человек“ и написали в честь него акростих „Бонапарте“. В первом стихе сравнивали его с Брутом, во втором с Октавием; в третьем с Нумою, основавшим религию на политике; в четвёртом с Аннибалом, перешедшим через Альпы; в пятом с Периклом, в шестом с Александром Македонским, завоевавшим весь свет; в седьмом с Ромулом, основавшим Рим; в восьмом с Питом, прославившим царство своё милосердием.
Девятая строчка содержала в себе слова: „Это всё соединено в одном герое“. Льстецы называли его L’i ole dieu vivant – образ живого Бога. В катехизисе, изданном по повелению Наполеона, говорилось, что „не любящие Наполеона подвергаются вечному осуждению“.
Тогда же была составлена эпиграмма: „Возьми кровь Робеспьера, кости Тиберия, череп Нерона – и выйдет Наполеон“.
По свидетельству А. К. Ленкура, присутствие Наполеона в Париже успокаивало всех, вызывало изумительную активность.
Всё организовывалось, всё создавалось как бы по волшебству. Миллионы собственной казны императора и особого фонда были извлечены из погребов Тюильри и взаимообразно предоставлены государственному казначейству». Успокоив встревоженное население и сановников, Наполеон направил всю свою энергию на создание новой армии. 11 января сенат предоставил в распоряжение императора 350 тысяч человек, а когда Пруссия объявила войну Франции – ещё 180 тысяч.
С союзниками (Австрия, германские государства) было плохо: они не хотели больше давать сюзерену свои войска. Баварский король на очередное требование солдат и офицеров разразился гневной тирадой:
– Я должен отправить ещё людей этому ненасытному человеку, который приносит их в жертву своему честолюбию! Нет, я больше никогда не буду посылать ему подкрепления!»
Австрия всё увереннее заявляла о своём желании освободиться от тягостного ей союза с Францией (точнее, подчинения ей) и сыграть роль посредника в предстоящем мирном урегулировании между Россией и Францией. Император Франц не скрывал своей радости по поводу поражения Наполеона:
– Пришло время, когда я смогу показать императору французов, что я такое!
Но открытое неудовольствие австрийского монарха гегемонией Франции ещё прикрывалось внешним раболепием. «Депутации стали прибывать из всех концов страны, но также из ближайших городов империи: из Рима и Милана, Гамбурга и Амстердама.
Высказывавшиеся ими уверения в верноподданнической преданности сдерживались единственно рамками, возможными для человеческого языка» (В.М. Слоон).
Конечно, Наполеон понимал, что в отношениях с союзниками наступил кризис и удержать их в покорности будет трудно. Ещё на заснеженных полях России он изрёк:
– До 6 ноября я был властителем над Европою, им я быть перестал.
«Каждый делился едой, питьём и сердцем»
В конце 1813 года вышла книга «Наполеон и французы в Москве», на странице 159 читаем: «1 января [13 января по новому стилю] российская гвардия, предводительствуемая Государем, Цесаревичем и Великим Князем Константином Павловичем, в личном присутствии самого Государя Императора, из местечка Меречи, где Его Величеством выслушана божественная литургия и принесены тёплые молитвы Богу, коего щедротами истреблён и уничтожен враг, перешла границу Вместе со вступлением поляков на реку Неман музыка заиграла, ура многократно повторялось в воздухе, и знамёна Русского Царя начали развеваться в герцогстве Варшавском».
Александр подталкивал Кутузова к активным действиям: «Поверхность наша над неприятелем, расстроенным и утомлённым, и вообще положение дел нынешних требуют всех усилий к достижению главной цели, несмотря ни на какие препятствия. Никогда не было столь дорого время, как при теперешних обстоятельствах, и потому ничто не позволяет останавливаться войскам нашим, преследующим неприятеля».
Получив царский рескрипт, Михаил Илларионович не спешил его исполнять, своё неподчинение царю объяснял так: «Впрочем, отдых Главной армии нимало не останавливает наших наступательных действий, ибо армия генерала Чичагова и корпуса графа Витгенштейна, генерала Платова, генерала Дохтурова и генерал-лейтенанта Санина продолжает действовать на неприятеля, а партизаны наши не теряют его из виду».
На 31 (19) декабря 1812 года в русской армии насчитывалось 62 432 пехотинца, 15 440 кавалеристов и 8 575 артиллеристов при 533 орудиях. Итого 85 447 человек, а с авангардами и отдельными отрядами – до 100 тысяч. Основные силы русской армии под командованием Чичагова двинулись в Пруссию, и 6 января части генерала Витгенштейна заняли её столицу – Кёнигсберг.
Царь сразу взял на себя миссию освободителя Европы от засилья Наполеона. Поэтому Кутузов дал Витгенштейну строгую инструкцию, по которой он обязывался следить, «чтобы войска наши были признаваемые жителями яко избавители, а отнюдь не завоеватели».
Пруссию защищали корпуса генерала Макдональда и Йорка! Последний из них 11 января подписал с генералом И.И. Дибичем договор о перемирии (Таурогенская конвенция) его корпуса с российскими войсками. Наполеон так оценил это событие:
– Мир казался мне очень возможным прежде от падения генерала Йорка. Теперь я больше о нём не думаю. Поступок Йорка вскружит русскому кабинету голову. Это великое политическое событие.
Крайне важной целью для русской армии была Варшава. Это направление прикрывал сильный австрийский корпус генерала Шварценберга. Эти войска в военных действиях 1812 года практически не участвовали и сохраняли свою боеспособность. Но, к счастью для русской армии, австрийцы и теперь не рвались проливать кровь за своего союзника и не спеша отступали к границам своего отечества. Возмущённому Евгению Богарне, командовавшему французскими войсками, Шварценберг так объяснял свою «тактику»:
«После страшных потерь, испытанных в эту кампанию, мне кажется, что главная цель, к которой надлежит стремиться в настоящее время, подчинить ей все остальные, – это беречь наличные войска со всевозможной экономией. Исходя из этой точки зрения, я думаю, что следует избегать боёв в открытом поле, так как они повлекут за собой только значительные потери, которые не могут окупиться сохранением нескольких миль территории в то время, когда покинуты уже обширные провинции».
Милорадович был уже в виду Варшавы. Князь Шварценберг просил его подойти ещё ближе, дабы иметь благовидный предлог очистить город. Когда желание было исполнено, он прислал сказать, что сдаёт Варшаву, но для чести войск своих и избежания всякого нарекания от своих союзников просит не признавать пленными находящихся в Варшаве больных воинских чинов, принадлежавших к разным державам, обращаться с ними человеколюбиво и не наказывать жителей, обнаруживших поступками и речами неприязненные отношения к России. Милорадович отвечал:
– Я испрошу у князя Кутузова разрешение на первую статью. Что касается до последних двух, то по ним не нужно заключать условий, ибо всему свету известно милосердие императора, всегда служившее основанием поведения русских войск (А.И. Михайловский-Данилевский).
М.И. Кутузов
8 февраля Милорадович принимал капитуляцию Варшавы. Ф.Н. Глинка вспоминал:
«Все мы в парадных мундирах собрались в небольшом садовом домике, где остановился генерал Милорадович. Тут было человек 12 генералов. Пред крыльцом стоял в строю прекраснейший эскадрон Ахтырского полка: зрители пленялись его картинным видом. Ровно в два часа передовой посланный возвестил скорое прибытие депутатов. Любопытство подвинуло всех к окнам. Сперва показались вершники из Польской народной гвардии, и вдруг богатая карета, восемью английскими лошадьми запряжённая, сопровождаемая отрядом сей же гвардии, загремела и остановилась у крыльца. Эскадрон отдал честь.
Вслед за первою подъехала такая же другая. Эскадрон повторил приветствие. Префект Варшавы, мэр, подпрефект, два члена духовенства, бургомистр и ещё пять или шесть человек в нарядных шитых мундирах, с разноцветными перевязями через плечо, собрались на крыльце. Двери настежь! – И гости вступили в комнату. Между ними находился тот самый старик, который вручал ключи Суворову. Толпа отшатнулась – генерал Милорадович выступил вперёд.
– Столица герцогства Варшавского, в знак миролюбивого приветствия победоносному русскому воинству, посылает сие, – сказал префект, поднося хлеб и соль.
– Вот и залог её покорности знаменитому оружию всеавгустейшего императора Александра Первого, – прибавил мэр, подал знак – и старец вручил генералу золотые ключи. Все поклонились очень низко. У некоторых блеснули слёзы на глазах.
М.И. Кутузов в этот же день сообщал об этом знаменательном событии супруге: „Сейчас получил ключи от Варшавы. Войска было велено расположить в предместьях, а самого города не занимать. Французская партия рада очень, что мы её защитили от буйства народа, который зол выше меры“.
„Французская партия“ – это сторонники Наполеона, которого отнюдь не все поляки воспринимали как своего защитника и освободителя. Впрочем, они и к русским относились не очень».
«В герцогстве Варшавском никто, однако, не встречал русских как своих избавителей. Одни евреи каждого местечка, лежащего по дороге, где проходили войска, выносили разноцветные хоругви с изображением на них вензеля государя; при приближении русских они били в барабаны и играли на трубах. Иногда показывались поляки, которые, по обыкновению своему, сами не знали, чего хотели; одни говорили, что им наскучило иго французов, другие же смотрели на русских с сердитыми лицами, как следствие вкоренившихся в них к России чувств, так и потому, что каждый шаг русской армии вперёд отодвигал час восстановления Польши»[2].
За отступившими австрийскими войсками (Витгенштейн) был направлен корпус Ф.В. Сакена, а главные силы армии двинулись на Калиш. В итоге общего наступления французы были отброшены за Одер. 1 февраля под Калишем Винцингероде разбил корпус генерала Ренье. Французы потеряли 1 000 человек убитыми и ранеными, 2 500 были взяты в плен.
В Польше Кутузов устроил свою штаб-квартиру, куда вскоре прибыл царь. Было решено приостановить преследование противника и дать отдохнуть своим войскам, наладив за это время отношения с Пруссией.
28 февраля в Калише Пруссия заключила договор с Россией о совместной борьбе с Наполеоном, выставив для начала 80 тысяч солдат. 15 марта в Бреславле Александр I встретился с Фридрихом Вильгельмом III. Венценосные приятели бросились в объятия друг друга и, по наблюдению очевидцев, «молча несколько минут прижимали один другого к сердцу».
В тот же день из Бреславля Александр I отправил письмо другому своему «брату» Францу I: «Хотел бы приехать в Вену чтобы забыть в ваших объятиях о прошлом и возобновить вашему величеству заверения в моей искренней привязанности».
Кутузов между тем врагу передышку не собирался давать и приказал Витгенштейну: «Дабы не оставить неприятеля в покое, нужно назначить большое число малых партий, которые, перейдя Одер, наносили бы ему страх не только в окрестностях Берлина, но и до самой Эльбы. В это самое время партизаны Главной армии, перейдя Одер между Франкфуртом и Глогау, устремятся в Саксонию».
Летучие и партизанские отряды бороздили Центральную и Северную Германию практически безнаказанно, так как у противника почти не было кавалерии. (Потерю Великой армией в 30 тысяч лошадей немыслимо было восполнить за короткий срок.) Эти отряды захватили отдельные области противника, уничтожили мелкие воинские подразделения, нарушили операционные линии, сеяли панику в его рядах. Действовали партизаны жёстко, в полном соответствии с законами военного времени.
– Лёгкие кавалерийские отряды творят в стране величайшие беспорядки: жалобы поступают не только от жителей, но и от офицеров этих отрядов, равно как и от тех, кто идёт вслед за ними.
Но, несмотря на эти перегибы, партизанские отряды свою задачу выполнили, иногда даже захватывали целые города: 4 марта отряд генерала Н.Г Репнина занял Берлин, 18 марта был взят Франкфурт-на-Одере, 21 марта – Гамбург, 3 апреля капитулировал Лейпциг.
Наполеон узнавал о потерях его войск с большим опозданием и с гневом писал Евгению Богарне: «Я не имею возможности дать Вам ни одного приказания, ни инструкции, раз Вы не исполняете вашего долга и не посылаете мне никаких подробностей, никаких деталей, никаких расчётов и ничего мне не говорите, ни Вы сами, ни Ваш штаб. Я не знаю, какие генералы командуют корпусами; я не знаю, где они находятся; я не знаю ни Вашего положения, ни какая у Вас артиллерия. Я не получаю никаких сведений; я во всех отношениях нахожусь в совершенных потёмках. Как же Вы хотите, чтобы я управлял моей армией?»
Порадовать отчима Богарне было нечем. 19 марта под Люнебургом отряд генерал-майора А.И. Чернышёва одержал победу над войсками генерала Морана. Было пленено 3 200 солдат и офицеров, взято 10 пушек. В плен попал и сам Моран.
24 февраля во время движения к Берлину в засаду, устроенную А.Х. Бенкендорфом, попал 4-й итальянский конно-егерский корпус и был почти полностью уничтожен. Для французов это была очень тяжёлая потеря. С этого времени они стали панически бояться казаков, которые полностью хозяйничали в их тылах.
Успехи армии и партизан воодушевляли российский генералитет, и Кутузова подталкивали к переходу в наступление всей армии. Но фельдмаршал не спешил и так объяснял свои действия П.Х. Витгенштейну:
«Позвольте мне ещё раз повторить моё мнение о ваших наступательных действиях. Я знаю, что в Германии ропщут на нашу медлительность, полагая, будто всякое движение вперёд равносильно победе, а каждый потерянный день обозначает поражение. Но я, по моему званию будучи обязан всё подвергать расчёту, вынужден помышлять о расстоянии, отделяющем наши запасные войска от Эльбы, и о силах, какие неприятель может нам противопоставить.
Ежели мы и одержим небольшие поверхности над малыми передовыми их отрядами, то они, после поражения своего, отступят на главные свои силы и будут, по мере отступления, увеличиваться подобно снежному кому. Я должен уравнивать постоянное ослабление наше в быстрых наступательных действиях с постепенным удалением от источников сил наших. Это обстоятельство возлагает на меня обязанность поселить те же мысли и в корпусных командирах».
После двухмесячных колебаний и уговоров Александра I прусский король Фридрих Вильгельм III наконец согласился порвать с Наполеоном. 27 (15) февраля был подписан Калишский договор о союзе с Россией. В нём говорилось:
«Ст. II. Между Россией и Пруссией заключается наступательный и оборонительный союз на время происходящей ныне войны. Его ближайшая цель – вновь устроить Пруссию в таких границах, которые обеспечивали бы спокойствие обоих государств и служили бы ему гарантиями. Так как сия двоякая задача не может быть разрешена, пока военные силы Франции занимают позиции или укрепления на севере Германии, равным образом, пока держава эта будет там иметь какое-нибудь влияние, то главные военные действия будут обращены прежде всего на этот существенный пункт.
Ст. III. Впоследствие предыдущей статьи, обе высокодоговаривающиеся стороны согласились взаимно оказывать друг другу вспоможение всеми средствами, какие Провидение вручило в их распоряжение; но чтобы определить точнее те силы, которые будут немедленно введены в действие, его величество император всероссийский обязуется выставить в поле 150 тыс. человек, и его величество король прусский – по меньшей мере 80 тысяч человек, не считая крепостных гарнизонов…»
Союзный договор был важен в первую очередь в психологическом плане: русские солдаты с удовлетворением приняли известие о том, что получили поддержку на бранных полях зарубежья. «Весь немецкий народ за нас, даже саксонцы. Немецкие государства не в силах больше остановить движение масс. Им остаётся только примкнуть к нам».
4 марта французские войска начали отход из Берлина. «Тотчас же, – вспоминал Лабом, – казаки Чернышёва вступили в него с такою быстротою, что следовали за нашими солдатами по мере выхода из города, и если б не случились гренадеры, то они захватили бы слабый наш арьергард. Чтобы пощадить Берлин от опасности, могущей произойти при сражении, русские преследовали войска, очищавшие город, холодным оружием».
А вот как описывался захват Берлина в журнале: «С утра до трёх часов дня в город непрерывно вступали русские войска: казаки, лёгкая кавалерия, пехота и артиллерия, всего от 12 до 13 тысяч человек, принадлежащие к армии Витгенштейна и корпусу князя Репнина. Кавалерией командовал генерал Чернышёв. Из них две трети стали преследовать французов, а остальные расположились в Люстгартене, на Дворцовой площади и Унтер-ден-Линден. Многие казаки рыскали по городу и выискивали тех французов, которые ещё попрятались и хотели быть дезертирами „великой“ французской армии. Было собрано более 200 человек, и из воды вытащили на следующий день несколько ружей; конечно, туда побросали их сами миролюбиво настроенные французы. В здешнем французском лазарете оказалось 1 600 больных.
С утра на Дворцовой площади были поставлены телеги, наполненные хлебом, селёдкой и водкой. Каждый русский мог там попотчеваться. Но ещё больше продовольствия, чем было выставлено на площади, раздали русским сами жители. Каждый делился с ними едой, питьём и сердцем. „Русс, прусс – братья“, – говорили казаки.
18 марта был взят Франкфурт-на-Одере, 21-го – Гамбург. При вступлении в Гамбург отряда полковника Тетенборна звонили в колокола. Стреляли из пушек и пистолетов, и ликовавшие жители праздновали день своего избавления. Гамбург принадлежал тогда Французской империи; следственно, русские знамёна развились в пределах ея, менее нежели по прошествии осьми месяцев с того времени, как шестисоттысячная армия Наполеона перешла через Неман и, так сказать, наводнила Россию.
Сенат Гамбурга воспринял свою власть, уже семь лет как французами уничтоженную, и первым действием его было отправление в Англию корабля с объявлением, что свобода торговли восстановлена в Северной Германии. На сем корабле также послан был в полном вооружении казак Вишиченко; прибытие его в Лондон возбудило живейшее любопытство, все наперебой угощали храброго гонца».
25 марта Кутузов обратился со следующим воззванием к народам Европы; обещая им свободу и суверенитет:
«Мечтания о всеобщей монархии истреблены беспрерывными победами российских армий. Прекрасная Франция, сильная сама по себе, пусть займётся внутренним своим благосостоянием. Покушения иноплеменных никогда не возмутят природных её границ. Но да будет и ей известно, что другие державы желают равномерно постоянного спокойствия для своих народов и что они не положат оружия, доколе не восстановят и не утвердят прочным образом политической независимости всех государств в Европе».
В обращении фельдмаршала Кутузова к народам Европы отразился взгляд царя на цель заграничного похода – освобождение Европы от власти Наполеона. Но на каких условиях? Возвращение Франции в её естественные границы. То есть лишение её всех территориальных приобретений. С этим, как показали дальнейшие события, Наполеон был категорически не согласен.
«Мои знамёна ещё побеждают, но…»
В октябре произошло два события, в корне изменивших положение воюющих сторон: русская армия потеряла своего главнокомандующего, а во французскую оный вернулся. Михаил Илларионович Кутузов скончался 28 (16) апреля в небольшом силезском городе Бунцлау. Вдове фельдмаршала царь писал:
«Болезненная и великая не для одних вас, но и для всего отечества потеря. Не вы одни проливаете о нём слёзы: с вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, призвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его останутся бессмертными. Благодарное Отечество не забудет никогда заслуги его»[3].
В рядах русской армии находился в это время писатель Фёдор Николаевич Глинка. Вот его отклик на кончину Кутузова:
«Наконец сбылись мрачные предчувствия, оправдались печальные догадки: неумолимой судьбе или непостижимому Провидению угодно было лишить нас великого человека!.. Его уже нет!.. В Бунцлау прекратилась жизнь мужа знаменитого.
Давно ли, вызванный из глубокого уединения общим голосом народа, восстал он от бездействия и ополчился великим умом своим на защиту отечества? Давно ли грады и области называли его спасителем? Матери несли младенцев, и внуки вели дедов своих, чтобы удостоиться его лицезрения? Давно ли сам государь назвал его Светлейшим и фельдмаршалом?
Еще не обсохла кровь врагов, пролитая им на полях Бородинских; ещё не истлели трупы, которыми устлал он великое пространство от Оки до Немана; ещё блестят трофеи, им собранные, зеленеют лавры, им пожатые; ещё не успела обтечь круг земной слава, гремящая о нём… А его уже нет!»
Умирая, Михаил Илларионович завещал:
– Прах мой пусть отвезут на Родину, а сердце моё похороните здесь, у саксонской дороги, докуда я довершил с солдатами свой путь победный, чтобы мои солдаты – сыны России – знали, что сердцем я остался с ними.
Завещание Кутузова было исполнено. На памятнике фельдмаршалу на месте его кончины было начертано: «До сих мест князь Кутузов Смоленский довёл победоносные войска, и здесь смерть положила предел славным делам его. Он спас Отечество своё и отверз путь к избавлению Европы. Да будет благословенна память героя!»
…15 апреля в четыре часа утра Наполеон выехал из Сен-Клу в Майнц, куда прибыл в полночь 16 апреля. В Майнце император принял командование армией. В общей сложности в ней было 12 корпусов, в которых состояло 235 тысяч солдат и офицеров, в действительности налицо имелось 135 тысяч человек. Под командованием вице-короля Евгения Богарне – ещё 47 тысяч. Наполеон провёл смотр армии, о составе которой заявил:
– Не хватало одного существенного элемента успеха: им [солдатам] надлежало быть двумя годами старше и опытнее.
Людские резервы Франции находились на грани полного истощения, на военную службу призывались юноши семнадцати лет. Слишком мало было кавалерии, лучшие орудия потеряли в России. По поводу их утраты император говорил:
– Чем хуже войска, тем нужнее для них артиллерия. Генеральные сражения выигрываются артиллерией.
В армии не хватало санитаров и штабистов, генеральный штаб сильно ужался. Словом, новоскомплектованная армия Франции уже не была по своему составу и духу Великой армией. Недоукомплектование армии напомнило императору молодость, и он заявил:
– Я буду вести эту войну как генерал Бонапарт.
1 мая авангард французской армии вытеснил русские аванпосты из Лютцена. В стычке, случившейся в Ропахском ущелье, погиб маршал Бессьер. Это была большая потеря для Наполеона, который тяжело перенёс смерть любимца его гвардии.
На следующий день произошло сражение при Лютцене. С французской стороны в сражении участвовало 100 тысяч человек, со стороны русских и пруссов – 72 тысячи. Французами командовал Наполеон, его противниками – Витгенштейн и Блюхер.
Сражение было ожесточённым, о его кульминации Вальтер Скотт писал: «Невзирая на самое упорное сопротивление, союзники овладели деревнею Кайей, на которую упирался центр французской армии. Эта опасная минута была достойна гения Наполеона, и он не изменил себе. Атакованный во фланг, тогда как колонны его подвигались вперёд, он успел посредством искусного движения, в круг повернуть оба крыла своих так, чтобы обойти ими неприятеля. Сам же он поспешил со своей гвардией на помощь к центру, почти совершенно опрокинутому. Сражение было тем отчаяннее и кровопролитнее, что с одной стороны дрался цвет прусского юношества, оставивший свои университеты с тем, чтобы ополчиться за дело народной чести и независимости; а с другой молодые парижане, из коих многие высших сословий, мужественно старались поддержать свою давнюю славу народной храбрости. Те и другие сражались в присутствии своих государей, поддерживали честь земли своей и заплатили щедрую дань кровопролитию сего дня. Союзники искусно вывели утомлённые войска свои с поля битвы, как будто из клещей, составившихся из крыльев Наполеона.
Сражение при Лютцене
Сражение продолжалось всю ночь со 2 на 3 мая. Лабом вспоминал:
– Одни только три горящие деревни освещали поле сражения, как вдруг на правом фланге армии отряд неприятельской кавалерии, стремительно ударивший на передовые наши посты, опрокинул их и гнал до самых батальон-каре, позади коих находился сам император. Темнота была столь велика, а сражающиеся так сблизились, что не могли различить друг друга, никто не знал, кто победитель и кто побеждённый.
Тот же Лабом писал позднее: «Раненые и умирающие, увидя Наполеона, приветствовали его своими восклицаниями; другие с восхищением стремились в огонь, и если выходили из оного со смертельными ранами, то последний крик их относился к императору. Сила, внушаемая его присутствием, соединялась с привычкой к сражению. Чувствуя всю важность всей битвы, Наполеон с того времени никогда ещё не подвергал себя столько опасности, как в то время, ибо был уверен, что пример его поощрит юношей, которых всегда с успехом обольщал словами: честь и Отечество»[4].
Перед сражением Наполеон двое суток не спал. На исходе Лютценской битвы, уверенный в успехе, он посреди корпуса Мармона расстелил медвежью шкуру и лёг на неё. Через час его разбудили, чтобы поздравить с победой. Вскочив на своём ложе, император иронически заметил на сделанный ему доклад:
– Сами видите, всё лучшее случается во сне!
Союзники отступили за Эльбу, потеряв 12 тысяч человек (французы – на три тысячи больше). Уход на другую сторону реки прошёл организованно и без жертв. Наполеона это несколько озадачило:
– Как?! Такая битва – и никаких результатов?! Ни одного пленного?! Эти люди не оставили мне и гвоздя!
Больше того, в сражении не участвовал двадцатитысячный корпус русской армии, то есть на поле битвы французы имели двойное (!) превосходство. Ф.Н. Глинка рассказывал об этой оплошности главнокомандующего следующее:
«Желая на другой день возобновить сражение, главнокомандующий не употребил в дело корпуса Милорадовича, который простоял в Цайце. Храбрый ученик Суворова плакал, как ребёнок, слыша первый раз в жизни пушечные выстрелы и не участвуя в битве. Советовали графу Витгенштейну послать за его корпусом, но он не согласился, произнеся: „Сражаясь с Наполеоном, должно иметь за собой сильный резерв“».
Словом, у союзников были основания считать, что они не проиграли сражение. В «Записках о походе 1813 года» А.М. Михайловского-Данилевского (СПб., 1834) читаем:
«Поверхность была на стороне союзников, которые провели ночь гораздо впереди тех мест, откуда они поутру выступили в дело; французы же, невзирая на то, что у них было тридцатью тысячами войска более, чем у нас, не только не выиграли ни шагу земли, но потеряли пять орудий. Наполеон приписал победу себе не потому, что одержал её на поле сражения, но по причине отступления союзников за Эльбу. С ним согласились иностранные историки, основываясь, с одной стороны, на свидетельстве французских бюллетеней, а с другой – на молчании русских, ибо до сих пор ни один из наших соотечественников не принял на себя труда опровергнуть ложные на сей счёт показания наших неприятелей и вывесть Европу из заблуждения».
Граф Витгенштейн намеревался на другой день возобновить сражение: надежда на успех была основательна, ибо неприятели, как впоследствии оказалось, отступили. Сверх того, все корпуса их введены были в дело, в то время как у нас находился свежий корпус Милорадовича, не участвовавший в сражении и простоявший весь день в Цайце.
Но когда Александр убедился в необходимости отказаться от продолжения боя на следующий день, он ночью отправился в дом, который занимал король, и приказал разбудить его, чтобы сообщить союзнику эту печальную весть. Фридрих Вильгельм, заметно огорчённый, отвечал с некоторой запальчивостью: «Это мне знакомо; если только мы начнём отступать, то не остановимся на Эльбе, но перейдём также за Вислу; действуя таким образом, я себя снова вижу в Мемеле». Император удалился, сказав: «То же самое, как и при Ауэрштедте».
Да, результат сражения был спорным, но каждая из сторон объявила его своей победой. Александр I наградил Витгенштейна орденом Андрея Первозванного, а Блюхера – Георгия II степени.
Как говорилось выше, Наполеон остался неудовлетворённым исходом битвы, его порадовало только то, как держали себя в сражении новобранцы:
– Эти юноши – герои, с ними я бы мог сделать всё что угодно.
Немецкий историк Людвиг, оценивая кампанию 1813 года, в целом пенял Наполеону за то, что он уделял много времени политике в ущерб службе Молоху:
«Едва одержав победу как генерал, он вновь позволяет взять верх сидящему в нём политику и императору: рассылает во все концы преувеличенные сообщения о победе, принуждает колеблющегося короля Саксонии присоединиться, говорит князьям Рейнского Союза о Провидении и военном счастье, дабы удержать их на привязи.
Даже посылает своего министра к русским форпостам, недолго думая, и вполне бесцеремонно предлагает царю обменять Польшу на Пруссию. Царь уклоняется от ответа, и тогда Наполеон пишет императору письмо, в котором прибегает к совершенно необычному для него самохвальству: „Хотя я сам руководил всеми передвижениями своей армии и временами выдвигался вперёд на досягаемость картечного выстрела, со мной ничего неприятного не случилось“».
Не удалась Наполеону и другая попытка (о ней писал Д.А. Михайловский-Данилевский) завязать отношения с царём:
«Командир отправился к авангарду неприятеля. Оттуда в тот же день Макдональд прислал графу Милорадовичу следующее письмо: „Обер-шталмейстер герцог Виченцкий спрашивает: угодно ли его величеству императору Александру принять его, в таком случае: где, когда и в котором часу? Прошу вас уведомить меня: могу ли надеяться на получение ответа в 24 часа?“
Под диктовку императора Милорадович написал: „Для совершенного удовлетворения вашего желания, должен я известить вас, что немедленно проводил к его императорскому величеству ваше отношение. Но, как император находится в разъездах по разным корпусам, то легко может статься, что донесение моё не дойдёт сегодня до его величества, следственно, можно предполагать, что не прежде, как завтра вечером или послезавтра, буду я в состоянии сообщить вам повеления, которые мне пришлют“».
Наладить прямой диалог с царём Наполеону не удалось. Но пока шли дополнительные игры, император не упускал из вида и боевые действия. Французы теснили союзные армии. Прусский король говорил:
– Я ожидал иного! Мы надеялись идти на запад, а движемся на восток.
А русский офицер Фёдор Глинка писал: «Соединённые армии отступают за Эльбу. Наша армия довольно покойна: арьергард выдерживает весь натиск. Покамест отделываемся кое-как перестрелками».
Арьергардом командовал генерал А.М. Милорадович. За полторы недели арьергардных боёв он сумел отбить все атаки французов, не дав им побеспокоить основную армию, которая в полном порядке заняла приготовленные позиции у Бауцена. «Мы уступаем ему (неприятелю) не более пяти вёрст в день, – отмечал в походном дневнике Глинка. – Притом, несмотря на повседневные сражения с 3 мая, арьергард имел самый малый урон».
Царь высоко оценил действия арьергарда. 13 мая Милорадович был возведён в графское достоинство.
Наступая вглубь Германии, Наполеон почувствовал себя хозяином положения и решил сразу расправиться с непокорными, с теми, кто изменил ему. И отдал следующее распоряжение: «Следует сразу арестовать всех жителей Гамбурга, которые состояли в должности сенаторов. Их нужно отдать под воинский суд и расстрелять пятерых, вина которых наиболее тяжела, а остальных под конвоем отослать во Францию.
Нужно разоружить горожан и расстрелять офицеров ганзейского легиона, а всех остальных, кто был нанят в этот легион, отправить во Францию на каторжные работы. Следует наложить контрибуцию в 50 миллионов на города Гамбург и Любек».
В новом сражении были заинтересованы обе стороны. Наполеон жаждал упрочить свой успех, а союзники хотели доказать всем колеблющимся свои возможности (Австрия в первую очередь), считая Лютценское сражение временной неудачей. Вторая серьёзная схватка соперников проходила 20–21 мая под Бауценом. В окрестностях этого города 115 тысячам французов противостояли 100 тысяч русских и пруссаков.
В одиннадцать утра Наполеон начал атаку на корпус Милорадовича, потеснил его и завладел переправой через реку Шпрее. Затем Удино и Макдональд атаковали левый фланг союзников, что вынудило бросить туда резервы. К вечеру русские и прусские войска были выбиты с передовых позиций, но никаких трофеев противник не захватил. Вернувшись в штаб-квартиру уже в сумерках, Наполеон заявил:
– Достаточно для этого дня. Немного передохнём, а завтра начнём снова.
На второй день сражения Витгенштейн, введённый в заблуждение демонстративными атаками Наполеона против центра и правого фланга союзных войск, стал усиливать за счёт центра левый фланг. Тем временем французы в превосходящих силах атаковали правый фланг союзников, ослабленный по вине Витгенштейна центр не смог оказать ему поддержку. Несмотря на упорное сопротивление русских войск, французы заставили союзников отступить сначала на правом фланге, а затем и в центре позиции.
Направленный на усиление правого фланга Ермолов приказал находящимся под его командованием войскам, а также батальону прусской пехоты следовать к центру; Ермолов препятствовал атакам неприятеля с таким мужеством и упорной храбростью, что дальнейшее продвижение в центре стабилизировалось.
Кстати. Со сражением при Лютцене связан следующий анекдотический случай. А.А. Аракчеев заявил царю, что артиллерия плохо действовала в бою по вине А.П. Ермолова. Александр вызвал генерала к себе и спросил о причине случившегося. Алексей Петрович заявил:
– Орудия точно бездействовали: не было лошадей.
– Вы бы потребовали лошадей у начальствующего артиллерии графа Аракчеева, – удивился недогадливости генерала царь.
– Я несколько раз обращался к нему, но ответа не было, – спокойно доложил Ермолов.
Тогда вызвали Аракчеева. На вопрос Александра о том, почему артиллерии не предоставили лошадей, жалобщик, смутившись, заявил:
– Прошу прощения, Ваше Величество, у меня самого в лошадях был недостаток.
– Вот видите, Ваше Величество, репутация честного человека иногда зависит от скотины, – невозмутимо заключил Алексей Петрович.
Генерал Ермолов был незаурядным военачальником и очень порядочным человеком, его отличали независимость суждений, резкий и острый язык, что, конечно, не всем нравилось. Царский фаворит Аракчеев не любил Алексея Петровича и завидовал его широкой известности в армии.
Общая обстановка на поле сражения складывалась не в пользу союзников, и после прорыва французов в тыл союзных войск последние начали беспорядочно отступать, ибо, как писал очевидец Н.Н. Муравьёв-Карский, «все главнокомандующие и цари уехали, не сделав никакой диспозиции».
В особенно трудное положение попал Ермолов, которому было поручено командование арьергардом; в ходе отступления ему пришлось также спасать 60 орудий, оставшихся без прикрытия. Умело организовав отступление и выдержав близ Рейхенбаха натиск главных сил французов, которыми предводительствовал сам Наполеон, Ермолов заслужил похвалу даже не благоволившего к нему Витгенштейна.
Последний доносил Александру I: «Ермолов дал сильнейший отпор неприятелю и, защищавшись в дефилях[5] и союзах, отступил к ночи на позицию при деревне Кетиц в совершенном порядке, показав во всём сражении искусство в распоряжении, примерную храбрость и мужество, одушевляющие подчинённых среди самих опасностей».
А вот как описывал второй день сражения при Бауцене его участник Михайловский-Данилевский:
«Государь не съезжал с кургана до отступления армии, и перед глазами его была гора, на которой стоял Наполеон, не трогаясь с неё весь день. Вообще, я не видел сражения, в котором бы войска обеих противных сторон менее маневрировали и где главнокомандующие были бы менее деятельные, как в Бауцене. Оба императора не сходили с курганов.
Граф Витгенштейн не оставлял ни на минуту государя и не подъезжал ни разу к войскам, а начальник штаба его, а следовательно, всех российских армий Довре[6] несколько часов на том же самом кургане стоял.
Всё утро до десяти часов французы атаковали наше левое крыло, стоявшее на горах, и были всегда отражаемы. Граф Витгенштейн весьма справедливо сказал государю при сём случае:
– Ручаюсь головой, что это ложная атака. Намерение неприятеля состоит в том, чтобы обойти нас справа и припереть к Богемским горам.
Он отгадал намерение Наполеона, но не сделал ни малейшего распоряжения, чтобы предупредить опасность. Часу в одиннадцатом обнаружилось настоящее намерение неприятеля, он начал обходить правое крыло наше под командой Барклая. Когда неприятели повели против него грозные силы, нам нечем уже было его подкрепить, слишком далеко было вести к нему войска от Милорадовича, а из центра нельзя было тронуть ни одного батальона, потому что стоявшая против середины нашей боевой линии французская конница, кажется, того только и ожидала».
Победа Наполеона была бесспорной, но её омрачила личная потеря императора: «Наполеон в сопровождении Коленкура и своего близкого друга Дюрока бросается вскачь в самую гущу боя. Затем взлетает галопом на холм. Рядом с ним валится дерево. На вершине холма его догоняет молоденький офицер и, запнувшись, выдавливает:
– Маршал Дюрок убит!
– Этого не может быть, он только что был рядом со мной!
– Ядро, свалившее дерево, угодило в него.
Император медленно возвращается в лагерь и говорит:
– Когда же судьба наконец войдёт в моё положение?! Когда же это кончится?! Коленкур, мои знамёна ещё побеждают, но моя звезда вот-вот померкнет.
Дюрок, однако, не убит – он смертельно ранен. Ужасен вид растерзанного тела друга. Последнее свидание, оба в слезах. Умирающий говорит:
– Я же говорил тебе ещё под Дрезденом, внутренний голос… Дай мне опиум.
Этот тон, это внезапное обращение на „ты“, последняя просьба человека, презиравшего смерть. Император, шатаясь, выходит из палатки» (Людвиг).
В соответствии с приказом Наполеона маршал Ней должен был обойти правый фланг союзных войск и перерезать им дороги к отступлению. Это ему сделать не удалось, но перед угрозой окружения было решено отступить. Отход с поля боя начался около четырёх часов пополудни. Александр I при этом сказал:
– Я не желаю быть свидетелем этого поражения.
Благополучному отступлению русских и пруссаков способствовала буря с сильным дождём. Потери союзников составили 15 тысяч человек, французов – 13 тысяч. Из-за малочисленности кавалерии Наполеону не удалось взять у противника ни пленных, ни артиллерии.
Наполеон одержал вторую победу, но её разумность опять была довольно спорной. Император вновь показал, что полководческое искусство при нём, что признал и Александр I, который «согласился, что союзники проиграли битву из-за выдающихся талантов Наполеона. Хотя обстоятельства складывались не в его пользу». И это заявление царь сделал в узком кругу приближённых, к армии же монарх обратился совсем по-другому:
– В продолжавшееся 8-го и 9-го числа[7] знаменитое сражение бауценские поля были свидетелями твёрдости и мужества, с какими противостояли вы превосходнейшей против вас неприятельской силе. Движение, какое надлежало потом взять для завлечения далее неприятеля, сделано было с наилучшим порядком, к удивлению самого неприятеля.
Рядовым и младшим офицерам пытались внушить, что под Бауценом союзники просто отступили по ранее разработанному плану, что идёт по замыслу командования. Между тем с руководством русской армии не всё было гладко. Некоторые генералы просили царя сменить главнокомандующего. М.А. Милорадович вспоминал:
– Я поехал поутру к графу Витгенштейну и сказал ему: зная благородный образ ваших мыслей, я намерен с вами объясниться откровенно. Беспорядки в армии умножаются ежедневно. Все на вас ропщут. Благо Отечества требует, чтобы назначили на место ваше другого главнокомандующего.
– Вы старше[8] меня, – отвечал граф, – и я охотно буду служить под начальством вашим или другого, кого император на место моё определит.
25 мая Александр I назначил главнокомандующим русской армией Барклая де Толли, который отличился в сражении на подступах к Бауцену (до Бауценского сражения), предотвратив заход французов в тыл союзников. Ожесточённое сражение шло до десяти часов вечера. Французы потеряли три тысячи человек, в плен было взято две тысячи, в том числе четыре генерала. Русским досталось ещё и семь орудий противника.
Барклай получил за это сражение высшую российскую награду – орден Св. Андрея Первозванного. Были у него и другие немалые заслуги, особенно относящиеся к первому периоду Отечественной войны 1812 года.
После двух побед Наполеон не проявлял особой радости: и победы дались труднее, чем он рассчитывал, и он пережил тяжёлые личные утраты. Перед битвой при Лютцене 1 мая на его глазах был убит его старый друг маршал Ж.Б. Бессьер, а после битвы при Бауцене, в арьергардном бою под Гёрлицем 22 мая, когда император наблюдал за отступлением союзников, неприятельское ядро поразило его самого близкого друга обер-гофмаршала Ж. Дюрока. Российский литератор М. Булгарин писал о нём:
«Дюрок был прекрасный мужчина, чрезвычайно стройный и одевался щегольски. Волосы у него были тёмного цвета, остриженные ровно на всей голове, и курчавые. Он не пудрился. Впервые увидели мы человека в военном мундире без косы и без пудры. Его причёска вошла в моду между дамами и называлась a la Duroc. Ему было тогда только 29 лет от роду (он родился в 1772 году), но он уже был опытен в делах, будучи доверенным лицом гениального человека. Дюрок обладал необыкновенным природным умом, был красноречив, но воздерживался в речах, чуждаясь всякого фанфаронства, был чрезвычайно любезен в общении и ловок».
После гибели Ланна в 1809 году ничто (даже русскую катастрофу) Наполеон не переживал так тяжело, как смерть в течение трёх недель Бессьера и Дюрока. «Эта двойная потеря была самым зловещим предзнаменованием собственной судьбы его», – заметил как-то Вальтер Скотт.
«Я желаю мира, как никто другой»
4 июня (23 мая) в городе Плейсвице было заключено до 20 (8) июля перемирие между союзниками и Наполеоном. Военному министру А. Кларку император так объяснял мотивы своих действий: «Я решился по двум причинам: вследствие недостатка кавалерии, мешавшего мне нанести большой удар, и враждебных отношений Австрии».
Непростая ситуация была и у союзников. А.И. Михайловский-Данилевский писал о положении русской армии: «Когда заключено было перемирие, у нас были полки, в которых под ружьём считалось от полутораста до двухсот человек; некоторыми из них командовали капитаны; бригады и полки были так перемешаны, что иные генералы не знали, какие именно войска состояли под их начальством. В артиллерийских снарядах уже под Лютценом оказался чувствительный недостаток, а при Бауцене почти все снаряды были расстреляны; запасные парки далеко отстали от армии; сверх того, нижние чины претерпевали нужду в одежде и обуви».
Дошло до парадоксальной ситуации. В двух сражениях русская артиллерия расстреляла почти весь боезапас и были вынуждена добывать ядра экзотическим способом, приспосабливая снаряды периода Семилетней войны к калибру своих орудий.
Словом, мирная передышка была нужна для подготовки более эффективного истребления друг друга, и наиболее непримиримым по отношению к противнику был Александр I. Наполеон, напротив, надеялся использовать мирную передышку для заключения всеобщего мира. К этому его подталкивала и ситуация, сложившаяся в Испании. Там 21 (9) июня при Виктории А. Веллингтон разгромил армию короля Жозефа. Испания была освобождена от французов.
Более того, 27 (15) июня Австрия подписала договор о присоединении к союзникам (Рейхенбахская конвенция). Первая статья договора гласила: «Его Величество[9] обязуется объявить войну Франции и присоединить свои войска к войскам российским и прусским, если до двадцатого числа сего года Францией не будут приняты эти условия. Суть следующие:
1) уничтожение Варшавского герцогства и раздел входящих в его состав провинций между Россией, Австрией и Пруссией без всякого вмешательства со стороны французского правительства;
2) расширение Пруссии вследствие этого раздела и вследствие уступки города Данцига с его территорией, очищение всех крепостей в русских владениях и герцогстве Варшавском;
3) возвращение Иллирийской провинции Австрии;
4) восстановление ганзейских городов как городов независимых».
Впечатление от этого документа такое, что его подписали победители, то есть нанесённые им поражения они воспринимали спокойно, будучи уверенными в своих возможностях. Чтобы эти возможности сделать реальностью, была нужна более длительная передышка. Эту миссию взвалил на свои плечи Меттерних. И 28 (16) июня он как снег на голову «свалился» на Наполеона.
Политическая обстановка складывалась не в пользу императора Франции и вынуждала его уступать своим противникам, так он согласился принять министра иностранных дел Австрии Клеменса Меттерниха. Приём проходил во дворце Марколини в Дрездене. Император стоял посреди комнаты со шпагой в руке и треуголкой у локтя. Спросил о здоровье тестя, императора Франца I, и сразу перешёл в наступление:
«Наглость Австрии беспредельна. Сладкими речами она пытается отобрать у меня Далмацию и Истрию. Нет в мире ничего более лживого, чем венский двор! Отдай я им сегодня то, что они просят, – завтра они потребуют Италию и Германию.
Среди этих людей, рождённых королями, кровные узы не имеют ровно никакого значения. Интересы дочерей и внуков не заставят императора Франца ни на йоту отступить от расчётов его кабинета министров. В их жилах – не кровь, а замороженная политика!
Моя снисходительность была глупостью. В Тильзите я мог их раздавить, а я повёл себя великодушно. Мне бы следовало уяснить из истории, что такие деградировавшие династии не заслуживают ни веры, ни верности! А теперь Англия накачивает в них деньги.
Итак, вы хотите войну? Что ж, вы её получите. Под Лютценом я уничтожил пруссаков, под Бауценом разбил русских. Вы хотите, чтобы наступил ваш черёд. Прекрасно. Увидимся в Вене. Люди неисправимы. Трижды я восстанавливал императора Франца на троне и обещал ему мир до конца моих дней, даже женился на его дочери. Тогда я говорил себе, что совершаю глупость, но я её сделал и сегодня в этом раскаиваюсь.
Министр говорит о мире в Европе, который возможен, только если французский император согласится в известной мере ограничить свою власть: вернёт Варшаву, Иллирию – Габсбургу, ганзейские города освободит и расширит границы Пруссии».
– Значит, вы хотите, чтобы я сам себя обесчестил? Я скорее умру, чем уступлю хотя бы пядь своей земли. Ваши урождённые короли могут двадцать раз терпеть поражение и всё же вновь возвращаться в свои резиденции. Я – сын военного счастья, для меня это невозможно! Моя власть держится, лишь пока я силён, то есть внушаю страх. Я всё потерял из-за этих русских морозов, кроме чести. И теперь у меня новая армия, не угодно ли поглядеть, я устрою ради вас смотр!
(Когда министр утверждает, что французская армия хочет мира.)
– Не армия – мои генералы хотят мира! У меня не осталось настоящих боевых генералов; московские морозы их деморализовали; самые храбрые плакали там, как дети. Две недели назад я ещё пошёл бы на заключение мира, но теперь, после двух последних побед, уже не могу.
– Европа и вы, сир, – возражает министр, – никогда не придут к взаимопониманию. Ваши мирные договоры всегда оказывались лишь перемириями, а неудачи только с новой силой толкают вас к войне. Теперь с вами будет воевать вся Европа.
– Вы хотите расправиться со мной, вступив со всеми в союз? Сколько же вас всего, господа союзники? Четыре, пять, шесть, двадцать? Тем лучше!
Затем они битый час спорили о численности обеих армий, причём оба заявляли, что точно знают, сколько у противника войск.
– У меня есть список вашей армии, – говорит император. – К вам в боевые порядки засланы три тучи шпионов, так что нам всё о вас известно, вплоть до количества барабанщиков. Но я знаю лучше любого другого надёжность разведки. Мои расчёты основаны на математике: в конце концов, никто не может иметь больше, чем может.
Но когда Меттерних заговаривает о молодых солдатах императорской армии и спрашивает, что тот будет делать, если и эти безусые юнцы сгинут на войне, император впадает в бешенство и кричит:
– Вы не солдат! Вы не знаете, что происходит в душе солдата! Я вырос на поле боя. Такой человек, как я, плюнет на миллионы жизней. Франции не на что жаловаться. Чтобы уберечь французов от потерь, я жертвовал немцами и поляками. В России я потерял 300 тысяч человек, но из них лишь каждый десятый был французом.
Прощаясь с министром, Наполеон уже спокоен. Придерживая дверь, спрашивает:
– Надеюсь, мы ещё увидимся?
– Так точно, Ваше Высочество, только я уже не надеюсь выполнить свою миссию.
Император смотрит на него, похлопывая по плечу:
– Знаете, что произойдёт? Вы не станете воевать со мной.
После трёхдневных переговоров Меттерних собирается уехать, но император боится разрыва, приглашает его ещё раз и принимает утром в парке:
– Вы делаете вид, что обижены?
Потом они десять минут договариваются о продолжении перемирия и переговорах в Праге[10].
В соответствии с этой договорённостью 30 (18) июня в Дрездене Меттерних подписал с министром иностранных дел герцогом Бассано договор, по которому австрийский император предлагал своё посредничество «для заключения всеобщего мира на континенте», а французский император это посредничество принимал. Оговаривалось, что полномочные представители Франции, России и Пруссии соберутся в Праге 5 июля. Четвёртая статья договора была посвящена вопросу о продлении перемирия ввиду недостатка времени до 20 июля, когда, согласно Плейсвицкому договору, перемирие должно быть закончено. Его Величество император Франции обязуется не прекращать перемирия вплоть до 10 августа, а Его Высочество император Австрии обязуется заставить принять эти условия Россию и Пруссию.
Узнав о подписании этого договора, император Австрии направил Наполеону письмо, в котором не мог скрыть своего ликования от поступка зятя: «Ваше Величество не сможет найти посредника более преданного интересам мира и более внимательного к интересам Франции, чем я».
Итак, Наполеон практически принял все условия Меттерниха и был готов к переговорам. Меттерних пребывал в ослеплении и не хотел замечать того, что всем казалось очевидным: Наполеон не будет подписывать какого бы то ни было мирного договора, заняв очень жёсткую позицию по основным вопросам будущего устройства Европы. Он согласился на переговоры, чтобы не прослыть правителем, желающим и далее разорять народ кровопролитными войнами.
Второй не менее важной причиной было желание потянуть время, необходимое для набора новой армии. Поэтому в инструкции, данной герцогу Бассано, Наполеон писал: «Нужно выиграть время. Чтобы выиграть время, не настраивая против себя Австрию, нужно придерживаться того же тона, что и в течение последних шести месяцев: мы на всё согласны, если Австрия станет нашей союзницей».
Царь считал, что Наполеон никогда не согласится на мирные условия, выработанные союзниками, и переговоры на руку противнику. К.В. Нессельроде, министр иностранных дел России, с некоторым злорадством писал царю: «Объяснения, в которые вступил император Наполеон с графом Меттернихом, не оставляют никакого сомнения в невозможности добиться мира на самых умеренных условиях. Несмотря на это, Австрия желает продлить перемирие до 10 августа, но исключительно из военных соображений, а не из расчёта на заключение мира. Французские войска на юге Германии и в Италии настолько усилились, что Вена оказалась под угрозой. Таким образом, император Франц становится первой жертвой своей системы и своих проволочек, так как император Наполеон ныне уже считает себя в состоянии войны с Австрией».
Александр I с недоверием относился к любым внешнеполитическим инициативам Австрии, убедившись на собственном опыте, что за обилием слов у Меттерниха далеко не всегда следует дело. А если следует, то совершенно не то, о котором была договорённость. Нараставшая нервозность царя иллюстрируется его общением с дипломатом при ставке союзников графом Штадионом. Так, 5 июня Александр заверял Штадио-на, что не собирается вести никаких сепаратных переговоров с Наполеоном, но через месяц, 7 июля, пригрозил начать такие переговоры, если Австрия продолжит свою внешнеполитическую линию. Штадион с трудом успокоил царя, оправдывая все проволочки стремлением получше подготовить войска, но Александр уже не верил ему и отвечал, что всякий день отсрочки даёт французам время усилить свои войска против Австрии.
Но Меттерних не уступал с избранной позиции касательно продления перемирия и убедил в этом Нессельроде, а статс-секретарь изо всех сил пытался донести взгляды австрийского коллеги до царя. Александр, немного успокоенный, всё же остался при своём мнении в отношении срока продления перемирия. И Штадион доносил Меттерниху: «Когда я спросил его о перемирии, мне показалось, что он не видит в нём никакой выгоды для себя и своих войск». Тем не менее напору Меттерниха уступил. В итоге по Неймарскому договору перемирие было продлено до 10 августа.
Надежды на мирные переговоры, которые наметили противники в Праге, у Наполеона не было: Меттерниху он не верил и говорил жене:
– Мир будет заключён, если Австрия не захочет ловить рыбу в мутной воде. Императора сбивает с правильного пути Меттерних, который подкуплен российским золотом; этот человек полагает, что политика строится на лжи. Если мне хотят навязать позорные мирные условия, я продолжу войну. Австрия заплатит за всё.
Император Франции хорошо подготовился к продолжению военных действий, так как на мирный договор, который не ущемлял бы интересы его страны, не рассчитывал. Соответственно, были инструктированы А. Коленкур и А. Нарбонн, направленные на мирный конгресс в Праге. Вместо 21 июля они прибыли туда 28-го. Затем до 6 августа обсуждался вопрос о вручении верительных грамот. До некоторых мирных инициатив дело так и не дошло. Конгресс закончился ничем. И в ночь с 10-го на 11 августа на всём пространстве от Праги до главной квартиры союзных армий запылали костры, извещавшие о конце мирных переговоров.
В этот день Австрия объявила войну Наполеону, и 150 тысяч австрийских солдат присоединились к войскам коалиции. Это сразу усилило союзников. К тому же шли им на помощь шведские войска, наступали со стороны Пиренеев испанцы и англичане, коалиция Баварии и Вюртемберг, Баден и Ниссаву. Против Наполеона поднималась вся Европа.
«Я ручаюсь, что свергну Наполеона»
Каковы же были итоги, с которыми противники подошли к очередному столкновению? Силы союзников насчитывали 740 тысяч человек при 1 936 орудиях. Наполеон набрал 555 тысяч при 1 200 орудий, то есть по вооружённым силам (людям и артиллерии) Наполеон сильно уступал противнику. Более того, французская армия на 80–85 процентов состояла из юношей, призванных раньше положенного срока, наскоро вооружённых и обученных. Они не имели военного опыта, не были готовы к длительным марш-броскам и суровым погодным условиям. Кроме того, 50 тысяч саксонцев, вестфальцев, баварцев и гессенцев не горели любовью к Наполеону и были более вредны, чем полезны.
Силы союзников были рассредоточены по трём армиям: 1) Богемской (главной) под командованием генерал-фельдмаршала К. Шварценберга; 2) Силезской под началом Г. Блюхера и 3) Северной под командованием принца Карла Юхана. Главнокомандующим всеми вооружёнными силами союзников назначили австрийца Шварценберга, хотя рвался на эту должность царь Александр I. Генерал Вильсон, представитель Великобритании при ставке союзников, вспоминал:
– Русский император хотел сам возглавить армию, и я никогда не видел человека, более взволнованного, чем он, когда пытался сделать это. И никогда я не видел большего разочарования, чем на его лице, когда ему не предложили этого поста.
Наиболее опасным противником Наполеон считал Блюхера, поэтому сразу устремился на Силезскую армию, но вскоре узнал, что на его левом фланге действует Богемская армия и её основные силы идут к Дрездену, столице Саксонии. Оставив против Блюхера корпус Макдональда, император форсированным маршем двинулся к Дрездену.
25 августа союзники подошли к Дрездену и утром следующего дня приступили к исполнению своего плана по захвату города. Но благоприятный момент был упущен. Когда царь поднялся на высоты Рекница, он увидел французские войска, шедшие по Бауценской дороге. Тут же были получены сведения о прибытии самого Наполеона. Это вызвало препирательство в штабе союзников. По словам Михайловского-Данилевского, «то место, где стояли монархи со штабом своим, уподоблялось шумному народному совещанию». Медлительность Шварценберга привела Моро в крайнее раздражение, и, бросив свою шляпу на землю, он сказал фельдмаршалу: «Чёрт побери вас, сударь! Я не очень удивляюсь тому, что начиная с семнадцатилетнего возраста вы всегда бывали биты». Александр отвёл героя республиканских войн в сторону и постарался успокоить его. «Ваше величество, этот человек лишит вас всего», – не унимался Моро.
Шварценберг покинул совещание и поскакал отыскивать начальника австрийского штаба Радецкого и генерал-квартирмейстера Лангенау, чтобы отдать им распоряжение об отходе. Однако время шло, а отступление не начиналось, более того, в четвёртом часу колонны двинулись вперёд. Видимо, из-за большой растянутости армии (наступление велось на протяжении 15 вёрст) быстро отменить прежние распоряжения оказалось невозможным.
В шестом часу разгорелось сражение. Наполеон, не опасаясь за свой центр, достаточно прикрытый дрезденскими укреплениями, двинул в бой оба своих крыла. К вечеру русские и австрийцы были отброшены от Дрездена. Александр находился на поле боя, пока не стих последний выстрел, а ночью вновь созвал военный совет. Ввиду того что подошедшие к ночи подкрепления увеличили силы союзников до 160 тысяч, ему удалось убедить Шварценберга оставаться на занятых позициях.
Ночью хлынул холодный дождь, увеличив уныние солдат, терпевших недостаток в припасах и обескураженных неудачей приступа.
27/15 августа в шестом часу утра Александр прибыл на позиции. Ливень не утихал, мешая продвижению обеих неприятельских армий и делая ружья совершенно непригодными к использованию. Через час союзная и французская артиллерии вступили в поединок, продолжавшийся без перерыва восемь часов. Всё это время Александр со штабом находился на холме, наблюдая, как ядра проламывают просеки в густых рядах, многие смертоносные снаряды долетали и до холма. Часу в третьем Александр заметил, что его лошадь бьёт копытом о камень, отъехал несколько шагов. Место, на котором стоял царь, занял Моро. Не прошло и минуты, как раздался нарастающий свист и французское ядро прошило его лошадь, а ему оторвало одну ногу и раздробило колено другой. Когда генерала унесли, появился гонец с донесением, что четыре австрийских полка на левом фланге сложили оружие. Все сразу заговорили об отступлении. Александр предложил возобновить бой наутро, но Шварценберг уже был невменяем, он только и твердил, что об огромных потерях, которые и в самом деле были велики – 30 тысяч человек за два дня – и изнурении австрийской армии. Царь с сокрушённым видом предоставил ему распоряжаться. Ночью под непрекращающимся дождём, по колено в грязи началось отступление. В темноте слышались только вопли раненых и ругательства.
Наполеон, промокший до костей, вечером приехал во дворец союзника короля саксонского. Несмотря на непогоду, въезд в Дрезден был обставлен со всевозможной торжественностью: за императором несли трофейные знамёна и вели 15 тысяч пленных союзников. Когда саксонский военный министр поздравил победителя, Наполеон выразил сожаление, что ненастье помешало ему окончательно уничтожить неприятеля.
– Но, – добавил он, – там, где меня нет, всё плохо.
Действительно, победа под Дрезденом была последней улыбкой Фортуны наскучившему любимцу.
В сражении за Дрезден со стороны союзников участвовало 150 тысяч человек, со стороны французов – 70 тысяч. Союзники потеряли 31 тысячу солдат и офицеров и 40 орудий, французы лишились 10 тысяч человек.
Интересно описание этого сражения самим Наполеоном. Находясь уже в заключении на острове Святой Елены, он говорил о нём доктору О’Мира следующее:
«В битве при Дрездене я приказал атаковать войска союзников, находившиеся по обеим флангам моей армии. В то время как проводилась эта операция, центральная группировка моей армии оставалась на месте. На расстоянии примерно в 500 ярдов я заметил группу всадников, собравшихся вместе. Сделав вывод, что они пытаются проследить манёвры моей армии, я принял решение нарушить их планы и вызвал артиллерийского капитана, командовавшего батареей из восемнадцати или двадцати пушек: „Немедленно обстреляйте эту группу людей; возможно, среди них есть несколько младших генералов“. Приказ был выполнен незамедлительно. Одно из пушечных ядер попало в Моро, оторвало обе его ноги и пронзило насквозь его лошадь. Я думаю, те, кто стояли рядом с ним, были убиты или ранены. Минутой раньше с ним беседовал Александр. Ноги Моро были ампутированы недалеко от места его ранения. Одна из его ног, обутая в сапог, которую хирург бросил на землю, была принесена королю Саксонии крестьянином, который сказал, что какой-то высокопоставленный офицер был ранен пушечным ядром. Король, поняв, что имя раненого офицера может быть выяснено благодаря сапогу, послал сапог мне. Сапог осмотрели в моём штабе, но всё, что можно было установить, – это что сапог не был английского или французского производства. На следующий день нам сообщили, что это была нога Моро.
Ничего удивительного не было в том, что через некоторое время я приказал во время военной операции тому же артиллерийскому офицеру с теми же пушками и при схожих обстоятельствах дать залп одновременно из восемнадцати или двадцати пушек в группу офицеров, собравшихся вместе. В результате генерал Сен-При, ещё один француз, предатель, но человек не без таланта, занимавший командную должность в русской армии, был убит вместе со многими другими.
Ничто не является более губительным, чем одновременный залп из дюжины и более пушек в группу противника. От выстрела одной или двух пушек можно спастись, но от одновременного залпа нескольких пушек это почти невозможно».
К рассказу императора, по-видимому, следует добавить одну существенную деталь, опущенную им: во второй день сражения он чувствовал себя неважно, и это сказалось на конечном исходе битвы. Слоон сообщает следующее по этому поводу:
«Наполеон весь день просидел перед костром в какой-то странной апатии, по-видимому, с начинавшимся у него расстройством желудка. В шесть часов Наполеон убедился, что сражение кончено, и, сев на коня, апатично поехал рысью во дворец, причём дождь струился потоками по традиционной его шляпе и серому походному сюртуку».
Если верить капитану Куанье, то в ночь с 27-го на 28 августа во французском штабе знали как нельзя лучше, что неприятель разбит наголову Удивляясь, что Наполеон не принимает никаких мер к тому, чтобы воспользоваться победой, офицеры в товарищеской беседе друг с другом честили своего императора на чём свет стоит. «Этот… погубит нас всех», – говорили они, приправляя свои слова нелестными эпитетами в адрес Наполеона.
Если верить самому великому полководцу, то с ним близ Тирны сделался странный приступ рвоты, заставивший его в этот роковой день положиться во всём на других. Тем не менее, сопоставляя все имеющиеся сведения, приходится заключить, что болезненное состояние императора не играло на самом деле такой существенной роли и что с чисто военной точки зрения французские офицеры имели полное основание его проклинать. Наполеон как будто умышленно воздержался от уничтожения австрийской армии в надежде, что его тесть в благодарность за такое снисхождение отречётся от коалиции и возобновит с ним союз.
Весь образ действий такого гениального полководца, как Наполеон, представляется в данном случае до чрезвычайности странным. Он мог нанести во второй день боя страшный удар союзной армии, но вместо того ограничился только разгромом одного её крыла и после второго дня не распорядится сколько-нибудь энергично преследовать отступающего врага.
Даже и на третий день преследование производилось только для вида. Действительно, Наполеон, начав приводить свой план в исполнение, впал тотчас же в состояние какой-то загадочной усталости и апатии. В продолжение всего боя он находился в таком состоянии, из которого слегка пробудился, лишь когда ему донесли, что Моро смертельно ранен. Причины этой апатии могли быть физического или же нравственного свойства, но ещё вероятнее, что они сводились главным образом к ошибке в политических расчётах.
Словом, известный историк полагает, что Наполеона бес попутал: завершить Дрезденское сражение полным разгромом армии Шварценберга помешало упование на тестя императора Австрии Франца.
Так или иначе, император вышел из строя и почти шесть недель оставался под наблюдением врачей, а его маршалы в это время терпели одно поражение за другим: Ней – при Денневице, Макдональд – на реке Кацбах, Удино – при Гросберене, Вандам – при Кульме.
После неожиданного успеха при Кульме участники конгресса в Праге предоставили Наполеону результат новых совместных переговоров между союзниками. В дополнение к прежним требованиям они выдвинули два новых условия. Первое – отказ от прежнего влияния Франции в Италии и возвращение захваченных итальянских территорий. Второе – отказ от французского влияния в Германии и возвращение немецких территорий. Император по поводу этих предложений заявил:
– Конечно, подобные предложения по своей сути и при нынешнем развитии событий являются более чем приемлемыми, но где гарантии их искренности?
Своим советникам, ратовавшим за принятие предложений союзных держав, говорил:
– Если я откажусь от Германии, то Австрия будет только ещё более настойчиво сражаться, пока не овладеет Италией. Если я уступлю ей Италию, то она попытается вытеснить меня из Германии. Таким образом, одна сделанная уступка только послужит стимулом для того, чтобы добиться новых. От меня станут требовать одну уступку за другой, пока я не отправлюсь назад в Тюильри, откуда французский народ, разгневанный моей слабостью и обвиняющий меня в своих бедствиях, изгонит меня, и, возможно, вполне справедливо, хотя потом он сразу же станет добычей для иностранцев.
– Разве это не точное пророчество событий, которые последовали после вероломных деклараций Франкфурта?! – восклицал Лас Каз, биограф Наполеона.
Наполеон вообще по своей натуре не любил уступать, был человеком крайностей, поэтому закончил свои назидания весьма характерной для войны и правителя фразой:
– В тысячу раз лучше погибнуть в сражении среди ярости торжествующих врагов, ибо даже поражения оставляют после себя уважение к сопернику, когда они сопровождаются его благородной стойкостью.
Кстати. Все пишущие о Наполеоне уделяют особое внимание одному эпизоду сражения под Дрезденом – гибели генерала Моро. И этому есть ряд причин. Первая: Моро был талантливым военачальником, его противопоставляли Наполеону и надеялись на него. Моро действительно успел дать союзникам хороший совет не ввязываться в сражения с самим Наполеоном, а поодиночке громить его маршалов. Но самое главное, чем Моро подкупил российского самодержца, мы узнаём из его письма, отправленного в январе 1813 года русскому посланнику С. Дашкову:
«Это истинное несчастье для человечества, что низкий виновник всех бедствий один ускользнул от крушения, которому подверглась его армия. Он ещё может сделать очень много зла, ибо страх имени его придаёт ему великое влияние на слабых и злополучных французов. Я уверен, что он бежал из России, опасаясь столько же дротиков казаков, как и раздражения войск своих. Пленные французы в России должны быть против него в бешенстве и дышать мщением. Если бы значительное число сих несчастных согласилось, под моим предводительством, выйти на берега Франции, то я ручаюсь, что свергнут Наполеона».
Александр, лишившись Моро, впал в мистицизм и писал князю А.Н. Голицыну:
«Я бы хотел выгравировать золотыми буквами последнюю страницу вашего письма от 2 сентября, мой дорогой друг, и поместить её в сердце каждого истинного христианина. Именно так я рассматривал несчастное происшествие, случившееся с генералом Моро, и лучшим доказательством тому, какое я могу вам дать, служит то, что ещё из Праги я писал в Петербург, что горе нам, если мы вообразим себе, что дело решено, раз уж Моро с нами, – один только Бог, а не Моро или кто-то другой, может довести дело до благоприятного конца; на меня это происшествие, не считая горького сожаления о генерале как человеке, не произвело никакого действия, кроме того, что укрепило во мне веру, что Бог оставляет заботу обо всём за собой одним и что моё доверие к нему сильнее, чем ко всем Моро на свете. У нас дела продолжают идти великолепно. Весь Ваш сердцем и душой».
Сражение под Кульмом
Неудачный исход Дрезденского сражения вынудил союзников отступать на юг, в Богемию. С целью отрезать им путь отхода Наполеон направил в Богемию корпус генерала Р. Вандама. Ему была поставлена задача переправиться на левый берег Эльбы и, продвинувшись на юг по Петерсвальдскому шоссе, упредить союзников и занять южные выходы с гор. Это давало возможность запереть 140-тысячную армию союзников в горном ущелье и разгромить их. Поэтому Наполеон сказал Вандаму, что никогда он не будет иметь лучшего случая заслужить маршальский жезл.
Сорокатысячному корпусу Вандама противостоял генерал Евгений Вюртембергский с отрядом в 13 тысяч человек. Вандам атаковал его малыми группами, что не давало нужного результата. Наполеон, крайне недовольный вялыми действиями генерала, направил ему следующую записку: «Его Величеству угодно, чтобы вы со всеми своими силами атаковали принца Вюртембергского и через Петерсвальд вступили в Богемию. Император полагает, что ваши войска могут занять сообщения, ведущие к Теплицу, прежде, нежели успеет туда прийти неприятель, разбитый под Дрезденом и отступающий на Альтенберг».
Записка подействовала, и Наполеон писал Мюрату: «Брат мой, вчера, 28-го, в шесть утра генерал Вандам атаковал князя Вюртембергского у Гелендорфа. Он взял в плен полторы тысячи человек и захватил четыре орудия. Он действовал энергично: все пленные – русские. Генерал Вендам со своим корпусом двинулся в Теплицу. Генерал Вандам пишет, что страх охватил всю русскую армию».
Сражение под Кульмом
После суток арьергардных боёв русские войска остановились за Кульмом. Им надо было удерживать занятую позицию, чтобы Главная армия сошла с гор и сконцентрировалась у Теплица.
29 (17) августа в десять часов утра Вандам начал наступать. Противники не раз сходились на полях. Офицеры бились в первых рядах. Гвардия совершала чудеса. К трём часам пополудни Вандам бросил в последнюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то ни стало пробить оборону А.И. Остермана-Толстого между левым крылом и центром. Но Александр Иванович умело использовал силы своего небольшого отряда, которому нужно было продержаться до подхода союзников.
Обе стороны несли большие потери. Прибывшие свежие батальоны Вандам тотчас вводил в бой. Он был уверен, что после ожесточённой и кровопролитной схватки у русских не осталось резервов и что вот-вот победа, наступят. Но в этот момент Остерман-Толстой ввёл в сражение лейб-гвардии Драгунский и Уланский полки. Они внезапным стремительным ударом обрушились на неприятеля и смяли его колонны. По всей линии фронта русские перешли в атаку. К этому времени передовые части союзников вышли на Теплицкую дорогу, а французам так и не удалось пробиться через русские войска.
Но сражение продолжалось. Шальным ядром Остерману-Толстому оторвало руку. Когда его снимали с лошади, он улыбался и говорил:
– Вот как я заплатил за честь командовать гвардией. Я доволен.
Вечером к Кульму стали подходить основные силы Богемской армии. На следующий день союзники стянули к месту сражения 40 тысяч солдат, у Вандама оставалось около 30 тысяч. Барклай де Толли приказал русским войскам атаковать противника в лоб. Австрийцы зашли с фланга, пруссаки – в тыл противника. Ударом с трёх сторон корпус Вандама был разгромлен: более 8 тысяч убитых, 13 тысяч были взяты в плен – сам Вандам, начальник его штаба Сирунглен, дивизионный генерал Оке, бригадный командир Брим. Победителям достались 83 орудия противника, два орла и два знамени, весь обоз и личные экипажи офицеров. Победа была полной. Поражение Вандама свело на нет все успехи Наполеона. Что же касается судьбы этого генерала, то его коллега дивизионный генерал Пьер Бертезен рассказывал:
– Вандам имел репутацию грабителя и был жесток по отношению к эмигрантам. Император Александр, к которому он был приведён, принял его, говорят, очень плохо и упрекал за его поведение. Оскорблённый Вандам пожаловался на недостаточное уважение, оказанное ему, и прибавил, что он поступил бы хуже, если бы убил своего отца!
То есть в Западной Европе и через двенадцать лет не забыли о том, как досталась царская корона их освободителю, и не очень-то обольщались внешним лоском этого «азиата».
В рапорте Остерману-Толстому о сражениях под Кульмом Ермолов отнёс весь успех дела на счёт мужества войск и распоряжений Остермана-Толстого. В этом рапорте Ермолов писал: «Не представляю особенно о подвигах отличившихся… офицеров. Из числа их надобно представить списки всех вообще. Не представляю о нижних чинах (солдатах), надобно счислить ряды храбрых полков». Однако Остерман-Толстой, страдая от жестокой раны, прочитал этот рапорт и написал записку, в которой указал, что в нём мало упомянуто «о генерале Ермолове, которому я всю истинную справедливость отдавать привычен». Когда Остерман-Толстой за это сражение получил высокую награду – орден Георгия II степени, он сказал: «Этот орден должен бы принадлежать не мне, а Ермолову, который принимал важное участие в битве и окончил её с такой славой»[11].
Кульмское сражение покрыло русскую гвардию, вынесшую на своих плечах основную тяжесть боя, неувядаемой славой: Преображенскому и Семёновскому полкам, а также гвардейскому морскому экипажу были вручены георгиевские знамёна, а Измайловскому и Егерскому полкам, уже имевшим эти знамёна за Бородино, – георгиевские трубы.
А.П. Ермолов
В честь Кульмской победы в 1835 году в Теплице был воздвигнут памятник. В Праге в память солдат и офицеров, умерших от ран в сражениях под Дрезденом и Кульмом, был открыт памятник, надпись на котором гласила: «Герои! Священ ваш прах стране сей, и память ваша незабвенна в своём Отечестве».
Прусский король наградил орденом Железного креста[12] генералов, офицеров и нижние чины русской гвардии. Это вызвало недовольство пруссаков. Тогда король назвал крест Кульмским. От Железного он отличался отсутствием короны, вензеля и датой учреждения.
3 сентября последовали награды от царя. Барклай де Толли получил орден Святого Георгия I степени, Шварценберг и Блюхер – Святого Андрея Первозванного, Остерман-Толстой – Святого Георгия II степени, Милорадович – шпагу с бриллиантами и 50 тысяч рублей, Ланжерон – вензель и 30 тысяч. Сакен произведён в генералы от инфантерии.
Сражение под Кульмом сыграло роковую роль в судьбе Наполеона: его империя начала рассыпаться. Будучи уже не хозяином, а пленником Европы, он говорил доктору О’Мира:
– После победы под Дрезденом я был полным хозяином положения, и, чтобы обмануть противника, я подготовил план наступления моих войск на Магдебург, которые после переправы через Эльбу должны были двинуться на Берлин. Осуществлением этого манёвра были заняты несколько дивизий французской армии, когда мне доставили письмо от короля Вюртемберга, сообщавшего о том, что баварская армия присоединилась к австрийцам и в составе 80 тысяч человек под командованием Вреде движется к Рейну
Далее король Вюртемберга сообщал, что под давлением присутствия этой армии он вынужден присоединить контингент своих войск к баварским и что вскоре Майнц будет окружён стотысячной армией. Это неожиданное дезертирство полностью изменило план всей военной кампании, и вся предшествовавшая подготовка, чтобы сделать главным театром войны пространство между Эльбой и Одером, оказалась бесполезной.
«С этого момента всё было потеряно»
О положении, сложившемся на начало сентября, В. Слоон сообщает в «Новом жизнеописании Наполеона»: «В великой армии оставалось под ружьём около 250 тысяч человек. Мародёрство всё более усиливалось, и окрестности стоянок французских войск были опустошены. Германские крестьяне и горожане, побуждаемые чувством патриотизма, с замечательным равнодушием относились к сожжению своих жилищ и разорению всего хозяйства. При таких обстоятельствах во французском лагере стало обнаруживаться подавленное настроение, тогда как у союзников робость постепенно сменилась мужеством, а взаимные пререкания – единодушием».
5–6 сентября в сражении при Денневице Бернадот, командовавший Северной армией союзников, разгромил корпус Нея и отбросил его от Берлина. Французы потеряли до 18 тысяч человек, в том числе 16 тысяч пленными, что было позорно для армии Наполеона. Противнику также досталось 60 орудий с 400 зарядными и патронными ящиками и четыре знамени. Александр I прислал Бернадоту за эту победу орден Святого Георгия I степени, император Австрии – орден Марии Терезии, а прусский король – Большой Железный крест.
Маршал Ней
Поражение Нея ещё раз показало, что маршалы Наполеона были лишь блестящими исполнителями его приказов, но сами командовать большими соединениями сил (несколько корпусов, армий) не могли. Впрочем, и кадровый состав вооружённых сил Франции после 1812 года изменился не в лучшую сторону. В. Слоон писал по этому поводу:
«В общей сложности получалось до чрезвычайности невыгодное для французов нравственное впечатление, перед которым совершенно стушёвывалась победа, одержанная ими под Дрезденом. Французы всё ещё великолепно сражались в присутствии Наполеона, но без него блестящие их боевые качества оказывались словно парализованными. Очевидно, что война успела уже им поднадоесть».
Дальнейший ход кампании 1813 года можно уподобить игре в кошки-мышки. Поочередно то одна, то другая армия союзников «делала демонстрацию», выманивая противника на себя. Как только Наполеон начинал движение, союзная армия ретировалась. Очевидец событий того времени вспоминал:
«Когда мы [гвардия] находимся на одном конце, то неприятели обеспокоивают нас на другом, пользуясь нашим отсутствием. Так что мы принуждены бываем немедленно туда поспешать, чтобы обуздать их дерзость. Такая тактика может быть весьма занимательна для них, но не столько для нас. Войска наши устают от маршей и контрмаршей».
За два месяца после прекращения перемирия французская армия пришла в довольно плачевное состояние. Наполеон за это время потерял более 100 тысяч человек и более 250 орудий. Солдатам не хватало еды. Армия падала морально. Увеличилось число дезертиров. В неудовлетворительном состоянии пребывал и сам Наполеон. Один из его сподвижников с удивлением говорил:
– Движения нынешней кампании ознаменованы какой-то нерешительностью, которая никогда не была приметна в войсках под командованием императора.
Лучшей иллюстрацией апатии, вдруг овладевшей Наполеоном, служит рассказ его командира Констана о том, как после занятия города Дюбена 9 октября император часами «выводил большие буквы на листах белой бумаги».
«Когда армии стало известно, что император намерен начать наступление на Берлин, то эта новость послужила сигналом для общего недовольства. Генералы, которые избежали катастрофы в Москве и опасностей двойной кампании в Германии, чувствовали себя уставшими и, возможно, жаждали пожинать плоды своего благосостояния, а также наконец получить возможность отдыха в кругу собственных семей.