Четвёртый семестр
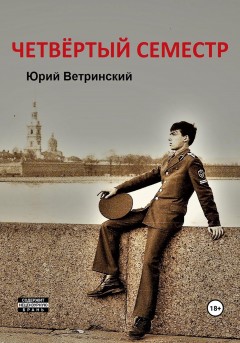
Будни – 1
Родился у мамы с папой сынишка. Захотели они узнать его судьбу. Пришли к гадалке и спрашивают – кем он будет? Та разложила на полу учебник по математике, игрушечный пистолет, бутылку водки и журнал «Плейбой». «А теперь пускайте его! Поползёт к книге – будет учёным, к пистолету – военным, к бутылке – выпивохой, к журналу – бабником». Пустили малыша, а тот пополз, пополз – да и хвать себе всё сразу! «Ну, тут без вариантов – он будет курсантом Можайки1!».
В город на Неве приходит новый день.
Сквозь чуткий утренний сон я слышу голоса дневальных из центрального отсека казармы. По-видимому, наступило время подъёма, и суточный наряд сгрудился у тумбочки, чтобы в означенную минуту пробудить однокурсников диким криком. Ну, так и есть:
Ку-урс, подъём! – орут, кажется, прямо в ухо – Тарзан отдыхает!
Неспокойно сопящая и поскрипывающая тишина спального расположения взрывается скрежетом кроватных пружин и чертыханьем – наши отделения поднимаются.
В проходах между рядами двухъярусных кроватей уже скачут самые шустрые, пытаясь быстро натянуть ушитые бриджи, кто-то шлёпает в казённых тапках из кирзы и резины к сушилке за сапогами, кто-то сразу направляется в туалет, зная, как нелегко будет потом достичь там желанного уединения.
«Кремни» продолжают лежать, натянув на головы синие шерстяные одеяла, в завидной уверенности, что на построение все равно успеют, а если не успеют – то их отсутствия не заметят, а если и заметят – вдруг как-нибудь да обойдётся.
Добрая половина моих относится именно к этой категории – резво вскакивать никто не спешит. Только Сашка Кураев, имеющий несчастье спать надо мной, сразу садится на край кровати, свесив сверху голые пятки. Да и то лишь потому, что опасается пинка снизу, которым я неминуемо его награжу, если слишком залежится.
Сейчас он, по всей видимости, мрачно взирает на сочащееся тусклым светом окно, всё в потёках дождя, и тихо материт себя за то, что поленился вчера сходить в санчасть за освобождением. От меня он пощады не ждёт и пытается примириться с неизбежным.
Вообще-то вылезать на улицу под нудный холодный дождь мне тоже не особо хочется, но я лицо должностное младший сержант и командир отделения. Поэтому отбрасываю одеяло с простынёй на спинку кровати и сиплым со сна голосом командую:
Кому сказано, подъём! – это всем.
Павленко, Раков, что непонятно?! – это конкретным, особо злостным личностям, чтобы поняли, что попали в поле моего зрения. Что, вообще говоря, чревато последствиями.
Теперь пинок ногой через сетку кровати в зад потерявшему бдительность Кураеву (побурчи там у меня!) – и подъём отделения завершён.
С глухим ропотом о неправедном устройстве мира, в котором водятся такие мудилы как я, боевые товарищи одеваются и выскакивают из расположения, заправляясь на ходу.
Курс, выходи строиться! Шире шаг на построение! Становись! – орут дневальные. Им весело смотреть на помятые подушками лица однокурсников.
Старшина Харламов недобрым взглядом провожает несущихся в строй опоздавших. Металлизированные старшинские полосы на погонах тусклым золотом отсвечивают в холодном люминесцентном свете центрального отсека.
Равняйсь! Отставить! Курсант Лосев, за опоздание в строй лишаю Вас очередного увольнения! – Харлам не знает пощады.
Не очень-то и хотелось, – огорчённо бормочет вполголоса Коля, пробираясь за строем курса к своему отделению.
Равняйсь! Смирно! Вариант зарядки номер четыре – кроссовая подготовка, форма одежды номер три2. Вольно!
Строй колышется, разноголосо понося дежурного по институту за то, что выставляет под дождь на улицу. Мог бы объявить разминку по казармам. Чертыхаются беззлобно, для порядка – всё равно без толку.
Построение на улице Красного Курсанта, разойдись!
А больные?! – в один голос вопят забытые «шланги».
Прогулка по плацу четвёртого факультета в шинелях, старший – младший сержант Когтев, – бросает на ходу безжалостный Харлам.
Олег Когтев с тихой укоризной смотрит ему вслед, а мы спешим «оправиться» – на курсе целых два больших туалета, но утром их пропускная способность всегда на пределе. Немалую роль в этом играют хитрецы, сразу запирающиеся в кабинках и сидящие там до победного конца, невзирая на все стуки и угрозы.
А теперь уходите! Это мой колодец! – весело орут они в ответ, оккупировав очко.
Воспользовавшись писсуаром, выхожу на лестничную площадку и в толпе спускаюсь на третий этаж. Здесь мы сливаемся с потоком сонных третьекурсников шестого факультета, живущих под нами, и скорость движения замедляется. Минуем закрытую дверь в нашу столовую на втором этаже и сводчатым историческим коридором шагаем к выходу.
На Красного Курсанта холодно и промозгло, частит дождь. Чёрные лужи под суровым небом вспучиваются куполами сотен пузырьков, отражающих свет уличных фонарей.
Кучки курсантов на мокром асфальте быстро растут, приобретая очертание строя, и как только формируется колонна из пяти коробок, старшины командуют: «Бегом-марш!» – и очередной курс галопом срывается с места.
Юрка Савченко, командир нашей группы, встречает меня укоризненным взглядом – народ уже стоит в позе замёрзшего курсанта3. Киваю ему и становлюсь во главе колонны своих, обменявшись приветствиями с командирами первого и второго отделений Игорем Сосницким и Вовой Важким.
Гарна погода для зарядки! жизнерадостно изрекает никогда не унывающий Вовка.
Его отделение сумрачно помалкивает – привыкли к чудачествам своего сержанта.
Игорь, как обычно, с самого подъёма уже озабочен творческими материями:
Вот смотрите, в той песне, про лётчиков, поётся: «Беда наступила как ветер в глаза». Но какая же может быть беда от ветра в глаза? Никакой ведь, верно?
Мы соглашаемся да, явная нелепица.
Как палка в глаза, предлагаю я.
Точно! – радуется Сосницкий – он любит исправлять слабые места в песнях.
Курс, бегом-марш! – командует Харлам, и мы срываемся в галоп.
Столовая пропитана испарениями от сырых после кросса под дождём хебешек4. С плеч Кураева, который сидит напротив, пар валит столбом, обволакивая тусклый плафон под потолком. Мы сообща решаем, стоит ли есть то, что сегодня предложено на завтрак.
Расставленный загодя кухонным нарядом «гуляш» уже покрылся стеариновой коркой янтарного комбижира, серая жижа ячневой каши5 в бачке тоже не особо греет.
Общий вердикт – ну его нафиг, доберём своё в увале и окрестных булочных.
Переходим сразу к кофе6, сооружая себе богатырские бутерброды из двух кусков белого хлеба с маслом. Настроение приподнятое – сегодня суббота и после ПХД7 можно будет отвлечься от серых будней. Да здравствуют увольнения, культпоходы8 и самоходы9!
Мыслями мы все уже в городе.
Курс, закончить приём пищи, встать! Выходи строиться на плац третьего факультета! – это Харлам.
На плацу нас встречает курсовой офицер капитан Филюшин. Хороший знак – значит, Расыма сегодня не будет – ещё один приятный штрих к предстоящей субботе. Своего Папу10 мы уважаем, но благоразумно стараемся держаться от него подальше.
Начальник нашего курса полковник Ишкаев человек горячий – татарин, можно сказать. Чёрной молнией врываясь утром в расположение, он сходу ошарашивает нас каким-нибудь загадочным высказыванием, затем доводит до общего сведения текущий день недели, после чего приступает к «раздаче слонов». Нынче бог миловал, пронесло.
Мы строимся во взводные колонны, и Харлам командует:
Курс, смирно! Товарищ капитан, второй курс третьего факультета для следования на занятия построен! Старшина курса старшина Харламов!
Фил несколько отрешённо принимает доклад, он романтически задумчив в это весеннее утро. Наверное, мечтает о чудесном переводе от нас куда-нибудь на кафедру или в научно-исследовательскую лабораторию факультета.
Наши настойчивые покашливания и гмыканья выводят его из страны грёз.
Филюшин тихо здоровается и кивает Харламу – отправляй, мол.
Сонный дневальный по КПП распахивает чёрные железные ворота, и курс вытягивается с факультетского плаца на Пионерскую, похлопывая полевыми сумками в такт шагов.
Сквозь рваные тучи набирает силу мартовское солнышко, стучит на стыках рельсов сороковой трамвай – жизнь прекрасна! Полдня занятий и предстоящая уборка казармы и учебного корпуса на ПХД уже не воспринимаются – мыслями мы все уже в городе. Ну, не все, конечно, а официально идущие в увольнение тридцать процентов личного состава курса плюс культпоходчики. Самоходчики, ясное дело, тоже строят свои планы на окрестные общежития с девчонками.
Корпуса Можайки, раскинувшиеся на несколько кварталов, вбирают в себя курсантские колонны, напитывая опустевшие на ночь коридоры и аудитории. Печатают шаг бравые младшие курсы, спешат из общежитий и съёмных комнат отягощённые портфелями и семейными заботами старшекурсники, упруго шагают офицеры-преподаватели, с достоинством шествует военная и гражданская профессура.
Курс под уханье барабана длинной лентой вползает в институт через открытую решётку запасного входа и бодро шлёпает по лужам к серому кирпичному корпусу третьего факультета, где у нас сегодня первой парой лекция по матанализу11.
Курс, стой! Справа по одному на вход шагом-марш! – это Харлам.
Поднимаюсь на четвёртый этаж, приветствуя знакомых, и сворачиваю в коридор между 416-й и 431-й аудиториями, где сразу натыкаюсь на фотовыставку третьего курса «Мы в ЗУЦе12», посвящённую недавно прошедшему у них полевому тактическому учению.
Наш третий курс отличается цинизмом и чёрным чувством юмора – каждая их выставка это просто шедевр и повод для недоумения – как политотдел снова пропустил такое?!
Народ толпится у стендов и прыскает, обсуждая снимки и подписи под ними.
Гвалт смолкает – по коридору идёт начальник нашего факультета генерал-майор Дулевич. Мы поворачиваемся к нему, принимаем строевую стойку – и Владимир Евгеньевич отдаёт каждому из нас воинское приветствие, прикладывая ладонь к папахе и поворачивая голову – маленький, ладный, в «голубой» парадной шинели, затянутый в генеральскую портупею со звездой на пряжке. Его «ТОР»13, по слухам, переведён чуть ли не на пять языков!
Мы одобрительно переглядываемся – не каждый старлей нам так отвечает.
Звучит звонок, и толпа быстро рассасывается, посмеиваясь над майором Кильдеевым из учебного отдела, пытающимся пресечь перетаскивание пронумерованных стульев из одной аудитории в другую.
Здороваюсь с Ханифишем, он кивает в ответ и закатывает глаза – видишь, мол, чем приходится заниматься! Сочувственно покачав головой, иду в аудиторию.
Ну вот кто весной планирует лекции по матану на субботу?! Как по мне, так это дело совершенно безнадёжное. На занятия настроя никакого – да ещё и солнце на улице!
Задумчиво перевожу взгляд с огромного, во всю стену, окна 416-й аудитории на доцента Саморукова, увлечённо заполняющего доску диковинного вида формулами.
Вова Важкий, сидящий рядом, старательно переписывает их в свой конспект. Матанализ даётся Вовке туго, зловещий доцент Саморуков по кличке «Дед Мантан» с искалеченной на войне рукой и седой скандинавской бородкой его пугает. Вовка старше нас на три года, он поступил в институт после срочной службы ракетчиком где-то в Венгрии. В учебной группе его называют «СтарЫй» за ранние залысины и страсть учить всех жизни.
СтарЫй заботливо пихает меня локтем в бок и кивает на доску – пиши мол!
Я вяло ему поддакиваю, но не спешу. Во-первых, лень, а во-вторых, потому что уже хорошо изучил загибы Саморукова, периодически объявляющего, что «это всё неверно» и переписывающего свои иероглифы заново. Кроме того, у меня есть более интересное занятие – я наблюдаю, как двумя рядами ниже ребята из первой группы подкладывают своему засыпающему командиру отделения Лёне Бардакову выдвинутый спичечный коробок, деловито определяя на столе место, куда он неминуемо клюнет носом.
Лёня уже вошёл в режим автоколебаний и мерно раскачивается взад-вперёд с закрытыми глазами и нарастающей амплитудой, сладко посапывая – устал после наряда.
Высшим шиком является поставить коробок в точку, в которой «потухший» товарищ на финальном качке закроет его своим носом до упора.
Половина аудитории, забыв про эскапады Саморукова, завороженно следит за Лёней.
Ну, давай, ещё немного, левее…
Бац! Лёня хлопает лицом в коробок, задвигая его до упора, мгновенно просыпается, хватаясь за нос и, сразу всё сообразив, устало и безнадёжно спрашивает:
– Почему вы такие сволочи?
Соседи по столу делают вид, что вообще не при делах, давясь от сдерживаемого смеха, я тоже трясусь – как мало человеку, в сущности, нужно для радости!
Мне жалко Лёню, он перфекционист – любит, чтобы всё было правильно и красиво. Венец его творения – конспект по матану, который он ведёт с настоящим благоговением, обводя рамочками самые важные формулы и рисуя графики функций разными цветами.
Этот самый чудо-конспект добрые однокурсники, воспользовавшись его полуобморочным состоянием, уже перевернули вверх ногами и заботливо раскрыли на новой странице, рассчитывая, что он машинально продолжит писать, после того как очухается.
Народ, а что такое дивергенция? – задумчиво вопрошает СтарЫй, не в состоянии более поспевать за полётом мысли доцента.
Это почти то же самое, что импотенция, с готовностью объясняют с верхнего ряда.
Вовка, не оборачиваясь, беззлобно показывает им средний палец.
Лёня Бардаков, лихорадочно записывающий в конспект формулы Саморукова, которые проспал, к общему восторгу доходит до конца страницы, переворачивает её и видит уже исписанные листы, перевёрнутые вверх тормашками. На мгновенье он замирает, пытаясь осмыслить происшедшее.
– Ну почему вы такие сволочи? – грустно повторяет он, глядя в осквернённый конспект. Половина аудитории давится еле сдерживаемым хохотом – и я в том числе. Иисус нам точно этого не простит!
Это всё неверно! – оповещает впадающую в прострацию аудиторию Дед Мантан после секундной задумчивости, взмахом мокрой губки смахивает с доски свою многоэтажную формулу и начинает рисовать её заново.
По аудитории стон! Ну, ошибся человек, с кем не бывает?
Принимаюсь за свой конспект, стараясь сдержать улыбку и не смотреть на Важкого.
Юрка Савченко, перегнувшись с верхнего ряда, дружески стучит расстроенного Вовку по лысине и ласково обзывает старым паупером – нахватался ругательных слов на семинарах по философии. Звучит непонятно, но очень похоже на какого-то особенного пердуна.
Послеобеденный развод команд на ПХД и сама уборка назначенных объектов пролетают в мгновение ока – все уже в предвкушении предстоящего увольнения.
Моему отделению сегодня достаётся туалет на первом этаже факультетского корпуса – помещение малоизвестное широкой публике, а потому относительно чистое.
Некий озабоченный художник, правда, изрисовал все стенки кабинок шариковой ручкой, силясь изобразить на них женские половые органы, которых сам явно в глаза не видел.
Мы быстро зачищаем наждачкой бесхитростные плоды его девственных фантазий и протираем пол влажной шваброй, одолженной у дежурного по корпусу.
Возвращаемся на курс по тротуару в колонну по два, я иду сбоку, приглядывая за строем. Десять человек – от Камчатки до Ленинграда. Из них двое москвичей и трое ленинградцев – это самый проблемный контингент. Вместе с примкнувшим Чернышом из Ленинска они никак не могут смириться, что ими командует ровесник – да ещё из какого-то Рустави. Сами они в младшие командиры не рвутся – знают, какая это собачья должность – но при каждом удобном случае пытаются демонстрировать мне свою независимость.
И совершенно напрасно – я безжалостно давлю все их порывы к излишней свободе, умело используя свои небогатые дисциплинарные права – один наряд вне очереди и лишение очередного увольнения. Главное правильно их распределить.
Часть народа, например, так до сих пор и не поняла, куда же здесь ходить в увольнение – в Эрмитаж и на «Аврору» ведь уже сводили на первом курсе? Этих лишением увольнения не пронять – будут в выходные смотреть кино в клубе или шататься по курсу без дела – это москвичи и Черныш. Ленинградцы, наоборот, душу продадут за увольнение.
Каждого из них можно загнать в уставные рамки – и я знаю как.
Впрочем, основные баталии уже в прошлом, я их сломал – теперь они лишь обиженно величают меня тюремной кличкой «начальник» и периодически взбрыкивают – так, остаточные явления. Давно, кстати, не чудили – это настораживает.
Замечаю, как в слаженном шаге отделения нарастает сдвиг по фазе – низкорослые Аникин и Черныш в последней шеренге никак не поспевают за здоровенными Ковтонюком и Кураевым в первой. Всё, потопали вразнобой.
Привычно командую:
– Взять ногу!
– Что непонятно? Взять ногу! – с готовностью дублирует мою команду Дюмон Павленко, и всё отделение, слаженно согнувшись пополам, берёт себя за левую ногу и продолжает так шагать вниз башкой, сдавленно хихикая – обосрали, дескать, Ветра!
Павлин их идейный вождь, бунтарь, Че Гевара – Раков на него вообще чуть не молится. Остальные тоже ему поддакивают, чтобы не заподозрили в позорном соглашательстве с начальством – даже ребята из глубинки и с окраин, которые отлично всё понимают. Страшно представить, чего в своё время натерпелись от него школьные училки.
Димкин отец не последняя шишка в ОМКИК14 – с его помощью наша группа в прошлом году смогла попасть на «Маршала Неделина»15, проходящего здесь ходовые испытания – осмотрели потенциальное место будущей службы. Видимо, отчаялся сам справиться с сыном и сплавил его по знакомству в alma mater в надежде, что всемогущая Система сделает из него «нормального человека». Ага, как же. Блажен, кто верует.
Так уж случилось, но именно я первый винтик этой самой Системы – и мне он этим оказал просто медвежью услугу. Как и самому Димке – тот точно не создан для армии – слишком свободолюбив. А ещё умён, харизматичен и с брызжущим через край чувством юмора – я сам часто не могу удержаться от смеха, слушая его шутки и наблюдая за его проделками. И этим опасен – в Системе все должны быть более-менее одинаковыми и беспрекословно подчиняться своим командирам.
Справиться с Павлином у меня пока не выходит – мы с ним даже дрались в заброшенном туалете напротив Аллочкиного буфета16. Дюмон тяжелее меня, он быстрый как ртуть и со свинцовым ударом правой, но у него слабый нос и хлещущую оттуда кровь без помощи санчасти не остановить. Мои охламоны, увидев окровавленного Павлина, надолго тогда притихли. Но прошло время – и их любимый клоун снова на арене.
Невозмутимо шагаю рядом, с интересом наблюдая, насколько их хватит – идти в таком ракообразном положении ужасно неудобно.
Хватает почти на минуту – кремни!
Первым с ленивой ухмылкой выпрямляется Ковтонюк – дескать, ну ты же понимаешь, что это просто шутка! Потом отпускает ногу и виновато улыбается Истомин – коллектив, мол, ничего личного. К ним быстро присоединяется Алексашин – я, типа, вообще не при чём, это был не я. Кураев делает вид, что просто что-то уронил и долго так искал.
Оппозиционеры тоже принимают вертикальное положение от греха подальше – они уже знают, что со мной надо соблюдать меру. Только преданный Рачила упорно кондыляет кверху задом по Красного Курсанта, не желая подводить своего кумира, пока кто-то не даёт ему сзади дружеского пинка коленом – не тормози, мол, мешаешь.
Все спешат на курс, чтобы успеть подготовиться к увольнению.
Подразнили своего Ветра – и будет.
Новоизмайловский, 16
Выходят из общественного туалета студент и курсант. Студент идёт к умывальнику мыть руки, курсант сразу топает на выход. Студент высокомерно замечает ему вслед: «А вот нас в универе учат мыть руки после того как пописал!». Курсант невозмутимо бросает через плечо: «А нас в Можайке учат не писать на руки!».
Ещё не подведены итоги ПХД, ещё не вернулись с объектов все команды, ещё не высох свежевымытый паркет казармы, а на курсе уже начинается суета. Бытовка забита народом, за утюгами очередь, жужжат электробритвы, у каптёрки17 с парадкой столпотворение.
Это особая суета, греющая курсантское сердце – суета перед увольнением.
Удовлетворённо осматриваю свою парадку – брюки гладить не надо и рубашка почти свежая. Не спеша переодеваюсь и иду к подоконнику нашего спального расположения.
Сегодня я не меняю казённые труселя на элегантные плавки, не надеваю чёрную футболку с таинственной надписью «Sveiks!» и не мою голову холодной водой в умывальнике.
Сегодня в городе меня никто не ждёт. А если и ждёт, то я туда не пойду. Отгорело.
Удобно устраиваюсь на подоконнике и лениво жду команды на построение, по привычке вполглаза присматривая за своими.
Вот Слава Раков сосредоточенно нюхает носки, решая, можно ли в них появиться в приличном обществе. Результат явно неутешительный – это чувствуется и от окна.
Стирать поздно – не успеет высушить – но разве есть безвыходные ситуации для советского курсанта?
Слава поливает носки одеколоном «Айвенго». Это как сыпануть сахару в пересоленный суп – получается натуральное дерьмо, в чём Слава тут же убеждается, в очередной раз осторожно нюхнув носок.
Секундное замешательство сменяется решимостью, и Слава куда-то убегает со своими носками ко всеобщему облегчению остальных обитателей спальника.
Из угла пятой группы раздаются первые аккорды гитары «Клуба лишённых увольнения» – там собрались вычеркнутые из списка увольняемых за успеваемость и «политику».
От тумбы дневального наконец-то раздаётся долгожданное:
Увольняемые, выходи строиться!
Из расположений учебных групп высыпают увольняемые, выстраиваясь в центральном отсеке для осмотра. Не спеша выхожу вслед за всеми.
Харлам обходит строй, придирчиво оглядывая каждого. Обычно при осмотре слабым местом являются причёски, но сегодня с ними всё в порядке – в среду был внезапный строевой смотр факультета, о котором Папаша предупредил нас за неделю.
Харлам, бегло пройдясь по нашим стриженым затылкам, переходит к проверке наличия стрелок на брюках, носовых платков, расчёсок в чехлах, обязательных 10 рублей и тому подобных мелочей. Осмотром он остаётся доволен – удивительный факт – и уже было собирается раздать увольнительные записки, как от тумбы орут:
Курс, смирно!
Товарищ полковник, за время моего дежурства происшествий не случилось, курс готовится к увольнению, дежурный по курсу младший сержант Шапоров! – рапортует кому-то Гена в вестибюле казармы.
Кто это там? Ага, это подполковник Репин, наш зам по службе войск – единственный человек на факультете, у которого голова всегда на плечах.
С чего это он к нам в субботу – да ещё и не один? Рядом с невысоким плотным Репиным стоит элегантная моложавая женщина, с интересом озираясь по сторонам.
Мы недоумённо переглядываемся, но в это время каптёрщик18 Лёха Портнов из четвёртой группы, протискивающийся за строем, громким шёпотом поясняет, что это ревизор – прибыла проверять наличие и учёт материального имущества на курсе.
Харлам докладывает Репину, тот благосклонно его выслушивает, затем поворачивается к строю и в своей обычной манере угукает:
Здравствуйте, товарищи курсанты!
Здравия желаем, товарищ полковник19! гаркаем мы в ответ.
У всех уже дурное предчувствие, поэтому выкладываемся на полную, выпячивая колесом молодецкие груди, но не срабатывает.
Напоминаю о правилах поведения в городе, товарищи курсанты! важно изрекает Репин и начинает пространно «напоминать», явно рисуясь перед своей спутницей.
Я пропускаю избитые фразы из одного уха в другое, мне обидно за дёргающихся в строю ребят – у них же весь убогий остаток времени в городе расписан по минутам!
Харлам тоже недобро посматривает на Репина – но тому хоть бы хны.
Электрические часы на стене с негромким щелчком перебрасывают вперёд чёрную минутную стрелку. Хочется материться.
Ага, похоже, материться не придётся!
Наступившая на курсе тишина выталкивает меня из задумчивости и заставляет воссоздать в памяти последнюю фразу Репина. А она весьма примечательна – особенно если учесть стоящую рядом с ним молодую интеллигентную ревизоршу:
А ботинки у курсанта должны блестеть как у кота что?
Неуместность вопроса доходит до Репина с опозданием, он замолкает и, скосив взгляд на заливающуюся краской женщину, обречённо ждёт, когда из монолитного строя злых на него увольняемых неизбежно донесётся правильный ответ.
Молчание затягивается – мы с удовольствием созерцаем застывшего в замешательстве Репина. Наконец кто-то, сжалившись, бросает:
Глаза, товарищ полковник!
Правильно, глаза! – облегчённо подхватывает Репин и, от греха подальше, приказывает отправлять увольняемых.
Посмеиваясь, спускаемся на первый этаж и, миновав короткий тёмный коридор, ведущий к Аллочкиному буфету, выбираемся через открытый запасной выход на наш плац, где дежурный по факультету снова проверяет наш внешний вид.
Сегодня дежурит капитан Бойко – высокий худой язвенник, похожий на драного кошака в своем поношенном кителе. Тем не менее, многократный призёр института по самбо. Это возвышает капитана в наших глазах и ему прощается многое – в том числе дурная привычка обнюхивать нашего брата по возвращении из увольнения.
Сейчас Бойко, озадаченный нашими уставными причёсками, задумчиво прохаживается между шеренгами и, по всей видимости, усиленно соображает, какое же сделать замечание. Замечание надо сделать обязательно – иначе к чему сам осмотр?
Мы тоже соблюдаем этот странный ритуал и терпеливо ждём.
Бойко, наконец, сориентировался и ехидно интересуется – куда это мы собрались в неуставных брюках?
Сказать нам нечего – у большинства парадные брюки действительно сшиты за десятку в военном ателье на Красного Курсанта. В тех брюках, которые нам выдали на первом курсе, уважающему себя человеку появляться в городе просто недопустимо.
Разработчики фасона, видимо, ориентировались когда-то на человека с большой жопой и толстыми конусообразными ляжками. А поскольку советские курсанты в большинстве своём народ сухой и поджарый, то уставные брюки мятым пузырём провисают сзади и собираются в отвратительные складки внизу.
Шитые брюки действительно являются формальным нарушением выданной нам со склада формы одежды, так что наезд капитана не вызывает у нас активного протеста. Мы просто соображаем, как бы выкрутиться в очередной раз.
Все начинают выразительно покашливать, поглядывая на Дюмона Павленко.
Павлин понимающе кивает и ёрнически окликает дежурного из строя:
Товарищ капитан, вот я один по-уставному одет – все девки мои!
Бойко разворачивается к нахалу, открывает было рот и замирает.
Павлин живёт в Пушкине и парадка нужна ему только чтобы доехать до дома. В городе он в ней не ходит и может позволить себе расхаживать в не пошитых брюках – с отвисшим задом и гармошкой внизу, как у роботов из «Отроков во Вселенной».
Бойко, потрясённый безобразным зрелищем, открывшимся перед ним, ошарашено жуёт губами – ведь, согласно приказам, именно этот курсант и является образцовым!
Капитан мужик без маразмов – он сокрушённо машет на нас рукой и отпускает.
Когда я прохожу мимо, Бойко безнадёжно суёт палец под мой погон, идеально ровный и слегка закруглённый. Вставки он там, конечно же, не находит, поскольку она вшита в сам погон. Понимающе улыбаюсь капитану и, слегка поведя плечом, выхожу из чёрной железной калитки факультетского КПП на Пионерскую.
Павлин сзади прыгает по плацу, растягивая свои шаровары, и фальшивым голосом распевает:
Я клоун, весёлый клоун!
Шипит, распахиваясь, дверь вагона – станция метро «Парк Победы».
Миную подземный переход через Московский проспект и улицу Бассейную, на которой несвежим полосатым шатром раскинулся воняющий звериной мочой цирк-шапито, и выхожу на огромный, заросший сухим бурьяном пустырь.
Вдали призывно синеют десятиэтажки общежитий – это межвузовский студгородок на Новоизмайловском, одно из культовых мест Питера.
Через пустырь ведёт утлая тропинка, огибая неглубокие овраги с зеленеющими лужами и перемежаясь деревянными настилами, проброшенными в особо гиблых местах. Местные называют её Дорогой Жизни. Название не случайное – зимой, когда по заледенелому пустырю свищет злой северный ветер, оно звучит вполне себе уместно.
Огибаю справа студенческий клуб «Перспектива», совмещённый с банно-прачечным комбинатом и библиотекой, и выхожу к девятому корпусу, где живёт мой стоюродный брат Серёга, с которым мы вместе приехали покорять Питер полтора года назад.
Из окна кухни на четвёртом этаже валит дым – похоже на пожар. Но, поскольку оттуда радостно визжат женские голоса, делаю вывод, что народ готовит коллективный ужин.
Вспоминаю, что так и не успел поесть в городе. Шансов поживиться чем-то съедобным у Серёги практически никаких – одна надежда на Ленку.
Вхожу в застеклённый холл, обклеенный афишами и объявлениями, и с улыбкой иду к вахте – сегодня дежурит хорошая бабка. Отдаю ей военный билет, называю номер комнаты – и она спокойно пропускает меня, отмечая прибытие в журнале.
Повезло. Её сменщица заставляет сидеть в пустом пыльном холле и просить идущих наверх студентов вызвать того, к кому пришёл. Лишь тогда она соизволяет открыть проход, бурча что-то явно нелестное в адрес визитёра – чёрт бы её побрал!
Легко взбегаю на четвёртый этаж, почти физически чувствуя взгляды, которыми меня провожают курящие на лестничных клетках диковинно одетые девицы, и сворачиваю налево в длинный голубой коридор с рядами серых дверей по обе стороны.
Меня умиляет, что коридоры всех девяти жилых этажей выкрашены в разные цвета. Наверное, чтобы жильцы после стипендии спьяну не перепутали.
Чуть не сталкиваюсь с компанией, выруливающей из кухни – вполне себе взрослого вида мордач с кастрюлькой и две молодайки, повисшие на нём в предвкушении праздника желудка. Нос улавливает знакомый запах супа «Московский» из пакетика.
Шутливо салютую им, и мордастый с достоинством кивает в ответ – на четвёртом этаже живёт солидный народ. Большинство новоизмайловских холодильщиков20 пришло после армии и подготовительного отделения – этакие деды советского студенчества.
Пройдя полкоридора, стучу в знакомую дверь Серёгиной комнаты.
– Открыто! – орут оттуда почему-то Ленкиным голосом.
Захожу в своеобразную кухню-прихожую, образованную придвинутым торцом к стене шкафом, снимаю шапку и высовываю её из-за угла.
Из комнаты раздаются одобрительные возгласы, и рядом с шапкой пролетает и врезается в стену изрядно потрёпанный библиотечный Сканави21.
Показываю им из-за шкафа средний палец – Ленка ржёт, Лёха сдержанно хмыкает.
Вхожу в комнату и раскланиваюсь.
Ага, влип со своими шутками – кроме Ленки, бородатого Лёхи и Мурада в комнате на Серёгиной кровати сидит незнакомая мне девица. И смотрит на меня с сожалением.
– Серёги нет, придёт поздно! – спешит обрадовать Лёха.
Моё появление ему явно не по вкусу – похоже, он обхаживает незнакомку. Маленький кавказец Мурад не в счёт – он, вопреки стереотипам, очень старательный и скромный холодильщик. Вон, сидит за общим столом в ступоре – куда делся Сканави?!
Мне Мурад нравится – он всегда молча встаёт и здоровается или прощается со мною двумя руками, в чём я усматриваю признак особого к себе уважения.
– Здороваться надо, гость в дом – бог в дом, не слыхал? – осаживаю Лёху-ловеласа и поворачиваюсь к остальным. – Добрый вечер, уважаемые!
– Заходи-заходи, Юр! – зазывает Ленка, прямо как к себе. Сидит на Лёхиной кровати и призывно машет руками. Она мне искренне рада и злорадно косит на Лёху – похоже, за время моего отсутствия снова воспылала к нему нежными чувствами.
Отлично – значит, не будет бухтеть и обзывать меня зелёной какашкой за то, что сама же расколотила дефицитный диск «45-х звёзд», когда я по случаю засосал её на лестнице.
Мурад молча встаёт и здоровается со мною двумя руками. Это производит впечатление на незнакомку – в её взгляде появляется интерес.
Вопросительно поворачиваюсь к Ленке.
– Знакомься, это Света, моя школьная подруга, учится в Ярославле, в медицинском. Вот, заскочила к нам на денёк – Питер посмотреть.
Поскольку представить меня никому в голову не приходит, доброжелательно улыбаюсь симпатичной ярославской гостье и представляюсь сам:
– Меня зовут Юра, я друг этого дома, приятно познакомиться!
В ответ небрежный кивок. Эта надутая Света не соизволит даже руки протянуть и снова поворачивается к Лёхе. Похоже, я со всеми своими лычками не особо её впечатлил.
Лёха на радостях аж позабыл, что нёс – небывалый случай – кинули курсанта!
Пристраиваюсь рядом с Ленкой. Она дружески чмокает меня в щёку и интересуется, где это я пропадал. Сказать мне нечего, поэтому ничего не говорю, а тихо киваю на Свету и выразительно выпячиваю нижнюю губу. Ленка довольно фыркает и понимающе закатывает глаза – вот такая, дескать, важная у меня подружка!
Замечаю на столе бутылку из-под «Далляра»22 и три стакана с розовыми разводами – мне становится смешно. Эх, Света, если бы твоя высокомерная мордашка и правда скрывала под собой особо аристократическое содержание, это пойло уж точно бы пить не стала!
Не говоря уж о том, что ты, как и Ленка, из Караганды – а это диагноз.
Света тем временем возобновляет обсуждение с Лёхой вопроса о длине и крепости члена у негров. Бородастый, похоже, затеял этот спич с расчётом её смутить – а не тут-то было! Без тени смущения и с явным знанием дела Светлана развивает тему – да так, что уши у Лёхи уже багровые. Этих медиков фиг чем смутишь – донельзя циничный народ!
Я с интересом слушаю, заброшенная Ленка недовольно ёрзает рядом, маленький кавказец Мурад с безысходностью во взгляде пялится во вновь обретённого Сканави.
– Ладно, давай напоследок прогуляемся по Невскому, мне ехать скоро! – Света, наконец, оставляет Лёху, взирающего на неё с неприкрытым восхищением.
– Пошли с нами, Юр, Серёга придёт хрен знает когда! – дёргает меня за рукав Ленка. Ей не улыбается быть на вторых ролях, и она, похоже, рассчитывает, что я переключу ярославскую гостью на себя.
Народ собирается. Мурад молча встаёт и прощается со мною двумя руками.
Света с любопытством косится на нас, я ей понимающе киваю – и она, чуть не фыркая, отворачивается, недовольная собой.
Мы с Ленкой выходим первыми и бредём в конец коридора – она к себе за курткой, я в туалет. Ленка брюзжит и жалуется, что к ним подселяют новую соседку – общагу на Яковлевке23 расселяют на капремонт и первокурсников распихивают кого куда.
– Побойся бога, Слива! – стыжу её. Сам я живу в одном расположении с двадцатью молодцами и не парюсь по этому поводу. – Комната трёхместная и тесно тебе ещё!
Ленка слегка смущается – забыла, что я в курсе их квартирных дел. Живут-то они с Галкой Федорчук вдвоём, но в комнате так и числится вышедшая полгода назад замуж Светка Олениченко, что даёт подругам повод стонать и жаловаться на свою якобы несчастную тесную жизнь.
Про себя сочувствую их будущей соседке – съедят!
Пять минут спустя встречаемся на вахте, дружной толпой идём к «Парку Победы» и через полчаса подземного полёта и переходов выныриваем на «Площади Восстания».
Пристраиваюсь сзади. Нет никакого желания заигрывать с этой залётной Светой, да она не особо кому это и позволяет. Вижу, как в тесноте эскалатора Лёха тихо трогает её за руку и тут же поспешно отпускает под насмешливо-выжидательным взглядом.
Довольная Ленка делает вид, что ничего не заметила – ведьма!
Перед нами вечерний Невский. Мы направляемся в сторону далёкого, ярко освещённого шпиля Адмиралтейства. Лёха вызывается на роль гида. Он, оказывается, и правда много чего знает про архитектуру проспекта – а сейчас ещё и вдохновлён вниманием Светы.
Я такими познаниями не обладаю, поэтому просто иду за ними, приветствуя встречных офицеров. Меня сейчас это вполне устраивает – настроение смутное какое-то.
На Невском проспекте добрая треть нашего курса провела своё первое увольнение. Впервые выпущенные из Красных казарм в самостоятельный поход в город, мы даже не знали толком куда идти. В ушах звенела лишь последняя фраза Харлама: «На Невский проспект не ходить – там полно патрулей и вас сразу запишут!».
Ну, конечно же, именно на Невском мы все и встретились!
Никогда не забуду того ощущения сказки, которое испытал, шагая по залитому огнями вечернему Невскому, глазея на сияющую Гостинку24, заглядывая в таинственные зеленоватые окна Лягушатника25 – словами этого не передать…
Занятый ностальгическими воспоминаниями, тем не менее, замечаю, что Света слушает Лёхины рассказки всё хуже и хуже. Она беспокойно озирается по сторонам безо всякой связи с повествованием, и даже дебилу ясно, что архитектура её уже не интересует.
Лёхе не ясно – он продолжает блистать эрудицией.
У Дома Военной Книги Света поворачивается и смотрит на меня совсем затравленным взглядом. Ленка и бородастый недоумённо останавливаются.
Не спеша догоняю их, беру Свету за руку и молча веду за собой. Она покорно семенит рядом, крепко сжимая мою ладонь. У туалета отпускаю её и, растеряв остатки величия, Светлана пулей несётся в заветный полуподвал.
Выхожу к чернеющей в сумерках Мойке, опираюсь о чугунное ограждение набережной и жду, когда она «оправится». Ленки с Лёхой не видно – наверняка выясняют отношения.
Проблемы Светы мне непонятны – могла бы просто спросить: «А где здесь сортир?». Решила строить из себя недоступную некакающую принцессу – ну, флаг в руки.
Кто-то осторожно пристраивается рядом, опираясь на перила. Это Света.
– Я уже всё, – она несмело улыбается, отводя глаза.
Протягиваю ей руку:
– Юра.
Лицо ярославской гостьи заливается краской:
– Света, – она робко тянет свою ладошку.
– Если б не выпендривалась, я бы тебе кварталов на пять раньше показал, – доверительно сообщаю ей.
– Юрка, ты зараза! – облегчённо и радостно прыскает Света.
Мне приятно слышать от неё такие живые слова, я тоже смеюсь. Стоим на набережной и смеёмся, глядя друг на друга. И внезапно у меня возникает ощущение необыкновенной близости – я сейчас понимаю её без слов и знаю, что она меня тоже.
Появляются Лёха с Ленкой, и я неохотно отпускаю Светину руку.
Лёха топчется на месте, не зная, что сказать. До него, наконец, дошло, что весь его пыл пропал даром, а что делать дальше он понятия не имеет. Ленка тоже помалкивает.
У Светы снова наливается жаром лицо, и я предлагаю:
– Пошли обратно к вокзалу, я расскажу про остальное.
Народ следом за мной переходит проспект, на лицах усталость, но я уверен, что смогу их расшевелить. Я тоже кое-что успел узнать здесь про Невский, хотя за историческую достоверность своих рассказов и не поручусь.
Безразличие быстро сменяется интересом, а уже у Казанского общий смех переходит во всхлипывание. Даже Лёха оставил обиженный вид и хохочет вместе со всеми.
Прохожие оглядываются на нас, но причину веселья не понимают, поскольку я вещаю вполголоса. Мне их внимание нафиг не нужно, я в форме, поэтому тащу ребят дальше, хотя сделать это непросто. Вдохновлённые очередной байкой о мести оскорблённого скульптора Барклаю-де-Толли, они бегают вокруг памятника в поисках места, откуда бедняга Барклай будет выглядеть неприлично со своим маршальским жезлом в опущенной руке. Радостный вопль – нашли! Мы движемся дальше.
У Дворца Пионеров ловлю пристальный Светин взгляд. Встречаю ее глаза и вижу, что они серьёзны, гипноз смеха прошёл. Меня снова охватывает ощущение, что мы разговариваем без слов и в этом красноречивом молчании говорим друг другу такое, чего не говорят в первый день знакомства. Киваю, показывая, что понял – и она кивает в ответ.
Наваждение какое-то – ведь нас всё это совсем не удивляет!
Как отвязаться от Ленки с Лёхой я знаю сотню способов. Сейчас я просто оставлю их у Аничкова моста, через который мы переходим.
– Вот еще один памятник архитектуры – Мост Шестнадцати Яиц, – продолжаю, как ни в чём не бывало. – В честь победы в Отечественной войне двенадцатого года скульптор изваял между ног одного из коней лицо Наполеона. Ну, вместо хуя. Там и треуголка, и все дела. Самолично не могу сказать под каким именно, но если народ желает…
Народ, кроме Светы, разумеется, желает – Ленка цепко тянет Лёху к ближайшему коню, подмигнув мне напоследок. Уж не знаю, что они там разглядят при таком освещении.
Больше не скрываясь, беру Свету за руку, мы снова переходим проспект и быстро шагаем к Московскому вокзалу. Наши пальцы переплетаются, я чувствую жар её ладони. Друг на друга не смотрим и ничего не говорим.
У кинотеатра «Нева» заходим в тёмную арку, ведущую во двор к кинозалу. Фильм уже начался, и арка безлюдна.
Поворачиваю Свету к себе, и мы отчаянно и бесстыдно целуемся с обречённостью людей, знающих, что продолжения не будет. Что скорый поезд через час умчит её в загадочный Ярославль, а меня уже ждут Красные казармы.
Краем глаза замечаю подошедшую семёрку, шепчу: «Мне пора» и быстрым шагом иду к остановке. Успеваю запрыгнуть в потное брюхо троллейбуса и, продравшись к заднему стеклу, ещё раз увидеть Свету.
Она одиноко стоит у арки и смотрит мне вслед.
Будни – 2
Достаёт подруга курсанта: «Ну что вы делаете у себя в казарме в свободное время?». Тому это надоело: «Спускай трусики и становись в тот угол раком!». Та встала и ждёт: «Сейчас меня отымеют!». Курсант: «Нет, лучше в другой!». Та перебралась в другой угол и ждёт: «Сейчас точно отымеют!». Курсант прогнал её по остальным углам и поясняет: «Вот так и мы в казарме шатаемся из угла в угол и ждём, когда начальство за что-то отымеет!».
В воскресенье с утра ежегодная спартакиада факультета. Младшие курсы соревнуются в стометровке, шведской и военной26 эстафетах, подъёме переворотом и перетягивании каната. Переходящим призом служит компактный кубок в виде олимпийской чаши на постаменте, извергающей языки пламени. Эти языки выполнены в абстрактной манере и очень похожи на металлические пальцы, что дает нам повод с лёгкой руки Славы Ракова называть факультетский кубок «Железной пакшой». Борьба за обладание «Железной пакшей» однозначно затянется до обеда, увольняемые матерятся – полдня потеряно.
Нашей группе увольнение не светит – мы заступаем в кухонный наряд – но корячиться на стадионе нам тоже не особо улыбается. Юрка Савченко минут пять препирается на эту тему с Филюшиным – безрезультатно, как и следовало ожидать.
Чертыхаясь, бредём на стадион, где, раззадорившись, всерьёз пытаемся показать, кто тут самый лучший. Но фортуна сегодня не с нами, и «Пакша» уплывает на третий курс.
Народ отправляется расслабляться по казармам, а нас ждёт работа.
Кухонный наряд заступает в восемнадцать, но по факту он начинается сразу после обеда. Сначала мы идём в санчасть за индульгенцией от дежурного врача. Затем переодеваемся в подменку27 и спускаемся на второй этаж в столовую. Здесь в «холодном» цехе нас ждут залежи картошки – суточная норма нашей третьей столовой – её надо перечистить.
Савченко раздаёт орудия труда тупоносые столовые ножи и их обломки.
Народ рассаживается вокруг ящиков с картошкой, пододвигая их поближе.
С богом! – наш командир запускает руку в ближайший ящик.
Сосницкий нажимает клавишу «Весны», и севший динамик старого кассетника заводит «Балаган» Токарева. В пение Вилли и наш гомон вплетаются гул и скрежет – Кураев с Лосем налаживают столовскую машину для чистки картофеля.
Это чудо советской кулинарной техники представляет собой толстый чугунный цилиндр с крутящимся дном на электроприводе. Внутренние стены и дно цилиндра покрыты крутым наждаком, который и сдирает кожуру с бедного овоща.
Сей агрегат, похожий на компактную обшарпанную бетономешалку, работает только в руках Лося, который что-то в нём замыкает и подкручивает, пока тот не заводится.
Сашка с важным видом направляет в тёмное жерло цилиндра струю воды из шланга – тоже необходимый атрибут работы этого адского приспособления.
Я читал в журнале «Техника-молодежи» про паровакуумный способ чистки овощей. Это когда в камеру с овощами впускают горячий пар, их кожура проваривается по всей поверхности, а потом воздух резко откачивают – и мягкая шкурка слетает.
Неуместные воспоминания так и лезут в голову, когда я краем глаза наблюдаю, как Лось с Кураевым высыпают из кошмарной машины готовый продукт. Имей клубень форму шара, всё было бы просто чудесно. Но в жизни всё сложнее – наждак сбривает выпуклости, совершенно не добираясь до впуклостей, не говоря уж о всяких там глазках.
Савченко переводит тяжёлый взгляд с недоделанного корнеплода на горе-чистильщиков, и те без слов начинают грузить его обратно.
Бросаю в ванну с водой очищенную картофелину и тянусь за следующей.
Через три часа темп падает, ножи перестают мелькать, народ под разными предлогами начинает тихо сматываться. Но дело сделано – две ванны наполнены под завязку.
Юрка довольно оглядывает горы картофельной шелухи и бросает нож в ящик:
Шабаш!
Важкий делает знак «Глуши моторы», и скрежет прекращается. В тишине шипит вода кураевского шланга. Лось вываливает из своего свинтопрульного агрегата пригоршню идеально чистой картошки. Величиной с голубиное яйцо. Теперь точно всё.
Подтягиваемся к нашему залу. Курс уже ужинает. Ну, не весь курс, а то, что от него осталось после ухода увольняемых и культпоходчиков.
Рассаживаемся за накрытыми столами, и я молча вручаю черпак Кураеву.
Ну сколько можно! – возмущается он, раскладывая водянистое пюре по мискам.
Вообще-то возмущается он совершенно справедливо, поскольку я время от времени забываю, кто за нашим столом очередной раздатчик, и начинаю счёт заново – с него. Потому что сидит напротив.
В зал торжественно входит здоровый детина в белой рубахе – старый наряд. В руках бачок с жёлтыми цилиндриками порционного сливочного масла.
От нашего стола – вашему столу! – церемонно провозглашает он с лёгким поклоном. – И покорнейшая просьба отпустить пораньше, мы собираемся в крокодильник28.
Народ, разбирая масло по столам, угрожающе обещает:
Мы вам сегодня покажем! Уйдёте к полуночи!
Кафель драить! Бачки перемывать!
Это значит, что подношение принято, и мы не станем их задерживать при смене наряда – тем более что это наши соседи снизу, туалет которых мы периодически заливаем.
Ухмыляющийся детина, сделав нам ручкой, уходит – их наряд подошёл к концу.
Ну а нам пора работать. Выслушиваем инструктаж Филюшина, заступившего дежурным по столовой, и разбредаемся по своим объектам – в варочную, моечную, «холодный» и овощные цеха, залы и отстойник для пищевых отходов, именуемый Полем Чудес.
Я, Истомин, Раков, Аникин и Черныш обслуживаем залы. Мы зальные. Наша задача – собрать грязную посуду и отвезти её в моечную, после чего мы убираем залы и моем столы, а потом сервируем их и развозим еду перед прибытием курсов. И так три раза – завтрак, обед и ужин. Это нелегко, но мы здесь не впервой и давно освоились.
Разбираем тележки на колёсиках и расходимся по залам. Вечером можно особо не спешить, времени навалом. Тем более что сегодня много народу в увольнении.
Собираем со столов посуду и свозим её в моечную. Здесь в клубах пара, балансируя на скользком от въевшегося жира кафельном полу, орудуют наши мойщики.
Верховодит тут бывший десантник Сашка Крылов из второго отделения по прозвищу «Крыл». Сейчас Крыл пытается вернуть к жизни столовскую посудомоечную машину.
Машина эта смахивает на внушительных размеров железный гроб на гусенице. На этой гусенице уже установлены очищенные от объедков тарелки, готовые заехать внутрь под тугие струи горячей воды. Но как раз струй-то и нет.
Работающий тут же Вовка Важкий приподнимается над квадратным стальным баком с мыльной водой и залихватски подмигивает Крылу:
Кто сказал, что надо бросить песню на войне?!
Крыл на него не реагирует – привык к чудачествам СтарОго. Вода наконец-то с шипением бьёт из труб, гусеница приходит в движение – теперь порядок.
Черныш, озабоченно созерцающий поединок человека с машиной в дверном проёме моечной, довольно показывает нам большой палец. Ведь для нас тоже важно, работает машина или нет – в случае её порчи мойщики, зашиваясь вручную с бачками и мисками, наотрез отказываются мыть стаканы и чашки, сваливая это на зальных.
Ну а перемыть на месте стаканы и чашки во всех залах – нелёгкое испытание. Как для зальных, так и для тех, кто будет потом из них пить.
Отшумели, отмелькали завтрак и обед. Мы лежим на составленных стульях в нашем зале. Наряд подходит к концу, всё готово к ужину – осталось развезти кашу и чай перед приходом курсов – хлеб и плошки с остывающим «гуляшом» уже на столах.
До раздачи минут пять, и мы пользуемся моментом, чтобы расслабиться.
Юр, надо бы сходить на Дерптский, подаёт голос Истомин.
Да, в воскресенье надо нанести визит в общежитие технолужки29 в Дерптском переулке и помочь знакомым девчонкам с упражнениями по матану и физике. Давно пора.
Ворочаюсь, пытаясь отыскать удобную позу, бросаю взгляд на часы – удастся ли ещё немного полежать? Да хрен там – столовая внезапно наполняется топотом и гвалтом.
Шагаю к варочной, толкая перед собой двухъярусную тележку, обляпанную застывшим комбижиром. Сворачиваю в предбанник, где толстая Нюра накрывает дежурному по институту столик, за которым тот будет «снимать пробу пищи из общего котла».
Столовские легенды гласят, что для дежурного поварихи готовят отдельно.
Ты ему из общего котла ложи, слышь, Нюр? – советует едущий за мной Истомин.
Нюрка выразительным движением необъятной задницы посылает нас обоих куда подальше. Умеет же! Мы смеёмся.
Аникин уже выруливает навстречу, он ухитрился поставить на оба яруса тележки бачки в три ряда. Из крайних, сильно наклонённых к центру, бачков каша не выплёскивается, что возможно только при солидном недоливе. Впрочем, нас это вполне устраивает – с одной такой тележкой можно обслужить сразу полтора зала.
Поберегись! – Аникин с усилием толкает непослушную тележку к выходу из варочной, набирает скорость – и дальше уже тяжёлая тележка тащит его самого.
Въезжаем в варочную. Сапоги скользят по кафелю, жир здесь въелся во все поры.
Ага, вот и разгадка недолива! Над большим электрическим баком с кашей высится фигура Кураева. Ирмы-раздатчицы нет, и Сашка помогает зальным, наливая по пол корца.
Давай! – паркую свою тележку у бака, сзади подруливает Игорь.
Черныш, наполняющий рядом чайники, тихо матерится – обжёгся кипятком.
Первый! – начинает свое чёрное дело Сашка, плюхая половину большого половника в мой бачок. Серая ячневая жижа недовольно булькает в ответ.