Звук вопреки тишине. История, написанная телом
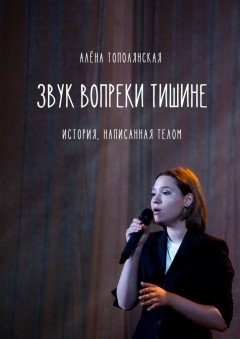
© Алёна Тополянская, 2025
ISBN 978-5-0068-1786-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Как мы здесь оказались?
…Мне три года, мы ходим с мамой и папой по магазинам, и я во весь голос пою одну из популярных английских песен. Папа ругается на маму, что она замучила трехлетку и заставила выучить текст на неизвестном ребенку языке, а мама отмахивается от его возмущений тем, что она сама не знает английский, а песню я пою, каким-то образом выучив текст и мелодию на слух. Если внимательно прислушаться, становится понятно, что это просто имитация английского текста, но, тем не менее, я пою…
…Мне семь лет, и я сталкиваюсь с первым провалом. Я уже год учусь игре на фортепиано, и мой педагог уговаривает мою маму отдать меня в музыкальную школу. Удача не на моей стороне, я простужаюсь перед прослушиванием, плохо пою и не могу повторить ритм и мелодию на слух, потому что от бесконечного насморка у меня закладывает уши.
В музыкальной школе моей маме говорят «мы перезвоним вам позже» и до ноября моя мама бесконечно обрывает их телефон звонками. В конечном счете, они сдаются под натиском маминых звонков, и я становлюсь ученицей хорового отделения, хотя поступала я на фортепианное.
Мой новый педагог предлагает моей маме позже перевести меня на то отделение, где будет больше часов игры на фортепиано, но, неожиданно для всех, я встаю в «позу» и говорю, что я хочу петь…
…Мне девять лет, и, под чарами популярных сериалов про школьные рок-группы, я собираю свою. Мама помогает с текстами, но, чаще всего, все песни я пишу сама. Они детские, дурацкие и простые, но нас все вокруг очень поддерживают, дают ключи от актового зала и даже выпускают на сцену на концертах.
Нас в группе четверо, в какой-то момент одна девочка меняет школу, а пока мы пытаемся найти ей замену, еще одна девочка переезжает в другой район. Группа разваливается, а я ужасно грущу, потому что люблю писать песни и петь, но делать это в одиночестве мне не хватает смелости…
…Мне около одиннадцати лет, у меня случается первый кризис из-за смены педагога по хору, и я начинаю прогуливать хор в знак протеста. Спустя несколько месяцев меня ловят на прогулах, а я старательно «отмазываюсь» тем, что не слышала свою фамилию на перекличке и, что на самом деле я ни разу не пропускала.
Педагог дает мне ноты нового произведения, а другие три я выучиваю на ходу, потому что боюсь, что мой обман раскроется. Я могла бы отсидеться в конце класса, как делали некоторые в нашем хоре, но я иду к педагогу «сдавать партии», которые я
выучила на слух, чтобы мне эти песни засчитали, и я выступила на концерте. Потому что, по правде сказать, я очень люблю выступать на сцене…
…Мне почти двенадцать лет, я меняю школу и впервые сталкиваюсь с буллингом. Хор и музыкальная школа становятся моим «островком безопасности», а педагог по хору в моей голове превращается в идеальную модель моего будущего. Я точно решаюсь поступать в музыкальную академию или консерваторию, чтобы стать дирижером хора и быть как она.
Мысли мои в тот момент были таковы: мне нравится преподавать (к тому моменту я уже замучила всех своих друзей играми в педагога по фортепиано) и мне нравится петь. Вроде бы все логично, кроме одного: дирижер хора никогда сам никогда не поет, но в тот момент я не замечаю никаких противоречий…
…Мне тринадцать лет, и мой мир рушится. Два года жесткого буллинга до сих пор практически отсутствуют у меня в памяти, но я хорошо помню ощущение беспомощности, когда я понимаю, что я не смогу сдать экзамены в конце одиннадцатого класса, потому что, к этому моменту я настолько затравлена, что не усваиваю школьную программу от слова совсем.
Мир рушится второй раз, и я начинаю терять голос после занятий по хору. Выглядит это следующим образом: я занимаюсь, потом три занятия я сижу молча, потому что не могу даже
говорить, восстанавливаюсь, снова занимаюсь и снова молчу. Все вокруг списывают это на сложный период пубертата, но мой мир рушится в третий раз, и я понимаю, что все, к чему я шла, не имеет смысла, я не хочу быть дирижером, потому что хочу петь…
…Мне четырнадцать лет, и я принимаю решение искать колледж, куда можно поступить на вокальное отделение. Нахожу себе педагога, которая становится мои новым «островком безопасности», превращаюсь в назойливого приставучего подростка, но, несмотря на всю мою «бесячесть», получаю невероятное количество поддержки. Однажды я приношу на занятие песню, которую я подобрала на слух на фортепиано, сажусь за инструмент, играю и пою, а после занятия получаю огромное сообщение от педагога с похвалой и восторгом.
Для меня все это выглядит как сон, потому что еще никогда до этого момента я не чувствовала такой поддержки и заботы и на этой эйфории я начинаю активно прокачивать все, что я могу прокачивать сама, гнаться за сложными песнями, подбирать все новые и новые песни на фортепиано, потому что мне жизненно важно, чтобы меня хвалили…
…Мне пятнадцать лет, я в колледже и я хочу сбежать, потому что мне пришлось перестать заниматься у любимого педагога и начать заниматься с педагогом из колледжа, которая мне
не нравится… мне шестнадцать лет, с моим голосом снова происходит какой-то ужас, я начинаю терять его снова, теперь уже от неподходящих мне нагрузок… мне семнадцать лет, я меняю педагога в колледже и во второй раз в жизни сталкиваюсь с травлей, уже не от детей, а от педагогов и учебной части. Я отличница, я иду на красный диплом, но мою маму достают звонками, что я связалась с плохой компанией, что я умру в канаве бомжом, сопьюсь и я самый ужасный человек… мне девятнадцать лет, на носу выпускной экзамен по вокалу, на который я не хочу выходить, потому что мне абсолютно не нравится, как звучит мой голос и я ничего не могу с этим поделать.
Происходит страшное: во время экзамена уровень ужаса и стресса от происходящего настолько невыносимый, что моя психика предпочитает «отключать» меня от происходящего каждый раз, как в моей руке оказывается микрофон. До сих пор я не имею понятия, хорошо я спела или нет, справилась ли, было ли это красиво, потому что в моей памяти картинки обрываются. Сразу же, как экзамен заканчивается, я понимаю, что больше не могу с этим сталкиваться и принимаю решение, что больше я петь не хочу…
Спустя много лет занятий у моего любимого педагога, которая в мои четырнадцать хвалила меня за каждый сделанный шаг, а сейчас стала моей коллегой и подругой, я почувствую, что я все еще обожаю петь, что я все еще могу писать песни, как в детстве, что я хочу выходить на сцену, даже если мне страшно и что я по-настоящему люблю свой голос. Я снова начну выходить на сцену, выпущу несколько песен и поучаствую в съемках вместе с командой мастерской, где я работаю.
Спустя долгие годы терапии я узнаю, что тогда со мной случилась «диссоциация» – защитный механизм психики, когда человек отделяет себя от слишком болезненных мыслей, чувств или воспоминаний. Это похоже на «отключение» или «уход в себя», чтобы не чувствовать боль, страх или ужас происходящего.
Спустя несколько лет работы педагогом по вокалу для взрослых, я увижу, что вокал «поднимает» какой-то психологический материал у людей, с которыми я занимаюсь, а техник стабилизации состояния в моем арсенале не так уж и много. Я начну привносить в занятия разные практики, которые узнаю на своей собственной терапии, но, в конце концов, сдамся и пойду получать образование психолога, потому что мне страшно интересно, как же это все работает.
В процессе обучения я выберу для себя направление «травматерапия», потому что я знаю на своей собственной шкуре, как это ощущается изнутри. Параллельно я получу высшее образование как вокалистка и окончательно пойму, что система оценивания убивает во мне все детское и творческое, что есть. Бонусом я проведу несколько вебинаров для института психологии и даже проведу мастер-класс на крупнейшем фестивале телесно-голосовой терапии, а еще познакомлюсь с такой историей как «тревожно-депрессивное расстройство».
Все это, в совокупности и привело меня туда, где мы сейчас оказались.
У меня все еще нет ответов на многие возникающие вопросы, но есть большое желание поделиться тем, что я уже обнаружила с помощью занятий вокалом, терапии, различных обучений и практического опыта. Эта книга – не руководство по самопомощи в чистом виде, это личное и научное исследование одного вопроса: как именно невысказанные истории нашего прошлого поселяются в наших голосовых связках, диафрагме, осанке – и как мы можем помочь им найти выход? Мы будем смотреть на голос не как на набор мышц, а как на биографию, написанную телом.
Несмотря на то, что этическим принципом «конфиденциальности» я связана только с клиентами, которые находятся у меня в терапии, я все же хочу сохранить конфиденциальность и своих учеников. Поэтому любые примеры из практики и человеческие истории будут сохранять суть, но имена, факты и детали будут изменены. Своим же личным опытом я постараюсь делиться без изменений.
Я не жду, что вы просто прочтете эту книгу, а приглашаю вас исследовать различные процессы вместе со мной. Сомневайтесь, проверяйте, носите эти идеи с собой и смотрите, как они резонируют с вашим опытом.
Вводная часть: принципы безопасной практики
Если бы меня попросили выделить всего один принцип, самую главную заповедь работы с голосом, это был бы принцип «Не навреди». Он важнее, чем красивое звучание, чем широкий диапазон, чем мощные высокие ноты. Потому что без него все эти цели могут оказаться не просто недостижимыми, а разрушительными.
Вспомните свою историю. Вспомните те моменты, когда вас заставляли «взять себя в руки», «преодолеть страх», «не раскисать». Важное примечание: я говорю не про «подбадривающие» послания, не про прикладывание усилий (потому что усилия нам все еще нужны, ведь без фрустрации нет роста), а про применение насилия в отношении тела и голоса. Скорее всего, за этим следовало не облегчение, а лишь чувство вины и собственной неполноценности. Потому что насилие – даже во имя благих целей – всегда травмирует. Оно ломает не зажимы, а саму веру в возможность исцеления.
Эта часть книги – не о том, как быстрее прийти к результату. Она о том, как сделать сам процесс путешествия к своему голосу безопасным, уважительным и, как это ни парадоксально, устойчивым. Мы часто хотим всего и сразу, но природа нервной системы устроена иначе. Дуб, выросший за год, будет хрупким и пустотелым, а тот, что десятилетиями наращивал свои кольца, выстоит в любой шторм.
Здесь и сейчас мы с вами заключаем новое соглашение с собственным телом. Мы обещаем ему не ломать его через колено, а прислушиваться, не игнорировать сигналы «стоп», а видеть в них ценные сообщения, не требовать, а приглашать.
Это ваш набор инструментов для создания внутренней безопасности. Безопасности, в которой только и может родиться по-настоящему свободный, сильный и ваш собственный голос. Давайте начнем это бережное путешествие.
…Мне девять лет и в музыкальной школе у меня внезапно меняется педагог по фортепиано. Вместо теплой принимающей женщины, которая выбила мне дополнительные часы занятий, разрешала импровизировать и переделывать произведения и дарила мне маленькие игрушечки после каждого экзамена, теперь со мной занимается очень строгая и недовольная женщина. Она постоянно тыкает пальцами в мои плечи, показывая, как нужно нажимать на клавиши и дергает за локти в попытках меня расслабить. Мероприятие выглядит сомнительно, потому что от таких манипуляций я вжимаюсь в стул еще сильнее, а мои плечи каменеют, и я вообще не могу оторвать руки от тела.
Вместо плотных нажатий на клавиши я начинаю играть, едва прикасаясь к инструменту, потому что боюсь сыграть не ту ноту. К концу занятия у меня трещит голова от напряжения, а плечи болят от того, как сильно они вжаты. Несколько раз за отвратительную игру меня запирают в «чужом» классе, чтобы я нормально позанималась (педагог считает, что я так плохо играю из-за недостаточных занятий дома), что еще больше вызывает у меня отвращение к самой игре на инструменте, к музыке в целом и к моему присутствию в музыке, в частности. Я думаю: «Со мной что-то не так. Я слабая. У меня ничего не получается, я играю хуже, чем девочки, у которых в два раза меньше часов занятий в неделю. Я бестолковая и глупая». Часто мои «домашние» попытки выучить произведения заканчиваются аффектами – я настолько уже не верю в себя, что начинаю ругать себя уже сама, искренне веря, что если я сейчас на себя наору, то и произведение выучится.
Только спустя годы, изучая психологию травмы и находясь в собственной терапии, я поняла: в тот момент моя нервная система просто захлопнулась. Я была далеко за пределами своего «окна толерантности», где единственное, что может сделать тело, – это защищаться. Попытки «ломать» зажимы привели лишь к тому, что они стали прочнее.
Работа с голосом – это не спорт, где принцип «no pain, no gain» (без боли нет результата) может сработать. Это тонкая психофизиологическая практика, ваша нервная система – не враг, которого нужно победить, а союзник, которого нужно понять. Давайте поищем инструменты для этого понимания.
Представьте себе шкалу состояний нашей нервной системы. В её центре находится то самое оптимальное состояние равновесия – зона толерантности, или, как её ещё называют, «окно». Это пространство внутреннего покоя и собранности, где мы полностью присутствуем в текущем моменте. Мы сохраняем гибкость, ясность ума и способность проживать эмоции, не подавляя их и не позволяя им собой захлестнуть. Именно в этой зоне голос обретает свою естественную свободу: дыхание становится ровным и глубоким, а тело – расслабленным и отзывчивым.
Выше этой зоны простирается состояние избыточного возбуждения, здесь нервная система, перегруженная тревогой, мобилизует все ресурсы для отражения мнимой угрозы. Сердцебиение учащается, дыхание становится коротким и поверхностным, мышцы напрягаются. Психику захлёстывают паника, гнев или ощущение полной потери контроля. Голос, как точный барометр внутреннего состояния, отражает эту бурю: он становится сдавленным, дрожащим, готовым сорваться в крик или, наоборот, уйти в тишину от чрезмерного напряжения.
В противоположность этому, ниже зоны равновесия лежит состояние недостаточного возбуждения. Нервная система погружается в это состояние, пытаясь сохранить энергию перед лицом кажущейся невыносимой угрозы. Тело наполняется вялостью и тяжестью, пульс замедляется, дыхание становится едва заметным. Психика окутывается апатией, оцепенением, чувством пустоты или отстранённости. И голос в этом состоянии затихает, становится тихим, монотонным, безжизненным, словно лишённым всякого намерения звучать.
Почему у травмированного человека это окно такое узкое?
Травма – это опыт, который слишком силён, слишком быстр или слишком ужасен, чтобы нервная система могла его переработать. Чтобы выжить, мозг делает единственное, что может:
Повышает чувствительность «тревожной кнопки». Теперь она срабатывает на любую, даже отдалённо напоминающую опасность, ситуацию. Это ведёт к лёгкому вылету в гипервозбуждение.
Создаёт мощные защитные механизмы. Если гипервозбуждение не помогает избежать угрозы, система переходит в «аварийный режим» – гиповозбуждение, чтобы просто пережить невыносимое.
В результате малейший стрессор (мысль о пении, необходимость говорить громко, крик) может выбросить человека за пределы его узкого окна. Задача – не играть в «прыжки» из одной зоны в другую, а мягко и медленно расширять само окно.
Попытка заставить себя петь громче или говорить увереннее, когда вы уже в зоне гипервозбуждения, – это как давить на газ, когда машина уже упирается в стену. Вы не двигаетесь вперёд, вы только перегреваете двигатель.
Физиологически вы даёте команду телу сделать то, для чего оно в данный момент эволюционно не предназначено. В состоянии угрозы все ресурсы брошены на спасение жизни, а не на красивое звукоизвлечение. Диафрагма зажата, гортань перекрыта, резонаторы заблокированы. Попытка крикнуть в этом состоянии – это прямое насилие над голосовым аппаратом, ведущее к срыву, ларингитам и усилению страха.
Психологически это повторяет динамику травмы: «Меня заставляют делать что-то против моей воли, игнорируя мои потребности и границы». Мозг получает подтверждение: «Голос = опасность = насилие». Нервная система учится не доверять вам и в следующий раз будет зажиматься ещё быстрее и сильнее. Насилие рождает только сопротивление. Путь к свободному голосу лежит не через войну с собой, а через сотрудничество с собственной нервной системой.
Далее в книге будет присутствовать некоторое количество моего личного травматического опыта. Я постаралась выбирать истории так, чтобы они точно подходили под проблему или механизм, который я описываю в данный момент, а еще не были слишком интенсивно пугающими. Однако я не знаю, какой опыт есть в анамнезе у всех людей, кто соберется прочитать этот текст и не могу гарантировать, что мой личный психологический материал не взбудоражит и не поднимет на поверхность материал читателей. В любом случае, постарайтесь быть к себе заботливыми и аккуратными: отметьте свои переживания, какие чувства у вас поднимает этот текст, что происходит с телом, чего мне сейчас хочется и так далее и дайте себе возможность не оставаться наедине со своими переживаниями, а получить поддержку в случае, если вам этого захочется.
Давайте перейдем к основной части книги.
Центральная часть: почему мы молчим?
Глава 1. Анатомия зажима: как травма живет в нашем теле и голосе?
Вы когда-нибудь замечали, как в момент сильного стресса или страха у вас перехватывает дыхание или садится голос? Это не случайность, а древний защитный механизм, который когда-то должен был спасти нам жизнь, а теперь мешает дышать полной грудью.
Пока травма остается безымянным, смутным чувством страха и боли в теле, нервная система воспринимает ее как текущую, не прекращающуюся угрозу. Назвать свою травму – значит издать первый и самый важный звук, который прервет тишину, заявляя: «Я здесь, это действительно со мной произошло, но теперь мой голос будет главным в этой истории»
В этой главе мы посмотрим, как именно наша история и переживания «прописываются» в нашем теле, в частности в мышцах, которые помогают нам дышать и говорить, поймем «анатомию зажима» и сделаем первый шаг к тому, чтобы освободить тело от излишнего напряжения.
Раздел 1. Ваш голосовой аппарат – не просто «связки»
В последние годы среди вокалистов и других специалистов в области голоса и звука получили большое распространение различные методики, основанные на анатомии гортани, работе связок и правильной технике звучания. Оно и неудивительно – долгое время у человечества не было технической возможности «заглянуть внутрь» прекрасного певца или замечательного оратора.
Однако на наших прелестных «связках» и гортани все не заканчивается. Давайте начнем сразу с упражнения и откроем, что еще в нашем теле отвечает за звук:
– Диафрагма (наша главная мышца)
Положите ладони на нижние ребра и на живот. Можно сделать два подхода и сравнить свои ощущения отдельно – сначала подход с ладонями на ребрах, а в следующих подход положите ладони на живот. Сделайте глубокий вдох через нос, такой, словно вы хотите вдохнуть какой-то приятный аромат – сладких булочек или терпкого цветка. Почувствуйте, как ваши ребра мягко расходятся в стороны, а живот наполняется воздухом.
До сих пор нет единого мнения, как именно в нашем теле рождается звук. Существует несколько теорий, но ни одна из них, на сегодняшний день, не отвечает на все возникающие вопросы. Однако есть то, что абсолютно доказано: если нет потока воздуха – нет и звука. Главный «насос», который качает этот воздух – ваша диафрагма (большая куполообразная мышца под легкими, именно ее работу мы и ощутили руками во время упражнения).
В моменты стресса или испуга мы инстинктивно задерживаем дыхание и напрягаем диафрагму (реакция «замри», о ней мы поговорим чуть позже). Хроническая травма превращает это временное напряжение в постоянный зажим.
Представьте детскую дудочку или «свистелку». Когда воздух проходит сквозь игрушку свободно, она издает громкий, а местами даже пронзительный звук. Но что будет, если мы закроем отверстие, через которое в игрушке должен входить или выходить воздух? Мы испытаем напряжение, но, сколько бы мы ни старались, сам звук мы не услышим.
В обычной жизни это выглядит следующим образом: зажатая диафрагма=слабая воздушная и мышечная поддержка для звука=тихий, неуверенный голос.