Беседы Учителя. Как прожить свой серый день. Часть 1-2
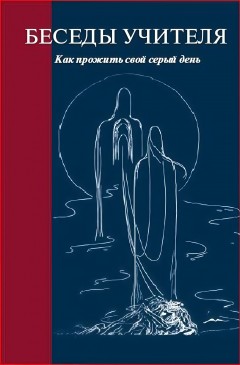
© Издательство «Дельфис», 2023
К. Е. Антарова (1886–1959)
Её две жизни
Две жизни Конкордии Антаровой
Не в далёкое небо должен улетать человек, чтобы там глотнуть красоты и отдохнуть от грязи земли. Но на грязную, потную и печальную землю он должен пролить каплю своей творческой доброжелательности. И тогда в его труд земли непременно сойдёт Мудрость живого неба, и он услышит его зов. Тот, кто принёс земле клочок своей песни торжествующей любви, из своего обагрённого страданием сердца благословил свой день, тот войдёт в новую атмосферу сил и знаний, где ясно увидит, что нет чудес, а есть только та или иная ступень знания.
К. Е. Антарова «Две жизни»
До последнего времени имя К. Е. Антаровой было мало известно широкой читательской аудитории. Конкордия (Кора) Евгеньевна прошла большой творческий путь на оперной сцене Большого театра, пела все партии, соответствующие её редкому по тембру контральто, являлась лучшей исполнительницей роли графини в «Пиковой даме» П. И. Чайковского, была близко знакома с величайшими представителями русской музыкальной культуры – Шаляпиным, Собиновым, Рахманиновым. Об этой стороне её жизни знают театроведы и люди, интересующиеся оперным искусством. О её духовных исканиях, представлявших в своё время глубочайшую тайну, ведали немногие – те, кто в нашей стране в течение многих десятилетий пытался постичь сокрытую, эзотерическую сторону бытия. Лишь в 1993 году широкий круг читателей смог познакомиться с удивительным произведением Антаровой – романом «Две жизни», где в художественной форме даны яркие и глубокие образы Великих Учителей, описывается их деятельность во благо человечества.
К. Е. Антарова в сценическом костюме
Итак уж случилось, что знавшие Антарову как прекрасную певицу Большого театра, почти ничего не знали о её духовном пути и, наоборот, люди, почитавшие Конкордию Евгеньевну как подвижника Духа, мало уделяли внимания её театральному творчеству. А между тем, эти две линии её бытия теснейшим образом связаны между собой и представляют две стороны одной медали…
В своей сценической биографии Конкордия Антарова была ученицей Константина Сергеевича Станиславского. Интерес к знаменитой «системе Станиславского» в театральных кругах начала прошлого века был велик, создавалось множество театральных студий, где её изучали. Вот и при Большом театре организовали студию для молодых артистов оперы с целью применения «системы» к оперному искусству, особенно сильно страдавшему от театральных штампов. К. С. Станиславский преподавал в этой студии, и Антарова, единственная из студийцев, вела записи, которые в дальнейшем легли в основу её книги «Беседы Станиславского в студии Большого театра в 1918–1922 гг.»[1]. К тому времени Антарова была сложившейся певицей, уже десять лет выступала на сцене Большого театра, но, видимо, неудовлетворённость, поиски нового в своём творчестве заставили её пойти в студию вместе с молодёжью.
Встречалась Конкордия Евгеньевна и со старейшими актёрами Московского Художественного театра, особая дружба её связывала с В. И. Качаловым, записи его воспоминаний легли в основу её повести «На одной творческой тропе»[2]. Благодаря собственным духовным устремлениям Антарова сумела с особой силой воспринять идейные и нравственные установки Станиславского и придать им в своих произведениях неожиданный эзотерический ракурс и духовный размах. Следует сразу оговориться: театральные книги Антаровой никакого отношения к мемуаристике не имеют. В них нет и намёка на бытовые детали, житейские подробности, личностные отношения, разговор о которых столь свойственен мемуарной литературе. Антарову не очень интересует задача донести до читателя живой, человеческий образ тех людей, о которых она пишет; она, скорее, использует жанр воспоминаний и записей бесед для погружения читателя в идеальный мир нравственности, духовных исканий, служения искусству и человечеству.
Партия графини в «Пиковой даме», так блестяще исполнявшаяся К. Е. Антаровой, не просто роль старой женщины. Мы знаем, что прототипом этого персонажа оперы была графиня Наталия Петровна Голицына, как будто встречавшаяся во Франции с легендарным графом Сен-Жерменом и обладавшая тайными знаниями. И то, что образ этот так удался Антаровой – человеку с богатой внутренней жизнью, наверное неслучайно. Это не был лишь акт актёрского перевоплощения. Тогда ещё молодая, актриса, возможно, предчувствовала, что и ей придётся понести в жизни нелёгкий крест владения тайной. В публикуемой в этом сборнике статье «Эту жизнь создавало моё воображение…» актриса рассказывает о своей работе над этой ролью, в ней нет откровений – вспомним, в какие годы она писалась. Но, читая между строк и то, что за многоточием, можно предположить и о более глубокой интуитивной проработке образа графини актрисой.
Благодаря замечательным книгам «Сад Учителя» О. Б. Обнорской, «Беседы Друга» А. Н. Чеховой-Дервиз и, конечно, «Две жизни» К. Е. Антаровой, мы сегодня можем представить, как проходят возвышенные разговоры с Учителем. Наставления, которые при этом даются, помогают людям быть сознательными творцами своих жизней, постигать сущность своего высшего «Я», понять своё назначение и нести миру радость и благоговение. Они учат соизмеримо сочетать силы сердца и ума в делах каждого дня, без чего невозможно достичь внутренней гармонии.
И вот ещё одна тетрадь – «Беседы Учителя», записанные К. Е. Антаровой и переписанные рукой Софьи Владимировны Герье (умерла в 1956 г.) – председателя Московского отделения Российского теософского общества. Судьба привела эту заветную тетрадь в руки Елены Фёдоровны Тер-Арутюновой, знавшей Софью Владимировну и выросшей в семье теософов. Она была знакома со многими теософами, а также К. Е. Антаровой, О. Н. Цубербиллер, 3. М. Гагиной, С. А. Бодянской, Е. Н. Мулиной и другими.
С разрешения Е. Ф. Тер-Арутюновой редакция журнала «Дельфис» опубликовала эти «Беседы»[3]. Они адресованы тому, кто осознаёт себя учеником и кто ищет и хочет понять, что причина всех его трудностей кроется и в нём самом. Ныне же эти «Беседы» собраны нами в этом сборнике.
А когда сборник был уже почти готов к печати, мы получили ещё одни дневниковые записи, которые некоторые из старых московских искателей истины связывают с именем Антаровой. Мы их назвали «Наставления Кругу». Они, как нам рассказали, передавались через Антарову кружку, в который входил и знаменитый артист художественного театра В. И. Качалов. Эти беседы с Учителем публикуются впервые.
Н. А. Тоотс, главный редактор журнала «Делъфис»
«Эту жизнь создавало моё воображение…»
Партия графини в опере Чайковского «Пиковая дама» была моей первой ролью «старухи». Я была ещё очень молода, привыкла выступать только в молодых ролях, и поэтому, когда оркестр Большого Театра попросил меня спеть эту роль в его бенефисный спектакль, я была озадачена и смущена. Особенно страшило выступление в этом парадном представлении, так как дирижировать им был приглашён директор Московской консерватории В. И. Сафонов, необычайно требовательный и строгий.
К. Е. Антарова в роли графини в опере «Пиковая дама»
У меня не было никакого сценического опыта. Я понятия не имела о том, как должна вставать, садиться, двигаться старуха, каким должен быть ритм её переживаний. Эти вопросы мучили меня в продолжении всего времени, пока я учила музыкальную партию графини, а ответа на них не находила. Дни текли, а внутреннее понимание образа было всё так же бедно. Тогда я решила отыскать в Москве А. П. Крутикову, бывшую артистку Большого театра, жившую в то время в полном забвении; на неё мне указал кто-то из товарищей как наилучшую исполнительницу роли графини, в своё время заслужившую одобрение самого П. И. Чайковского.
В Петербурге, в самом начале моей артистической карьеры – в 1907 году, когда я пела Миловзора и Полину, я видела в роли графини артистку Мариинского театра Славину. У меня сложилось впечатление, что все графини, так же, как она, должны быть рослыми и полными, и это немало смущало меня в данный момент, так как роста я была среднего и ни важностью, ни величественностью не обладала.
Когда я вошла к Крутиковой (она снимала меблированную комнату в ныне снесённом доме на площади Революции), я была потрясена и изумлена. Передо мной стояла маленькая, сухонькая, донельзя раскрашенная… живая Пиковая дама. Я очень благодарна моей милой, усердной и доброй первой учительнице сцены за её дальнейшие уроки. Но особенно много дало мне первое впечатление при встрече с ней; я как будто сразу поняла свою задачу. «Вот чего мне нужно добиться на сцене», – пронеслось в моих мыслях, как только я на неё взглянула…
Но как добиться этого двадцатипятилетней женщине, не получившей никакой сценической подготовки? Начались наши уроки. На них обязательно присутствовал живший рядом в номере Б. Б. Корсов, в своё время знаменитый артист Большого театра. Он усаживался в кресло, следил, поправлял и жестоко критиковал меня. Особенно придирчив он был к моей французской речи, которой сам владел в совершенстве. Крутикова старалась передать мне своё толкование образа графини, требуя подражания. Но вряд ли этот метод дал бы плодотворные результаты, если бы внешний облик моей учительницы, её наружность, её старческие манеры не помогли мне в моей работе. Раскрашенные, увядшие щёки старой певицы, её испорченные подагрой руки и ноги, одеревенелая походка, дрожащая голова были для меня живым образом графини, чудесно слитым с музыкой Чайковского. И я усваивала не столько её указания, сколько весь процесс её движений, весь облик её внешней жизни. Наблюдала, как она ходила, едва волоча ноги и опираясь на палку, садилась в кресло, предварительно ощупав его руками и долго опускаясь на сидение.
Первые три урока приводили меня в отчаяние. Моим ногам хотелось гибко отскакивать от пола, а надо было научиться их волочить и еле-еле сгибать; это поглощало всё моё внимание и было для меня мучительным.
Надо было постичь, как «опираться на палку», в которой я не только не чувствовала нужды, но видела одну лишь помеху. Точно так же и дрожащий в неверной руке лорнет причинял мне множество огорчений.
Мало-помалу мне удалось овладеть внешностью старухи-графини. Но голос! Молодой, металлический голос! Что с ним делать?
Тут ко мне пришёл на помощь Корсов. Он привёл мне в пример многих артистов, в том числе и Ф. И. Шаляпина, который никогда не старался изменить своего молодого голоса в партиях стариков и, несмотря на это, был стариком, потому что смысл его слов и фраз, значительность исполнения сливались в одно гармоническое целое с внешним обликом, движениями, всем ритмом образа. Весь месяц, который оставался до бенефиса оркестра, пролетел для меня точно вихрь. Я ездила в Третьяковскую галерею и другие музеи, где искала лица старух и изучала морщины старости для грима, искала характерные для старости позы.
Наступающий спектакль был моим мучением. Я могла думать только о моей старухе. Мне казалось, легче спеть сто раз подряд Ратмира («Руслан и Людмила») или Ваню («Иван Сусанин»), чем исполнить один раз мою зловещую старуху. Как передать её манеры, походку, вставанья, закутывания в пелерину, и всё это строго в ритме, данном музыкой?
Наконец, наступил день спектакля. Не рассказываю о первой генеральной репетиции, о том жутком моменте, когда я увидела себя в седом парике, со старческим лицом, в старинных фижмах, сгорбленной, опирающейся на палку. Подойдя к зеркалу в полном туалете, я себя не узнала и готова была расхохотаться, забыв и страх, и волнение. Но внезапный стук в дверь уборной и голос режиссёра: «Можно начинать», – мгновенно вернули меня к действительности.
Страх снова забрался во все поры, и, едва владея собой, я поплелась на сцену в своей широчайшей, необъятной робе, волоча ноги и с трудом пролезая в двери. На этот раз страх быт моим добрым союзником, и руки мои естественно дрожали.
Первый выход и весь спектакль, и целая серия дальнейших спектаклей – всё было только более или менее чётким втискиванием себя в образ чужой, в образ графини Крутиковой, а Антарова была только каким-то отражающим зеркалом этого чужого образа. Прошло несколько лет, и я встретилась в художественной работе с К. С. Станиславским. Тут только я поняла, что не удовлетворяло меня в моей графине, несмотря на хорошие отзывы и похвалы. В ней не было меня, Антаровой, моей артистической индивидуальности. И я не знала, как перейти от воспринятых – не хочу сказать плохих, на этот раз, но всё же штампов – к активной жизни на сцене.
Занятия с К. С. Станиславским раскрыли мне новые задачи. Образ графини перестал существовать для меня изолированно, вне эпохи, среды, воспитания и т. д. Характерные особенности быта, обстановки, окружающей графиню, стали для меня столь же необходимыми и конкретными, как и её движения, походка, жесты. Константин Сергеевич научил меня раскрывать всю линию жизни человеческого тела (то есть логическую последовательность внешних физических действий), которая развивалась параллельно с линией внутренней жизни образа.
Постепенно мне стали не нужны костыли условной передачи роли. Я начинала жить естественной жизнью на сцене, так как моё воображение легко переносило меня из пышных зал парижских дворцов в Летний сад или в скучные и угрюмые палаты самой старухи-графини.
Я нашла в своём сердце ритм, пульс графини, то волочащей в изнеможении ноги, то храбрящейся, старающейся выпрямить свой согнутый стан, то опускающейся в изнеможении – после бала и новой роковой встречи с Германном – в своё любимое кресло, то молодящейся в воспоминаниях. Кресло, подушка, которую мне клали приживалки под ноги, ночной столик, колокольчик – всё становилось моим собственным, и я неизменно приходила всегда заранее на сцену посидеть в кресле, побыть в комнате и устроить всё для себя именно так, как мне было удобно. И всё вокруг меня составляло неотъемлемую часть меня самой, всей моей воображаемой жизни.
Большой помощью в углублении образа была мне сестра К. С. Станиславского – Зинаида Сергеевна Соколова. Не один раз мы с нею беседовали об отдельных сценах и эпизодах роли; и её исключительная любовь к искусству не знала усталости в работе.
Волшебное слово Станиславского «если бы» придавало крылья моему воображению; в каждом спектакле мне начинало казаться новым то или иное место в роли. В зависимости от настроения, мои задачи бывали разными, и выражение музыкальных фраз было иное.
Разбор роли мною повторялся много раз. Вернее сказать, сколько раз я пела графиню, столько раз о ней и думала. Ноне скоро я пришла к пониманию, что в каждой фразе, которую произносишь на сцене, в каждой интонации живёт подтекст, отражающий твою внутреннюю жизнь, воплощённую в сценическом образе, твою индивидуальность, которая отличает твоё понимание роли графини от других её исполнительниц.
В начале моих исканий мне часто мешали режиссёры, сбивавшие меня вновь на штампы. В прежнем Большом театре найти с ними общий язык было так же трудно, как вовлечь в творческое общение партнёра, для которого на первом месте стояли высокие ноты. Но чем больше я входила в понимание системы К. С. Станиславского, тем менее мне мешало всё внешнее.
С горечью должна сказать, что в моё время в Большом театре очень мало думали об артисте, о том, чтобы ему было уютно и удобно на сцене. Вот почему меня поражала работа Константина Сергеевича, его забота о каждом исполнителе, о связи в единый внутренний ритм спектакля всех и каждого артиста. Мы работали с ним в студии над «Вертером», Константин Сергеевич научил меня так глубоко входить в свой творческий круг внимания (который он называл «кругом публичного одиночества»), что я перестала в роли графини страдать от всяких случайностей. Я не видела публики, рампы, кулис, видела не актёров, а подлинных Германна, Елецкого, Лизу.
Работа над образом графини была одной из самых кропотливых в моей театральной жизни. Каждый раз, когда мне надо было петь вечером, я весь день уже чувствовала и сознавала себя тем, кого надо было изображать. В своём воображении, в движениях я уже не была свободна: я была пленена той эпохой, той личностью, которая смотрела на меня из клавира оперы. И я видела не рисунок нот, не слова, подписанные под ними, но свой подтекст, свой смысл каждого слова. Кусок подлинной жизни смотрел на меня со страниц клавира, и эту жизнь создавало моё воображение.
Пока слово, смысл которого создал сам артист, например, в восклицании: «Лиза, отопри!» – не выливается или в раздражение, или в страх, или в мольбу, или в приказание и тому подобное – артист не сольётся в полной гармонии с музыкальной фразой, не сделает её живой. И если он не найдёт параллельно в движениях своего тела, во взгляде, в походке того ритма, который отвечает смыслу найденного подтекста каждой звучащей фразы, – образа не будет. Магическое «если бы» Станиславского помогало полностью перевоплотиться в жизнь роли, жизнь, которая реально существовала для меня на протяжении всего спектакля, которая со сцены уходила со мной за кулисы, которая превращала зыбкие холщёвые стены декораций в роскошные дворцовые апартаменты или мрачную старушечью спальню.
Работа над образом графини в «Пиковой даме» была для меня мостом между молодыми и старыми ролями. Я пела Полину и пастушка, Ольгу («Евгений Онегин») и вскоре после графини стала петь и няню. Но все эти роли были в моём репертуаре одновременно. Старая графиня была первой партией, работая над которой я поняла, как должен творить артист, не надеясь только на своё вдохновение. Мне приходилось петь партию графини со многими дирижёрами. Например, с В. И. Суком. Этот тонкий дирижёр никогда не стремился выявить себя в Чайковском. Он высоко ставил творчество Петра Ильича и ненавидел, когда артисты вносили в партии что-либо от себя, не вытекавшее логически из его музыки. Будучи лично знакомым с Петром Ильичом, В. И. Сук получил от него немало указаний, которым следовал всегда точно; однако он не стеснял артиста, если его толкование тех или иных мест в партии было обосновано и талантливо. В моей работе над ролью графини у меня не было недоразумений с Вячеславом Ивановичем. Он почти не делал мне замечаний и только иногда на своём своеобразном языке с мягким «л», как у не овладевших речью детей, ронял словечко: «отльична», крепко ударяя на «о» и чрезвычайно смягчая «ч».
В. И. Сук не видел образа вне музыки. Первое, что было для него основным и непреложным – это звучание музыки Чайковского. Сценический образ у него был не то что на втором плане, но он его принимал только тогда, когда было на высоте музыкальное звучание. В. И. Сук был чудесный аккомпаниатор и делал всё от него зависящее, чтобы голос артиста доносился до слушателей как можно лучше, и никогда не выводил звучание оркестра за пределы вокальных возможностей певца. Владея в совершенстве оркестром, этим страшным драконом, который в его руках был то грозным, то становился кротким ягнёнком, он так умел подать певца, что ни одно его слово не пропадало для публики, хотя не всегда и не у всех были мощно звучавшие голоса.
В. И. Сук очень любил «Пиковую даму» и дирижировал ею прекрасно. Он добивался от нас полного звучания в ансамблях. И не было спектакля, когда бы он забыл прийти за кулисы и до начала спектакля не прорепетировал со всеми участниками квинтет первого акта. Это – я помню – сделалось традицией в театре, обязательной для всех дирижёров этой оперы.
Внимание В. И. Сука к исполнению солистов было огромно. Он так запоминал ошибки каждого, что если не мог найти тут же виновного, который успевал спрятаться от него, то всё равно артист не мог избежать его распеканий. «Что вы мне там напевали в “Пиковой даме”?» – обращался он к артисту, хотя в данный момент была репетиция «Садко», «Руслана» или «Евгения Онегина» и со времени спектакля прошла целая неделя. И провинившийся непременно получал свою порцию добродушных распеканий, которые почти всегда происходили под общий весёлый смех.
В. И. Сук любил смеяться, всегда был в хорошем настроении и ласково поблескивал глазами из-под пенсне. Спектакли его всегда были радостны, приподняты, всегда как-то парадны. В них не было места будничности и скуке. Хотя он и обращал внимание на звук и точность исполнения, но всегда тонко и чутко следил за игрой артиста и давал ему возможность выразительно подать свою речь. Однако Вячеслав Иванович не вмешивался в сценические дела режиссёра, за теми редкими исключениями, когда он мешал звучанию своими измышлениями. В моей памяти звучит для меня и сейчас «Пиковая дама» под управлением В. И. Сука, а песенка графини у камина под его мягкий, лёгкий и чудный аккомпанемент не забудется никогда.
Другой замечательный дирижёр, с которым мне пришлось встретиться в «Пиковой даме», – Бруно Вальтер. У этого дирижёра также восхитительно, полно и мягко, во весь тон без форсировки, звучал оркестр. Он прекрасно аккомпанировал певцам, в то же время умея передать все бури стихий и страстей. Это был человек большой культуры и живого воображения, видевший музыку воплощённой в те или иные образы. На его лице артист замечал отражение всего того, что он делал или говорил на сцене. Казалось, достаточно было вздохнуть, чтобы Вальтер перехватил ваш вздох и ответил вам движением своей палочки.
Полный контакт певца и дирижёра характерен был в нашей работе с Вальтером. Его указания были высоко авторитетны и подавались в очень вежливой и деликатной форме. Они не носили характера требований, а скорее собеседования, где всегда звучали фразы: «Вы согласны с этим? Вам это удобно?» Многие места в толковании арий у него были несколько своеобразны и нам непривычны. Но они ничем не нарушали цельности музыкальных образов Чайковского. Поэтому все артисты охотно их принимали, а некоторые оставили в своём дальнейшем исполнении нюансы, предложенные Вальтером, против которых не возражал и В. И. Сук. В целом исполнение нашей родной музыки у Вальтера, быть может, было несколько ниже, чем у В. И. Сука. Но отдельные места были так ярки, так темпераментны, так зловеще выделял он, например, эпизоды всех встреч графини с Германном, что захватывал и самих исполнителей, и весь зрительный зал.
К. Е. Антарова
Беседы Учителя. Как прожить свой серый день
Часть 1
Беседы Учителя
Беседа № 1
Человек, идя свой земной день, не может сравнением постичь сознания иного плана.
Ибо все его сравнения лежат в условностях плотных тел. Высшее же сознание, освобождённое от этих условностей, имеет ограничение лишь в самом себе. Ограничения человека Земли имеют в себе не только те формы из дерева, камня, железа, которые не может пройти его тело. Но человек имеет и ограничение страстями.
Без забот о пути человек не может своим телом проникнуть через плотные перегородки во внутреннее помещение жилищ своих встречных. Но раскрытая с разрешения дверь убирает все препятствия, – он входит легко и просто. Как же обстоит дело у человека с проникновением в храм встречного – в его сердце? Только сам человек, силою своей любви и чистоты может приникнуть своей любовью к любви встречного. И никакое разрешение не сольёт его с мыслью, радостью и скорбью встречного. Только его собственное осознание себя единым со встречным может помочь ему встать не в положение зрителя и судьи, а друга и помощника.
«Не судите друг друга», – то стоит у всех перед глазами; то понимает каждый умом. Но только тот, кто сердцем устремится к радости или скорби встречного, тот выполнит этот завет.
А, между тем, первый признак начала освобождения, начала активной жизни в единении – есть сила видеть в ближнем осколок Единого, не подлежащий твоему суждению, но приникать к которому чистотой твоей – вот назначение каждой встречи.
Нет оснований думать, что если ты восходишь к совершенству, то тебе необходимы особые условия. Нет особых условий, ибо каждому даны его условия; а следовательно, они так индивидуально неповторимы, как только могли Владыки Карм разбить оковы вековые человека. Все усилия Светлого Братства сводятся к принятию каждого в костёр своей любви. Великое их милосердие разбивает молотом любви перегородки человеческих предрассудков и условностей, что каждый себе соткал. Они проносят зрение человека через века его дел и оставляют в нём такие следы, по которым его новая жизнь стремится пробиться через препятствия дня. И только поэтому то, что одному легко и просто, другому – мука. То, чем один заполнен в своём духе и красоте, – другому кажется бездельем.
Прочесть в сердце встречного его муку или радость можно только тогда, когда в тебе самом спокойное стремление дало силу духу. Если же в тебе шумит хотя бы ручей страстей, привлечь своё внимание к другой жизни – почти невозможно.
Можно ли при этих условиях стать учеником? Как может человек принести не искривлённой хотя бы одну мысль Учителя на Землю, если в нём царит не звон освобождённого сердца, а боль и неудовлетворение, борьба с самим собой.
Снимая с себя пустоту себялюбия и переключаясь на основу общего блага, человек ощущает радость от освобождённого в себе огромного кольца света, в котором сгоревшие страсти исчезли. Но свет этот не отгородил его стеною от общения с живым кольцом людей; он притянул к себе это живое кольцо, и переключилась мысль каждого на более тонкую и чистую материю духа в ауре. Ибо тот, кто мог удержаться в кольце твоего света, непременно сжёг в нём хотя бы малую свою условность. Рассчитать логические ходы воспитания, как именно перенести свет на встречного, – невозможно. Ибо в делах духа логика одна для всех – Любовь. И сколько бы ты ни искал оправдания своему не особенно высокому поведению, не вышедшему из колец осуждения встречного, сколько бы ты ни говорил себе, что те, к кому ты пришёл, ещё низменны, ещё полуживотны, – ты знаешь, что сам ты входил к ним, не свет Учителя неся, аличность свою.
И не может человек сдвинуться с места, пока не научится разбирать перегородки в себе, чтобы условность и предрассудок встречного, не найдя опоры в тебе, осыпались сухою шелухою.
Живя в современном тебе обществе, где ты видишь весь недостаток воспитанности, что должен нести в себе ты, если хочешь научиться привлекать своё внимание к творчеству, а не к суете внешнего людей? Освобождённым от внешнего должен быть ты сам. Внешнее не должно ударять тебя по твоим больным местам, ибо во всём твоём сознании живут только сила, энергия, решимость сердца, и тебе нечем воспринять мелочь и бунт страстей.
Страсти коварства и искательства, жажда утопить тебя и пролезть выше самому – всё трогает тебя лишь постольку, поскольку твоё сознание работает в освещении условности времени, а не в верности вечному труду Учителя.
Ты хочешь соединить чистую жизнь духа и требования условностей Земли. Но цель твоя?
Видишь ли ты в кольце твоих препятствий только способ твоего роста? Или ты стремишься их победить, чтобы семья твоя была сыта, чтобы жизнь твоего дня стала веселее и легче, благодаря условному пониманию удовольствий Земли? Чтобы отделиться от общения с массой людей, закрыть ход к твоим удобствам соседу?
Нет такого пути ученику. Ученик – это звено единения. На нём, через него старается пролить свет сознание Высшее, освобождённое. И только тот, кто это понял, может войти в группу учеников – двигателей мира в мир.
Беседа № 2
Трогательна беспомощность младенца и вызывает самое мужественное опекание своих близких, если в их сердцах живёт милосердие. Так и ученик. Трогательна его беспомощность Учителю, и Он, видя верность ученика нерушимой, льёт ему свою помощь и милосердие без условностей и ограничений со своей стороны. И только ограничения самого ученика, выстроенные его колебаниями, нецельностью его мыслей, неуверенностью его, останавливают ученика перед Золотыми Вратами, то есть перед порогом знания. Ибо знание вытекает из освобождённых мест в сознании. Оно вырастает на гармонично звучащих волнах его действий.
Можно ли, живя на Земле, в суете огней и страстей человеческих, стать учеником? Быть может, надо где-то в особо чистых условиях сделаться учеником и потом вернуться к своим ближним, став им поддержкой и помощью? Нет. Никто не может стать закалённым вне своих условий и препятствий. И все условия и препятствия пойдут за человеком, если ему их необходимо победить, куда бы он ни ушёл. Рассматривать период ученичества как подготовку к деятельности – такой же предрассудок, как думать, что человеку может повредить чистый воздух и солнце.
Нет условного обучения. Единственное условие, на котором растёт всякое ученичество, – это гармония сил в человеке. Не следует думать, что ученичество начинается с того момента, когда Учитель даёт ученику весть. Ученичество могло начаться ещё за два воплощения, но отсутствие гармонии в ученике не дало возможности развить память о нём. И не отношение Учителя к ученику – мерило восхождения, а отношение ученика к окружающим и его к ним милосердие.
Утвердившись в мысли, что всё – в себе, распознавая реальное и временное, человек строит первоначальную ступень к свиданию с Учителем.
Заставляя своё внимание всецело прикрепляться к совершающемуся «сейчас», ученик развивает бдительность. Но когда он её развивает? Если приказом воли он концентрирует своё внимание – он способствует только более широкому развитию личности. Если же он скрещивает своё милосердие со вниманием и без всяких приказаний себе вглядывается, кто и что перед ним, – он забыл о себе; он прошёл, минуя план страстей, в план духовного общения, хотя бы стоящий перед ним плакал и нёс в себе бунт своих страстей.
Как будет общаться с ближними человек, не знающий орбиты действий Учителя? Видя горе, слыша стоны и жалобы, он будет тоже плакать, усилиями своих слёз сочувствия прорубая ещё больше дыр в его и своей ауре. И своим волнением он проведёт встречного ещё глубже в план страстей. Ученик же, постигший всегда светлое мужество Учителя, обратит всю силу своей мольбы к Учителю. Всё мужество его будет призывать в храм своего сердца, и, оставаясь в гармонии, он сможет помочь рыдающему встречному войти в свой центр силы, в свой заветный храм в себе – Любовь. И тогда, с каким бы бунтом страстей ни пришёл встречный, он сбросит с себя хотя бы часть своего уныния и найдёт силы прожить какое-то мгновение в относительном успокоении. Если же он не смог подле тебя обрести просветления и, уйдя, жаловался ещё и на тебя, возмущался, негодовал на твоё бессердечие, значит он ещё слишком далёк от истинного понимания единения. Ему ещё предстоит долго носить страстные покровы, и тебе, отдав ему весь мир своей гармонии, не стоит огорчаться неудачной встречей, а ещё глубже закалить мужество и ещё чище сойти в Учительской любви к следующей встрече.
Можно ли «отказаться» от активного действия, от встречи? Нет встреч случайных. И если ты в своём обиходе не нуждался бы во встрече, даже с вороватым слугою, ты не имел бы её. Но не надо в мелочах обихода видеть знамение небес. Нельзя усматривать в мелких удачах и неудачах какие-то основания для глубоких своих действий. Ибо так дойдёшь до суеверия, и оно вновь создаст пелену условностей и заведёт тебя в тот лабиринт, из коего ты уже однажды выбрался.
Надо свои действия в дне так подпирать радостью единения с Учителем и окружающими, чтобы мелочь обихода не вплеталась суеверием в действия твои. Стоит ли видеть «предначертания» в том, что пуговица твоих туфель, оборвавшись, задержала тебя, и ты опоздал на поезд, благополучно прибыв на следующем, и утруждать себя пустыми вопросами, зачем это доктор не смог меня принять сегодня? Зачем это я пришёл случайно в чужой дом, – всё это праздное суеверие, неумелое распределение своих сил между временным и реальным, между условным и вечно движущимся в двух мирах.
Если бы ты видел в мелочи простое привлечение твоего внимания к лёгкости и ловкости через тебя и в тебе весёлого и радостного состояния, где бы мысль о раздражении или суеверии не могла иметь места, то ты бы всюду нёс в себе верность и уверенность.
Если бы основа в твоём храме была цельною, а не двоилась постоянно в колебании между истинною Жизнью и обывательскими пониманиями, твоей голове не угрожало бы наводнение от пустого разбора мелочей.
Путаница в человеке от сумбура всех не доведённых до конца мыслей – хуже метели и гололедицы. В сознании, привыкшем постоянно считать, что опека над ним идёт извне, а не всё, что и чем он опекается, внутри него, – предрассудок, победимый не менее тяжко, чем разъедающий тело микроб.
Тот, кто хочет войти в ученичество, прежде всего, борись с предрассудком суеверия, ибо он – одна из заноз, на которой прочно держится страх.
Беседа № 3
Разнообразны тропы людей, ведущие к постижению Истины в себе. Труден путь всех, видящих вокруг страдания, но не понимающих их смысла и цели.
«Слепому» человеку, привыкшему понимать жизнь серого дня как цель или как средство достижения внешнего блеска и карьеры, всё, приносящее страдание и беспокойство, понимается как простое вмешательство чужой враждебной воли, которое надо победить натиском своей силы.
Мысль же о том, что встречи человека с встающими в дне на его пути препятствиями – его собственное творчество, никогда не приходит ему в голову. Мнение человека о своём встречном так низменно, что он всегда думает обмануть его бдительность. Ему кажется таким лёгким и даже признаком хорошего тона – обдать встречного улыбкой и вопросом о его здоровье, а в себе скрыть враждебное раздражение и досаду на несвоевременную встречу. Ему кажется, что он так глубоко скрыл своё лицемерие и коварство, что никто и никогда не прочтёт его истинных, живущих в сердце и мыслях сил.
Но об ауре он или совсем не слыхал, или совсем не понял. Ведь основа его собственных сил – только он сам. Творец своего счастья или несчастья – он сам, и никто и ничто другое.
Цвета ауры вероломного человека – исключительно оранжево-коричневые, переходящие в грязно-серо-зелёные. Среди них пробегают молнии багрового цвета, и в некоторых местах ауры висят опухоли из шевелящихся ужасных уродливых тел, коль мысли человека помогли их жизни. Убийственен вид элегантного, по последней моде одетого человека, если его лицемерие и двойственность разъели его ауру, если в храме его сердца данный ему талисман его счастья, его осколок Единого, не горит более, а лежит мёртвым камнем.
Человеку, сумевшему потушить в своём храме даже искру Света, – нет пути дальше в человеческом образе. Он отдал свою духовную мощь зверям астрального плана и в их среде ему придётся продолжать своё дальнейшее путешествие. Но нет виновников его несчастья, он сам его творец. Каждое существо, сошедшее на Землю, оберегаемо так мужественно, как только могло чистое милосердие Владык карм пробить человеку путь среди созданных им самим себе препятствий и врагов.
Настало время человеку понять, в чём его сила и в чём его слабость. Можно быть слепым и не понимать вечности жизни и циклов её в условиях всегда изменяющихся сообразно каждой цепи движения вечного. Но в себе необходимо сознавать Любовь не только как чувственное действие или долг, но ещё как жалость и как радость. Имеющий жалость и умеющий сострадать, не давая встречному чувствовать снисхождения и превосходства своего, уже раздул искру своего огня, и она не потухнет вовеки.
Сумевший действие своей жалости перелить в мужественную помощь смог запечатлеть образ свой в тех записях вечного, где нет конца достижениям и где подъём к совершенству может совершиться и без всяких «знаний».
Знание? О, сколько умствующих, чьими рефератами и статьями завалены полки, где их разъедает пыль, прошли из воплощения в воплощение, истратив энергию жизни на сведенья, не давшие ни одному человеку радости. Через века и века вскрывается в них всё та же жажда знания, не двигающая их с места. И милосердие Владык Карм ввергает их, наконец, или в круг страшных страданий, или в среду, где им прививают атеизм, и через атеизм они просыпаются к Истине.
Знание – даже знание истинное – оставляет многих без яркого движения вперёд, ибо запутываются они в схоластике книжных изложений, не имея в себе двигающихся чакрам, огонь которых дал бы им зрение и слух, помог бы проверить Истину книг силою жизни Истины в себе.
Ученик, достигший теми или иными способами возможности беседовать с Учителем или ещё более Высшим Сознанием, должен трудиться над своим вниманием и так воспитать его, чтобы верность внимания тому направлению, куда его, ученика, однажды привлекла озарённая гармония, была цельна.
Нет смысла гнаться за новыми и новыми потоками слов Учителя, если колебания, сомнения, отрицания одного в данной книге и принятие другого составляют весь смысл прочитанного и выливаются в страстную критику. Нет распознавания там, где есть такая критика. Ибо эта критика рождается не из огня мысли и сердца, слитых гармонично в спокойствии, но из страстей, в которые вплетено личное.
Только тогда сможет человек бдительно распознавать, в чём сила или слабость прочитанных им слов, если в его сердце не загорается мутное желание отбросить одно, как ему не пригодное, и принять другое, как ему подходящее.
Если он в себе не несёт пристрастия, а только сознаёт, что в одни слова он проник творчески, другие же ещё не смог пронизать своею любовью, то он на верном пути, единственном, где можно постичь Мудрость.
Переходы по ступеням ученичества никогда не бывают лёгкими. Но как бы они ни были трудны – свет в ученике должен гореть всегда ровно. Только при ровном свете, при отсутствии раздражения, можно двинуться в тот путь, где встреча с Учителем даёт начало к движению в вечном.
Беседа № 4
Силы человека не нарастают от постоянно проводимой логики во всех внешних делах. Двойственность человека, имеющего маску для всех и в себе затаённое место, священное «для себя» – не есть жизнь. Ибо жизнь есть гармоничное слияние мысли и сердца, а также их гармоничное действие вовне.
Путь утверждения в себе тех или иных сил необходим именно потому, что в своём храме огонь их усиливает все возможности действий в единении, – вот путь тех, кто хочет пронести в чистоте и честности свой труд дня.
Массы? Личность? Как найти своё место среди масс, которым в современную эпоху, как собирательной силе, принадлежит слово в действиях дня? Как раскрыть в себе так широко двери сознания, чтобы не путаться между индивидуально достигнутою и недоступною для масс высотою твоих действий, что ты обрёл в огне твоей мудрости?
Если действия твоего творчества истинно рождены мудростью и гармонией, они доступны и понятны всей трудящейся массе твоей эпохи. Мало того, чем больше ты пережил высоких страстей, чем чаще ты достигал героического напряжения, тем роднее ты массам окружающих людей; ибо красота твоего гения влечёт толпы за собой, как и всякое высокое сердце покоряет ближнего, если его красота перелита в мудрость действия.
Никто из истинно одарённых не имеет сомнений. Ибо верность таких людей своей идее равна самой силе их жизни.
Только тот, кто не отдал своему труду всего внимания, будет стоять в раздумье: «Кому нужен мой труд? Да и весь мой путь нужен ли и верен?» и т. д. Не имеет значения, сколько ты смог развить в себе дарований. Ибо все твои дарования – только тобою же привлечённое когда-то внимание к ним.
А важно то, как ты развивал своё внимание. Что ты имел в виду, его развивая. Всё это не составляет программы дня, это составляет вечное приложение тобою сотканного покрывала, которым скрыты от тебя Золотые Врата освобождения.
Нет программ, которые были бы предписаны человеку, предопределены свыше. Есть его неизменное творчество, где невозможно обойти или миновать ни одного действия. Ибо все они идут по единственному закону создания Вселенной – Закону причин и следствий.
Дух есть материя, и жизнь этой материи идёт по тому же Закону причин и следствий. Нет исключений из этого правила, есть только радость, которая может с быстротой молнии поглощать тысячи причин и рассыпать их прахом, и только ею одною можно побеждать в себе эгоизм, и только ею одною можно направить на верную тропу своё внимание в общении со встречным.
Если раздвоенность встречного, его мелкая мысль, его почти непонимание цельности, его приспособление к текущему дню ложью и условностью давят тебя, то ты мало умел поставить колонну своей соизмеримости между трудом Учителя и своим. Рассмейся весело и постигни слабость своих сил. И рост твоей силы будет прямо пропорционален твоему сознанию в себе первой основы встреч единения.
Как только поймёшь, что слабость твоя была в том, что ты не видел во встречном осколка Единого, – так вырастет твоё мужество, и найдёшь так Учителя, что поддержит и тебя, и встречного в Любви. Приложить к делу все знания – это значит уйти от условностей. Ибо здравый смысл разбирания перегородок состоит в том, чтобы увидеть путь мира, в котором может твоё творящее сердце помочь освободиться, хотя бы пред тобою, сердцу другому.
Но ни ты, ни встречный не сможете избегнуть неловкости и натянутости, если сердце твоё не освобождено от личного, если в нём какие-то ноты ещё могут быть задеты условной раздражённостью другого.
Беседа № 5
Перенося тяжело свои обстоятельства дня, человек не выходит на те тропы, где может начаться его освобождение. Только высокое понимание, что сила радости куёт мост к возможности сбросить с себя те или иные оковы, только постоянно бдительное принятие всех своих обстоятельств может расширить и раскрыть перед человеком настоящую возможность понять, что его угнетает в текущем дне.
Раздражение. Откуда оно берётся иногда даже по отношению к людям, в которых только их любовь им диктует те или иные поступки? Почему бестактный поступок встречного, – о котором ты знаешь, что он только любовью горит к тебе, – тебя раздражил? Неужели так трудно тебе обратить в юмор его неловкость и пройти этим юмором над пропастью разъединения? А её ты непременно вырастишь своим раздражением.
Осознай твёрдо, что пора детскости и неуравновешенности миновала. Что нельзя безнаказанно вводить в текущий день те или иные токи своего эгоизма.
Осознай навсегда, что раздражение есть тот фон, на котором ты сам плетёшь все тёмные кружева, и с твоей помощью астральные тени слизывают все твои лампадные огни, и фитили твои коптят.
Можешь ли, окружённый вздохами и мольбами жадных к твоему гневу теней, встретить гармонией и благоговением Учителя?
Развивая бдительность, надо ясно понять, что на эгоизме ты её не вырастишь. Бдительность есть приложение всего внимания к тому, с кем или с чем ты имеешь дело сейчас. Бдительность есть порождаемая тобою сила. И если эта сила рождена тобою на костре страстей, – она будет так же кривобока, как ты сам, когда из твоей ауры выпирают комья, окутанные паром. И если ты уже носишь в себе болезнь или слабость организма, нажитые твоими неправильно понимаемыми «достоинствами» и раздражением, то общение с тобою для гармонично звучащих людей так же небезопасно, как общение обычных людей с буйными помешанными.
Начало бдительности может родиться только у тех людей, которые ясно поняли реальное не как идею, но как действие простого дня. Если человек носит в каком-либо из карманов идеи верности Учителю, если в другом его кармане лежат идеи вечной и единой Жизни, а в третьем – понимание единения, но в его собственном храме сердца нет жизни, и все его «идеи» сочетаются в разговорах, а дела выражают только раздражение, муть, горе о себе и встречном, то он просто добрый хранитель не принадлежащих ему сокровищ. Он, может быть, даже с удовольствием отстёгивает пуговицы своих карманов и показывает встречным все эти сокровища. Но и встречный, полюбовавшись ими, пойдёт дальше по своим делам, холодно подумав о непригодности и тяжести столь мало практичных фетишей.
Нет такого пути ученику. Ученик не привратник идей Учителя, а он – соратник, сотрудник в деле дня, и нет тяжких дел и встреч тому, кто видит в них дела и встречи своего бескорыстного друга – Учителя.
Внимая всей симфонии Вселенной, всему организму Единого – можно расти в духе, только живя всем своим организмом.
Только соединив в бдительности все свои начала: и божественное, и человеческое, и Учительское, силу в радости, – можно двигаться в своём росте.
И тогда рост духа не знает условностей, и никакие условия не могут поразить сил человека или ослабить здоровья его тела и энергии, тела и духа.
Сплетаясь мыслью и сердцем со всем Светлым Братством, ученик не может ни лить слёз, ни думать, что что-нибудь, кроме него самого, встаёт препятствием в его ученичестве.
Нет такого ученичества на земле, – в чём бы оно ни выражалось: в науке, в технике, в искусстве, – где бы не требовалось практическое применение к делу. Также нет и духовного ученичества без применения к практике его совершенств.
Чем же ученику огорчаться, если он не смог сразу применить к труду самовоспитания и в помощь к воспитанию встречного все те силы, что он уже смог развить в себе, идя в гармоничной любви Учителя?
Скорби – нет места. Но есть место движению в более широкое сознание, всё более освещаемое огнём Любви в себе, для верности Учителю, для радости в сотрудничестве с Ним.
Беседа № 6
Трижды призывается человек сознательно относиться к протекающей его земной жизни. В первый раз, когда кончается его младенчество, и он впервые самостоятельно начинает постигать логику Земли. Этот момент у всех наступает в разное время. Детская логика и энергия начинают действовать самыми разнообразными способами, что зависит от прежних воплощений, которые были завершены не миром и не радостью с кем-либо из окружающих спутников нового воплощения. Ни одно схождение в воплощение не может совершиться случайно, не тая в себе связи с теми людьми, где начата новая жизнь. И впервые движение активной мысли начинается тогда, когда выбор любви и ненависти детства сделан. Если младенец не соткал гармоничного кольца в своих предыдущих жизнях, он вернётся на Землю вновь в кольцо дисгармонии.
Второй зов – выбор сознательного труда и любви личной. Здесь действие человека развитого и сложившегося физически всё же может ещё не иметь полного роста духовного. Хотя силы ума и сердца развиты, но их мужество может спать, а жить может чувственность и ум, не идущие далее личного. Образование семьи, как ячейки гармонии, также может лежать только грузом личности. Ибо в зрелом человеке преобладает его физическая часть над божественною.
И третий зов человека, концентрация всех его сил, кульминационный пункт всей его жизни, гармония и радость, хотя бы на единое мгновение, – это смерть.
Эти три ступени не минуемы никем. Их значительность, их близость друг к другу, – всё зависит от возможностей, создаваемых самим человеком, где только силы мысли и сердца, творящие в гармонии, являются указателями времени достижения той или иной ступени.
Нет сил, подталкивающих извне человека. Нет тех или иных препятствий, по которым можно было бы судить о счастье или несчастье человека, ибо каждый, сходя на Землю, имеет в лице своего элементала как бы табличку, написанную Владыками Карм. И на этой табличке обозначены минимальные возможности человека. То же, чего он может достичь, является Светом его пути, где нет предела. Всё в себе всегда сходит живым и светлым на Землю. Всё в себе – как лента алая соединяет младенца с элементалом до семи лет, и через элементала каждый соединён с тем Владыкой Кармы, в чьём округе он рождён.
Нет беспризорных. Но есть много несчастных, старающихся как можно скорее порвать связь свою с высшими сознаниями. В таблицах, невидимых простому глазу, всегда ясно читающий прочтёт о разнохарактерности чувств и сил, разрывавших в дисгармонии и раньше такое существо.
Человеку пора познавать истину дисгармоничных существ. Пора сознательно отнестись к своей и чужой жизни; пора переменить своё понимание «несносных» и больных на осознание борьбы в них начал тьмы и света.
Не имеет значения, что человек равнодушен к своим родителям, а любит преданно и верно кого-то на стороне. Но важно, чтобы родители глазами добра и чистоты смотрели на эту любовь, чтобы они старались привести к гармонии страсти человека, им порученного, и пользовались каждою любовью своих детей для пробуждения в них самоотвержения и энергии героизма.
Постоянная ревность и упрёки, что ребёнок смотрит холодно на собственный дом, порождают боль и искривление энергии человека. Нет права собственности у родителей на их детей. Нет отцов и матерей пред вечностью. Вечность знает только Мудрое сотрудничество людей, их единение в общем труде, чтобы, проходя дни Земли, расти, помогая любовью друг другу.