Деньги и знаменитости. Выбираем личную финансовую модель
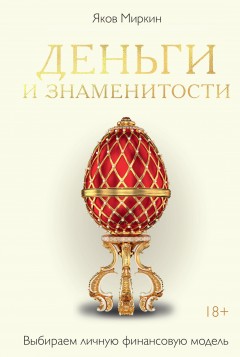
Форзац и нахзац – Б. М. Кустодиев. Обед у Троекурова. Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Дубровский». 1919. В кн.: А. С. Пушкин. Дубровский. Москва – Ленинград: Государственное издательство детской литературы, 1946. С. 45.
© Миркин Я. М., текст, подбор иллюстраций, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Азбука Бизнес®
Воинов Вс. Б. Кустодиев. Ленинград: Госиздат, 1926. С. 81.
Предисловие
У каждого из нас свой характер. Каков характер, такова и денежная судьба, наша личная денежная модель. Чаще всего она одна и та же всю жизнь. Кому назначено плыть в бедности, тот и плывет. И наоборот.
Но мы можем меняться. Мы можем пользоваться чужим опытом. Поэтому эта книга полна историй о том, как люди (они все нам известны, это знаменитые имена) строили, чаще всего бессознательно, денежные модели своей жизни. И были счастливы (хотя бы в этом) – или наоборот.
Эти истории – как сказки на ночь, как «Тысяча и одна ночь». Но они строго документальны, основаны на дневниках и письмах. Написаны так, чтобы мы могли оттолкнуться от чужих судеб в наших собственных размышлениях. Как лучше устроить свою денежную жизнь? Как нам стать свободней и состоятельней в деньгах – и значит, во всем остальном? Как изменить свою денежную модель, чтобы стало лучше жить?
Истории писались для вашего удовольствия. Хотелось развлечь вас – и послужить всем тем, кто умен, внутренне свободен, находится в поиске.
Есть ли связь с другими моими книгами? Да, конечно. Особенно с «Правилами бессмысленного финансового поведения». Мои книги основаны на том же принципе – рассказать десятки историй. У каждого из нас есть люди – «аналоги» в прошлом (характер, модель поведения). Чаще всего они – известные имена. Можно посмотреть на себя со стороны, оттолкнуться от них, решить, как быть дальше.
Пусть эта книга служит вам и вашим близким верой и правдой. Пусть принесет удовольствие. Она писалась с утра до вечера, и даже по ночам, именно для этого.
Книга в книге
Вы открыли «Книгу в книге». Она – из нескольких десятков иллюстраций, рисунков двух великолепных художников – англичанина Обри Бёрдслея (Aubrey Beardsley) и русского Сергея Чехонина. Что между ними общего? Они – люди одного времени, Бёрдслей старше всего на 6 лет. Их мир – фантазия. Их линии, черно-белые – запутанны, хотя и совершенны. Их женщины и цветы – прекрасны. Их техника – стремительна и прихотлива, так, что спрашиваешь себя: «А как это возможно – так писать?»
С. Чехонин
Эфрос А., Пунин Н. С. Чехонин. Москва – Петроград: Государственное издательство, 1924. С. 78.
Жизни Бёрдслея и Чехонина на переломе XIX–XX веков – прозрачны. О них написаны книги (абсолютно доступны). Сколько хочешь ударов судьбы, приходящихся по сердцу! Чертовщина, ангелы, театр – не без этого. И еще – взгляд исподлобья, взгляд туманный, взгляд с небес. Короче говоря, без них, без этих двух имен, – не получится. Их искусство сидит под кожей. Ну что делать, никак нельзя!
Что ж, приглашаю. Книга открыта.
Есть мечта, чтобы вам было в ней удобно.
Она подчинена искусству читать, видеть и еще, как наяву, слышать и ощущать.
Глава 1
Как тянуть лямку. Рецепты от знаменитых
Деньги Пушкина[1]
Деньги Пушкина? Женился в 1831 г., ушел в 1837-м. Шесть лет – в бегах, всегда в поисках денег, вечно в попытках ужиться с властью, чтобы накормить семью. Это какой-то другой Пушкин, подозрительно смахивающий на нас. Закладывал бриллианты жены (это не мы), вещи закладывал, пытался лично управлять имением (это тоже не мы), основывал газету, альманах, журнал – как проекты, под платную подписку. Одалживался бесконечно, пытал казну, точнее, императора, на предмет государственных ссуд (и получал их) и, самое главное, писал, чтобы заработать на жизнь. Писал!
С. Чехонин
Эфрос А., Пунин Н. С. Чехонин. Москва – Петроград: Государственное издательство, 1924. С. 103.
«Государь, удостоив принять меня на службу, милостиво назначил мне 5000 жалованья. Эта сумма громадна, и, однако, ее не хватает для жизни в Петербурге. Я должен тратить здесь 25 000 и притом платить все долги, устраивать семейные дела и, наконец, иметь свободное время для своих занятий»[2]. Мы помним, что это были за занятия. Они дарят нам наслаждение. Из-за них мы так преклоняемся перед русским языком. И из-за них уверены: русская литература божественна.
Как хочется превзойти Пушкина! Но вряд ли нам удастся заложить своих крестьян. «Через несколько дней я женюсь: …заложил я моих 200 душ, взял 38 000 – и вот им распределение: 11 000 теще, которая непременно хотела, чтоб дочь ее была с приданым… Остается 17 000 на обзаведение и житие годичное…»[3]
«Мои души» – заложить или продать? Дать их в приданое? Нам не придется. Можно продать свою душу, на нее всегда найдется рынок. Особенно сейчас. Не делайте этого даже в самые сложные времена!
«Взять жену без состояния – я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок – я не в состоянии»[4].
Так шутить и мы в состоянии, если, конечно, рассчитываем «финансовые модели» наших семей. Точно так же, как и камер-юнкер Пушкин, оставивший нам в собрании сочинений смету расходов на год.
Итак, он живет в Петербурге (жена при дворе): 25–30 тыс. руб. – потребность в деньгах на год (1 руб. равен примерно 2000 руб. сегодняшним); 6000 руб. – квартира; 4000 руб. – лошади; 4800 руб. – кухня. Платья, театр – 4000 руб. Всякое разное – 12 000 руб. Итого (округлил) – 30 тыс. руб. в год (июнь–июль 1835)[5]. Еще и долги – личные, брата, имения. Сестры жены, жившие с 1834 г. у Пушкиных в Петербурге. Их нужно было выдать замуж. Письмо жене 21 сентября 1835 г.: «…О чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения: он его уже половину промотал; Ваше имение на волоске от погибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000»[6].
Кстати, в вашем доме есть смета? Готовы создать бессмертное сочинение: доходы на год вперед, их источники, расходы по статьям? И спросить себя: «Как я покрою дефицит?»
Готовы в течение года считать доходы/расходы своей семьи? Создать «домашний офис»? Семейное «казначейство», чтобы управлять деньгами на денежном рынке?
Смешно? Состоятельному человеку или тому, кто готов быть состоятельным, совсем не смешно.
Придется. Никуда не денешься.
Приходится заставлять себя делать это. Кажется напрасной тратой времени. Времени бесконечно жаль.
Но приходится – иначе не выжить во времена великих перемен.
«Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости»[7]. Нам стоит повторить это сто тысяч раз. Свобода, независимость, делай все, что можешь, чтобы найти работу и у семьи были хлеб, тепло и молоко.
«Деньги – это грязь». Очень распространенная идея в России. Привычка легко тратить – сплошь и рядом. В трудах добыть денежный металл – и пустить его по воздуху. Веером.
Что из этого? Денежное рабство в будущем.
Его проекты – «История Пугачевского бунта» (1834), журнал «Современник» (1836) – убыточны. Масса долгов по векселям. Когда был убит, «в доме Пушкина нашлось всего-навсего триста рублей»[8]. Хоронили Пушкина за счет графа Строганова (родственника по теще).
Если бы кто-то мог изобразить, как разные желания в семье, разные модели жизни приводят ее к финансовой катастрофе, лучшего примера не найти. Не затворник, не святой писатель, ищущий истин подальше от столиц, – по принуждению светский, служащий человек из Петербурга, находящийся в низких чинах, допущенный в большой свет ради обласканной всеми супруги, желающей – несмотря на пять беременностей и четверых детей – блестящей молодости. С катастрофически растущими долгами.
Вот записка императора, когда Пушкин погиб: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинение издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.»[9].
Сколько долгов за почти 6 лет семейной жизни? Выплачено их на 139 тыс. руб., в том числе казенного долга – 43,3 тыс. руб., частным лицам – 95,7 тыс. руб.[10] Пенсионы вдове до замужества – 5 тыс. руб. в год, детям – по 1,5 тыс. руб.[11] 10 тыс. – сразу, лично вдове. Еще 50 тыс. руб. на издание собрания сочинений – в пользу семьи[12].
Что сказать? Не у всех есть Строганов. И вряд ли найдется император, чтобы заплатить наши долги. От «финансовой модели» семьи никуда не денешься. Нам придется ее считать. Пусть каждый из нас управляет имуществом семьи с такой искусностью, так добывает проекты и работы, чтобы никто из семьи, никогда и ни при каких обстоятельствах не смог воскликнуть: «Сжальтесь над моей нуждой!»
За долгами Пушкина, чтобы их погасить, а также за деньгами его семье, чтобы выжила, была учреждена опека (опекунский совет)[13].
Объявили: все, кому Пушкин должен, несите счета, копии «заборных книжек», заемные письма и т. п. Их набралось на 95,7 тыс. руб.
Как дошли до жизни такой? Как и наша обычная, городская семья, когда живет бессчетно. Покрывает долги долгами. Пытается не думать о том, что впереди. Есть и пить, антураж – не снижая темпы. Пусть они – те, кому должен, – ходят за мной, а не я за ними.
У Пушкина в 1836 – начале 1837 г. вообще не было доходов. Его жалованье 5 тыс. руб. зачли в погашение долга казне. Хотел заработать на издании «Истории Пугачевского бунта» и журнала «Современник». Эти коммерческие проекты в минусе. Свои писания отдавал бесплатно «Современнику». Был как-то авторский гонорар – и его съел «Современник». В час смерти у него на квартире – 75 руб. наличных денег[14], по другой версии – 300 руб. (см. выше).
А долги? Что такое долг частным лицам 95,7 тыс. руб., казне 43,3 тыс. руб. ассигнациями в нынешних рублях (2025)? Были еще рубли серебряные, бумажные ассигнации к ним стояли как 3,7 к одному[15].
1 руб. примерно равен 2000 руб. сегодняшним. Больше 270 млн руб. современного образца! А из чего состояли долги? Казне – за ссуды на издание книг. Частным лицам – обычные долги «за жизнь». Ростовщики, друзья («перехватить до получки»), еда, питье (вино), тепло (дрова), прислуга, свет (свечи), езда (лошади, экипажи) и, самое главное, квартира.
Нужно понять, что такое «квартира» в Петербурге для большой дворянской семьи (муж, жена, сестра жены, четверо малолетних детей), вхожей в высший свет. Это этаж с 11 комнатами в особняке со службами (кухня, при ней подвал, конюшня, сарай, сеновал, места в леднике и на чердаке, винный погреб, две комнаты для слуг, прачечная)[16]. Аренда – 4,3 тыс. руб. в год ассигнациями. По-нынешнему – 700 тыс. руб. в месяц. Справитесь? Кажется, что нет. А месячный расход только на текущие нужды? 2–3 тыс. руб. Сколько же ртов там кормились?
С. Чехонин
Эфрос А., Пунин Н. С. Чехонин. Москва – Петроград: Государственное издательство, 1924. С. 82.
Вот расчет только по жалованью: няни – первая и вторая, горничная – «первая девушка», еще три девушки – «вторая», «третья» и «четвертая», кормилица, мужик при кухне, лакей, повар, кучера, служитель, прачка и т. п.[17] Доктор – очень затратная персона! Кормились в долг: десятки «заборных книжек» и счетов от лавочников, магазинов, мастеровых. Ростовщики – векселя и заемные письма. И даже в заклад сданные жемчуга и две турецкие шали Натальи Николаевны («черная» и «белая»), серебро ее сестры. Решение опеки: выкупить жемчуг, шали и серебро и вернуть владелицам.
А на кормление? 5 октября 1836 г. «Филей говяжий, люд. говядина, котлеты бараньи, печенка говяжья». 6 октября 1836 г. «Буль. говядина, люд. говядина, поросенок, котлеты бараньи»[18] и т. д. Из другой лавки: 5 октября 1836 г. «1 шт. утка, 1 шт. цыпленок». 6 октября 1836 г. «1 шт. курица. 3 дичи мелкой. 1 шт. цыпленок»[19] и т. д. Зеленная лавка, 5 октября 1836 г. «2 фунта масла русского, 1/2 сливочного, 10 шт. огурцов, 1/2 сметаны, 10 шт. яиц из деревни, 1/4 картофеля, 2 ф. муки»[20]. 2 ноября 1836 г. «18 3/4 рафинаду, 1 фунт чая цветочного, 5 фунтов кофею Мартиник, 2 кофею, 3 1/8 фунта сыру голландского, 3 фунта чаю, 4 фунта рафинаду»[21].
Примерно по бутылке вина на день из французского погреба[22].
И так каждый день. Большое хозяйство! Кормление себя и слуг, наемных и дворовых. Плюс открытый дом – зайти к Пушкину, перекусить, поднять бокал вина и, конечно, поговорить.
И сегодня есть долги ростовщикам. Есть скрытые – ты мне, я тебе. Есть в частных векселях (они существуют). Есть ломбарды, компании «микрофинансов». Там процент смертельный – десятки и сотни годовых.
В 1836 г. все было проще и легче. Вот заемное письмо: «1836 года Сентября девятнадцатого дня, Я нижеподписавшийся двора Его Императорского Величества камер-юнкер Александр Сергеев сын Пушкин, занял гвардейского инвалида № 1 роты Г. прапорщика Василья Гавриловича Юрьева, денег Государственными ассигнациями десять тысяч рублей за указные проценты, сроком впредь по первое число Февраля будущего тысяча восемьсот тридцать седьмого года, на которое и должен всю эту сумму сполна заплатить, а буде чего не заплачу, то волен он, Г. Юрьев, просить о взыскании и поступлении по законам. К сему заемному письму двора Е.И.В. камер-юнкер Александр Пушкин приложил»[23].
«Указный процент» – процент по закону, по указу государя. В то время был равен 6 %. 10 тыс. руб. ассигнациями на 4,5 месяца под 6 % годовых. Прапорщик Юрьев – по всей видимости, ростовщик[24], его имя не один раз встречается в пушкинских бумагах, и всё по части взять деньги в долг. Долг погашен опекой.
Из долгов Пушкина 95,7 тыс. руб., погашенных опекой, 30,5 тыс. руб. взяты у ростовщиков, 25,6 тыс. руб. – дружеский долг (деньги друзей и знакомых), тоже под «указные проценты».
58,9 % долгов Пушкина – займы.
Остальное – что угодно. Аренда квартиры, продовольствие, дрова, извоз, мебель, часовых дел мастер, книги, бумага и т. п.
Так выстраивается личная финансовая пирамида – почти 60 % поступающих денег идет на оплату долгов, доходов слишком мало, новыми долгами погашают старые долги, по нарастающей.
Если пересчитать в современные деньги (2025), долги Пушкина ростовщикам и друзьям – больше 130 млн руб. Способ жизни – великосветский. Поставки продовольствия и проч. – в долг. В доме денег – почти ноль.
Можем повторить? Пусть и в меньших размерах?
Как говорится, не дай Бог!
Наталья Гончарова. Как выкормить четырех детей. В одиночку[25]
У Натальи Николаевны Гончаровой есть загадка, но не та, о которой вы подумали. Не тайна: любила или нет, кого и когда? Пусть ее веками раскапывают пушкинисты. Но есть тайна очевидная: как ей удалось вырастить своих семерых детей и никого не потерять? И еще несколько приемных. Как это она сделала в век ужасный – в век детской смертности, которая сейчас нам кажется невозможной, нетерпимой, когда даже императорская семья могла терять маленьких детей? В 1841–1845 гг. до возраста один год доживали только двое из троих родившихся детей[26].
О. Бёрдслей
The Later Work of Aubrey Beardsley. New York: John Lane Company, 1920. Plate 152.
У нее было, как известно, четверо детей от Пушкина и трое от Ланского. Она их родила в 19, 20 лет, в 22, 23, 32 и 33 года, в 35 лет. В доме – два сына, пять дочерей, плюс три племянницы и два племянника Ланского, плюс племянник Пушкина, плюс сын Нащокина, друга Пушкина. По странному стечению обстоятельств шестеро из семерых ее детей родились весной. И все дожили до самого почтенного возраста, 65–80+, при том, что ожидаемая продолжительность жизни в Европейской России в конце XIX века была 29,4 года у мужчин и 31,7 года у женщин[27]. И даже смогли дать общее потомство Пушкина и Николая I. Что еще? Внутри семьи случился счастливый брак. Сын Пушкина, сын старший, тоже Александр, женился на Софье, племяннице Ланского, одной из тех, кто рос под ее крылом.
Так что это за секрет? Как можно было выкормить всю эту радостную ораву, не потеряв ни одного? Что это – вдруг – за предназначение чистейшей прелести, по словам первого мужа? «Положительно, мое призвание – быть директрисой детского приюта: бог посылает мне детей со всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет» (12 сентября 1849 г., Наталья Гончарова – второму мужу, Петру Ланскому)[28]. Ей 37 лет. «Ты знаешь, это мое призвание, и чем больше я окружена детьми, тем больше я довольна»[29].
Великая немая заговорила! И как! Ее писем к Пушкину не осталось, только несколько строчек. Но зато есть письма к родным, ко второму мужу. Чистый, ясный, приятный язык думающей женщины, все понимающей, многое испытавшей, с глубокой внутренней жизнью и еще – с бесконечной преданностью и любовью к детям.
Кстати, не родить ли еще? Н. Гончарова – П. Ланскому: «Я тебе очень благодарна за то, что ты обещаешь мне и желаешь еще много детей. Я их очень люблю, это правда, но нахожу, что у меня их достаточно, чтобы удовлетворить мою страсть быть матерью многодетной семьи… Кроме моих семерых, ты видишь, что я умею раздобыть себе детей, не утруждая себя носить их девять месяцев и думать впоследствии о будущности каждого из них, потому что, любя их всех так, как я люблю, благосостояние и счастье их – одна из самых главных моих забот. Дай бог, чтобы мы могли обеспечить каждому из них независимое существование. Ограничимся благоразумно теми, что у нас есть, и пусть Бог поможет нам всех их сохранить» (20 июля 1849 г.)[30].
Пусть Бог поможет их сохранить! Она их и сохранила. До второго замужества это было тягостное, безденежное существование, с вечными долгами, просьбами родным о деньгах, даже если они полагались по праву, с невозможностью сделать то, что нужно для детей, потому что денег – нет. Доходы (пенсии от государства, доходы от имущества, помощь родных), по оценке, были в 1,5–2 раза ниже того, что требовалось, чтобы – без посторонней помощи – дать воспитание и прокормить себя и четверых детей, пока они не станут взрослыми, так, как ожидалось от дворянской семьи, с ее челядью и домочадцами.
Вот письмо Таши (так ее называли в семье) из деревни, из Михайловского, где она проводила лето, а потом и осень, потому что не было денег, чтобы добраться на зимовку в город. 3 сентября 1841 г.: «Отчаявшись получить ответ на мое июльское письмо и видя, что ты не едешь, дорогой брат, я снова берусь за перо, чтобы надоедать тебе со своими вечными мольбами. Что поделаешь, я дошла до того, что не знаю, к кому обратиться. 3000 рублей – это не пустяки для того, кто имеет всего лишь 14 000, чтобы содержать и давать какое-то воспитание четверым детям. Клянусь всем, что есть для меня самого святого, что без твоих денег мне неоткуда их ждать до января и, следственно, если ты не сжалишься над нами, мне не на что будет выехать из деревни. Я рискую здоровьем всех своих детей, они не выдержат холода, мы замерзнем в нашей убогой лачуге.
Я просила тебя прислать мне по крайней мере 2000 рублей не позднее сентября и очень опасаюсь, что и этот месяц пройдет вслед за другими, не принеся мне ничего. Милый, дорогой, добрый мой брат, пусть тебя тронут мои мольбы, не думаешь же ты, что я решаюсь без всякой необходимости надоедать тебе и что, не испытывая никакой нужды, я доставляю себе жестокое удовольствие тебя мучить. Если бы ты знал, что мне стоит обращаться к кому бы то ни было с просьбой о деньгах, и я думаю, право, что Бог, чтобы наказать меня за мою гордость или самолюбие, как хочешь это назови, ставит меня в такое положение, что я вынуждена делать это»[31].
Денег брат так и не прислал, хотя обязан был это сделать по внутрисемейным раскладам (сам был в долгах), так что Наталья Гончарова, 27 лет, в полном расцвете сил, но без средств, смогла выехать со своими чадами (их на тот момент четверо) и домочадцами в Петербург только поздним октябрем, за счет графа Строганова, своего родственника, великодушно, как она писала, приславшего ей деньги на дорогу.
Как жаль, что интимнейшие семейные вещи выносятся на всеобщее обозрение! Но как еще понять, кто перед нами? Ее старший сын, Александр Пушкин: «Мы любили нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского»[32]. Александра Арапова, старшая дочь Гончаровой от Ланского: «ангельская кротость с собственными детьми», «беспредельная нежность, постоянно проявляемая», «сосредоточенная, скромная до застенчивости, кротости и доброты необычайных». «Напрасно страдала она мыслью уничижения перед нами, зная, что часто нет судей строже собственных детей. Ни одна мрачная тень не подкралась к ее светлому облику, и частые, обидные нападки вызывали в нас лишь острую негодующую боль, равную той, с которой видишь, как святотатственная рука дерзко посягает на высокочтимую, дорогую святыню»[33].
Неплохо быть святыней для собственных детей. А что поклонники – до брака с Ланским? Вот одна из причин отказа: «Кому мои дети в тягость, тот мне не муж!»[34] Некто хотел сдать ее детей на жительство в казенные учреждения (там учиться).
Где же она, истинная? Где сложно думающая, всю жизнь после Пушкина тихая, никогда не смеющаяся, – и если у нее радость, то неявная, с неизменной темнотой за ней. Где она?
Наверное, вот в этом: «Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружают. Это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома. Саша проделывает опыты над Пашей, который попадается в ловушку, к великому удовольствию всего общества. Я только что отправила младших спать, и, слава богу, стало немного потише» (21 июня 1849 г.).
С. Чехонин
М. Моравская. Апельсинные корки. СПб.: Тип. Г. Шумахера и Н. Бругара, 1914. С. 28.
«Я очень довольна своим маленьким пансионом, им легко руководить. Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей; как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными» (29 июня 1849 г.).
«Я поехала в Пажеский корпус и была бесконечно счастлива узнать, что Саша сегодня утром был объявлен одним из лучших учеников… Что касается Гриши, он также имел свою долю похвал… Ты представляешь, как я была счастлива, я благословляю Бога за то, что у меня такие сыновья…» (29 сентября 1849 г.)[35].
Вот так: я была счастлива. Бесконечно. Дети – счастье. Она притягивает их, своих и чужих. Благословляет Бога за то, что они такие. Их шум, и гам, и смех – радость. Она – любит. Семь детей плюс не меньше приемных и приходящих. Все смогли стать взрослыми в век, когда до 20 лет доживали четверо из десяти[36]. Ей 37 лет, они – ее опека, дети – произнесенная формула счастья. Пушкину было тоже 37, когда он ушел. «Горячая голова, добрейшая душа». Так она однажды написала о нем, вдруг приоткрывшись[37].
Все это замечательно, но как с деньгами?
Что делать женщине 24 лет, только что ставшей вдовой с четырьмя детьми, мал мала меньше, не имеющей средств к существованию (от слова «совсем»), с гигантскими долгами, равными расходам на 5–6 лет жизни? Что делать, если у нее нет дома, нет квартиры, нет своего места (они вместе с мужем всегда снимали жилье)?
Наталье Николаевне Пушкиной до 1 марта 1837 г. (два месяца после смерти мужа) нужно было освободить большую съемную квартиру в центре Петербурга.
Когда семья на дне, первое, что приходит в голову, – государство. Что можно взять у государства? Здесь был счастливый случай: «ангелом-хранителем» стал сам император.
Повторим, что было велено «свыше»: выплатить все долги Пушкиных за счет казны, очистить от долгов имение; назначить пенсион – вдове 5 тыс. руб. в год до нового замужества (столько получал Пушкин как камер-юнкер); каждому ребенку по 1,5 тыс. руб., пока не выйдут в люди; мальчикам – казенное образование, в пажи; 50 тыс. руб. – на собрание сочинений Пушкина (хороший источник дохода) и еще 10 тыс. руб. – срочно, на неотложные нужды (расплатиться и похоронить)[38].
А как же имение в Михайловском? Дойная корова? Во-первых, еще нужно выкупить доли у других родственников. Во-вторых, там безобразия и доходы почти нулевые. В-третьих, какое же это простенькое место! Вот выписка имущества для опеки: деревянный дом, 6 голландских печей, 14 окон, 3 кровати, 1 шкаф, 4 дивана, покрытых холстинкою, 8 стульев, 5 кресел, 18 глубоких тарелок, 10 чашек, 1 самовар и т. д. Зато 1 бильярдный стол (старый, с 4 шарами) и 2 ветхих ломберных. 4 флигеля, 2 амбара, 1 хлебный амбар, птичий двор и т. п. И еще старых коров 59 штук и гусей старых – 10 с остальной живностью. Мужских душ 71, женских – 98. Состояния измеряли живыми душами. 169 душ – очень мало, с них не прокормишься[39].
Всем нам хорошо знакомая ситуация. Сад и огород не выход. Ими можно, конечно, подкормиться. Но на них, как правило, не проживешь.
Так жить на что? Годовые расходы – 25 тыс. руб. (включая съем жилья, учителей, гувернеров). Пушкин оценивал их в 30 тыс. руб. Пенсион вдовы 5000 руб. + 4 детям по 1,5 тыс. руб. = 11 тыс. руб. (см. выше). Мать Натальи Николаевны давала ей некоторое время по 3 тыс. руб.[40] Потом отказала – семейство Гончаровых само в финансовых сложностях. От Полотняного завода, владений Гончаровых (там была большая фабрика), ей полагалось от брата (управлял) 1500 руб. в год, но шли они с огромными задержками, фабрика еле дышала. А она его забрасывала письмами.
Вот еще одно обычное письмо, она с детьми в Михайловском, погрязла в долгах, 1 октября 1841 г. «Дорогой Дмитрий. Я совершенно не знаю, что делать, ты меня оставляешь в жестокой неизвестности. Я нахожусь здесь в обветшалом доме, далеко от всякой помощи, с многочисленным семейством и буквально без гроша, чтобы существовать. Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей, и нам не на что было их купить»[41].
Она приехала с детьми в Михайловское, провела там лето, поставила памятник на могиле мужа, перезахоронила его. Дмитрий – это брат Натальи Николаевны.
«Чтобы скрыть мою бедность перед князем… который приехал погостить к нам на несколько дней, я была вынуждена идти просить милостыню у дверей моей соседки, г-жи… Ей спасибо, она по крайней мере не отказала чайку и несколько свечей. Время идет, уже наступил октябрь, а я не вижу еще момента, когда смогу покинуть нашу лачугу».
Князь – Петр Вяземский. Соседка – Прасковья Александровна Вульф, в Тригорском, конфидентка Пушкина, мать двух дочерей, с которыми был больше чем флирт («Татьяна» и «Ольга» – Онегин).
«Что делать, если ты затянешь присылку мне денег дольше этого месяца? У меня… нет ни шуб, ничего теплого… Поистине можно с ума сойти, ума не приложу, как из этого положения выйти. Менее двух тысяч я не могу двинуться, ибо мне нужно здесь долги заплатить, чтоб жить, я занимала со всех сторон и никому из людей с мая месяца жалованья ни гроша не платила. Если это письмо будет иметь более счастливую судьбу, чем предыдущие, и ты… сжалишься над моей нуждой, то есть пришлешь мне денежную помощь, о которой я умоляла столько времени, то адресуй…»
Вспомним еще раз: из Михайловского она выбралась только за счет денег графа Строганова. Того самого, за чей счет хоронили Пушкина. Своего двоюродного дяди.
У нее долги бесконечны. Она перезанимает деньги даже у своих слуг. После издания собрания сочинений Пушкина высвободилось до 50 тыс. руб. капитала. Берет проценты с них (2600 руб.) в свои доходы[42]. Просит опеку выделить ей еще 4000 руб., потому что дети растут и им пора нанять учителей[43]. Пытается не тратить этот единственный капитал (50 тыс.), чтобы он остался детям. Но тратить приходится, ежегодно дефицит наличности, по оценке, 4–8 тыс. руб. Это огромные для нее деньги.
Где взять бесплатное жилье? Почти два года (1837–1838) прожила у родственников в Полотняном заводе (текущие расходы – из своего кармана). Потом пару лет летними – осенними наездами в Михайловском («дача»).
Что еще? Она выкупает для детей и для себя Михайловское как единственный свой угол. Источник – все тот же, капитал от сочинений Пушкина. Выкуп длится годами, совладельцы спорят (сколько стоит одна живая душа, сошлись на 425 руб. ассигнациями)[44], а когда он происходит, крестьяне, ее крепостные, подписывают обязательство каждый год высылать ей 850 руб. (оброк вместо барщины), взамен пользуясь барскими землями[45].
Экономит не по-великосветски. Слушать музыку? «…Я послала узнать о цене на билеты. Увы, это стоило по 1 рублю серебром с человека, мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство. Следственно, я отказалась от этого, несмотря на досаду всего семейства, и мы решили благоразумно… отправиться на Крестовский полюбоваться плясунами на канате»[46].
Деньги – где только можно, лишь бы дать детям то, что они обязаны знать и уметь по своему роду и наследству. А потом вышла замуж по любви (лето 1844 г.) – стало легче, хотя и сложнее, когда родились еще трое детей и весь этот «детский пансион», с огромными затратами, радостно обрушился на нее.
Как сумела прожить? Крутиться!
1. Взять все от государства, все, что оно может и должно дать.
2. Выявить и оценить все имущество, какое есть. Вытащить из залога.
3. Максимум доходов от родственников, законная доля имущества и доходов, если они есть.
4. Взять все, что можно, от родителей, пока жалеют и в силе.
5. Управляемый поток долгов от кого угодно. Очистился – займи снова.
6. Ищи то, чем можешь пользоваться бесплатно.
7. Бедность должна быть «благородной». Не стесняться настойчиво просить, спрашивать, теребить, подавать прошения – в рамках рациональности. Не быть чрезмерным. Не замкнуться. Быть отчаянным и эмоциональным, соблюдая между тем меру разумность, должный такт и надлежащее расстояние между собой и теми, от кого мы зависим.
8. Главные вложения – в счастье детей. Они должны получить все, что им следует для старта, по месту в обществе и ожиданиям.
9. Займись наследствами. Получи в них все, что можешь.
10. Отказывай себе, копи имущество для детей, их будущего.
11. Каждый семейный актив, если может, должен приносить доход.
12. Умное и экономное управление домашней жизнью (при первом муже, до 1837 г., кажется, что кто в лес, кто по дрова).
13. Найти ключевого человека, который, не принимая на себя полной ответственности, будет проводником в финансовых делах, заступником, советчиком и, главное, «кредитором последней инстанции», способным покрыть на время, не втягиваясь глубоко, кассовые разрывы.
14. Брак по любви – отличная финансовая машина. Женщину в нем пытаются приподнять.
15. Наталья Гончарова, искусный (правда, замученный) финансовый человек, желает вам состоятельности – со всеми особенностями вашей семьи, отличными от времени и обстоятельств ее жизни.
Александра Смирнова-Россет. Душка-капитал[47]
О. Бёрдслей
The Yellow Book. Volume XII. January 1897. Титульный лист.
Звезда светских салонов, легка, умна и черноока, к тому же фрейлина, радостно собирала вокруг себя могучих львов русской литературы. Гоголь «был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили»[48]. «Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе… В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки-графини…»[49]
Кажется, куда больше? Но есть куда. «Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном»[50]. Сам Жуковский! «Я вздумала писать масляными красками деревья, но Жуковский меня обескуражил, сказав, что мои деревья похожи на зеленые шлафроки»[51].
А вот – апофеоз. Бал. «Государь мне сказал: “Зачем ты меня не выбираешь?” (по-русски он всегда говорил мне “ты”)»[52].
Какая приятная жизнь! В ней должен как-то участвовать народ. Он тоже действующее лицо, ему тоже нужно дать голос. Ау! А вот и он! Несчастный этот народ случайно оставил незашторенным окно, так что друг семьи смог узреть, как он выразился, «самое прекрасное на свете – девственную грудь» Александры Осиповны. «Я сгорела от стыда, стоя на пороге в белом пеньюаре. Лизе досталось, но так как вообще целомудрие не есть отличительная черта нашего народа, то Лиза спокойно отвечала: “Экая беда!” – “Ты мерзавка, ты жалуешься, что тебя Орест бьет, а я нахожу, что он тебя не довольно бил: ведь я знаю, что ты с Сашкой делаешь гадости, пошла вон и позови сюда M-me Мисси”. – “Ваша Миська будто лучше меня, она всякое утро бегает невесть куда”. – “Врешь, дура, Миська не такая свинья, как ты, она ходит купаться с моим позволением. Пошла, и принеси ящик с бриллиантами, и все, что я выбрала из сундука”».[53]
«Пошла, и принеси ящик с бриллиантами!» Как-то не комильфо! Хотя А. О. очень ценит народ. Она не чает в нем души! Народ – это капитал.
Вот записи в дневнике:
«За ней он взял 8000 душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход…»[54] Село и нынче стоит в Нижегородской области, правда, народа там в 10 раз меньше, чем в прошлые времена. «Генерал Недобров был из любимцев императора Павла… Недобров получил 2000 душ, большая часть имения была в Васильевке Моршанского уезда»[55]. «Дмитрий Петрович оставил им по духовному завещанию 500 душ, часы, кубки и астролябию»[56].
Души, души, души! Мсье, какие у вас виды? «У Стефани 150 000 душ, прекрасные леса в Царстве Польском, имения в Несвиже и Кайданах, где у нее замки. А вы, мсье, собираетесь жениться или хотите устроиться иначе?»[57]
Как я сочувствую! «Бедная Березникова вышла замуж за Павла Алексеевича, потому что в Елманове было 500 душ незаложенных и была надежда получить частичку Картунова. У нее самой было 1000 душ; она была кроткая и приятная женщина, шла за него по приказанию отца и матери и не знала любви, не знала, что ждет ее от жестокого и тиранического мужа; даже не смела посвятить себя всецело детям»[58].
Речь, конечно, о мужских душах. Женские души в расчет не шли, они – при мужских. То есть живых, теплых людей в два с лишним раза больше во всех этих расчетах.
А что в это время с душами?
Они сидели на запятках. «Девке, которая сидела на запятках, велели крепче держаться за кисти, и карета пошла прыгать по крупным камням»[59].
«На другой день рано утром велела подать кофий, который нам принесла Татьяна. На вопрос, зачем не Пелагея, которая всегда одна варила, нам сказали, что она больна. Я тотчас догадалась, что время пришло ей родить, ее отвели в другую избу. Я не знала, что мне начать делать, ибо мы были совсем готовы выехать. Перед нами был переход в 20 верстах… Но Татьяна приходит и говорит, что она уже родила девочку, очень скоро и благополучно. Я удивлялась, как Бог милостив, что он, видно, покровительствует этих мерзких, но при том несчастных тварей. Я после начала хлопотать, как бы избавиться от ребенка, но все сделать скоро… Мне сказали, что есть молодая женщина, которая согласится ее взять. Ее привела старуха-мать, обе тотчас согласились, она просила 200 р., чтобы дала на бедность, и я дала 135 р., а Пелагею хорошо управили, положили в коляску, и мы поехали»[60].
И куда же мы все поехали? В 1905-й? В 1917-й? В «черные переделы»? В разгром усадеб, где жили так хорошо и светло? И вправду: «В тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный и как дитя была добра; смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо набело». Это Пушкин, «В альбом А. О. Смирновой».
Да, она была прекрасна. Мы все прекрасны. Но только если мы – плоть от плоти народа, кровь от его крови. Если всю свою жизнь соединяем с общей жизнью, если различаем каждого отдельного человека, пытаясь именно ему создать благо, когда жизнь всех зависит от каждого, а жизнь каждого – от всех, в какой бы точке общественного пространства он ни находился.
И это – не прописи. То, что произошло с Россией в XX веке, каждой строчкой доказывает – не может быть безличности, нет «народонаселения», есть общество людей, жизнь которых – каждого – должна быть отдельна и драгоценна.
Дело, конечно, не в Александре Осиповне, которая была и мила, и добра, и жизнь которой была, в общем-то, нормальна и играла яркими красками, хотя несчастий (муж, дети) она не миновала.
Дело в безличности, которое было общим убеждением тех, кто наверху. Что есть человек? Вопрос вопросов бытия. А вот ответ. «Крепостной человек Лука». «Ее человек Сергей Игнатьев». «Крепостной человек Карп, которого они звали Карпуней, что возбуждало смех других русских путешественников». «Ее препоручили человеку Николи, и его прозвали Парамоной, т. е. мамкой моей собачонки». «Человек Николай». «Человек мой Григорий». «Ей купили на рынке девку за 7 рублей». «Девка Гашка». «Конюшенная девка»[61]. Нужно ли напомнить, что в русских деревнях все звали друг друга по имени-отчеству?
«Мне надели белое платье с нескончаемым количеством мелких складок и розовый платок на шею, новые башмаки и сережки Дюка со змейкой мелких бриллиантов. Мы уселись так, что девка сидела в моих ногах с корзиной абрикосов»[62].
Сидела девка в моих ногах.
Жизнь наверху – хорошая жизнь. Но только тогда, когда мы всех именуем по имени-отчеству, бессознательно и безотчетно. И помним, что это мы им служим, а не только они нам. Все просто. Имя – отчество – нормальная, хорошая жизнь.
Денежная модель Лермонтова. Как погулять поручику[63]
О. Бёрдслей
The Savoy. July, 1896. Титульный лист.
Люди жили тогда не так долго, как сейчас, и к 20 годам должны были знать и уметь все, что нужно. В 1896–1897 гг. ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Петербурге была 25 лет, в Москве – 23 года[64]. В начале XIX в. жили еще меньше. Даже у членов императорской фамилии век был ограничен. Александр I прожил 47 лет, Николай I – 58 лет, их братья великие князья Константин Павлович – 52 года, Михаил Павлович – 51 год. Так что нужно было успеть сделать как можно больше!
Сколько же труда нужно было вложить в человека, чтобы он к 20–22 годам стал действующим! Михаил Лермонтов в свои 20 лет (1834) знал как свои французский и немецкий языки, читал свободно по-английски, и есть свидетельства, что занимался латинским и греческим. Вот его стихи на французском (в переводе): «Вся жизнь моя лишь скорбный воз, что проклял я. Глаза без слез!»[65] Когда он сочинил это, ему было 16 лет. А рядом шедевр, признанный шедевр русской литературы: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!..» Ему было 18 лет, он бродил по Петербургу – и вот, взял и написал.
Чтобы так случилось, нужно было иметь немецкую бонну, французских гувернеров и кучу частных учителей. Кстати, кто его научил музицировать? История умалчивает. 21 декабря 1830 г. в Московском университетском благородном пансионе, в 16 лет испытан в искусствах «Михаил Лермантов на скрыпке аллегро из Маурерова концерта»[66]. «После обеда Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом – трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант)»[67]. Ага, курил, пел куплеты (и еще романсы), и не только скрипка, но и фортепьяно. Ему 22 года. Каждый, кто прошел мучительные испытания музыкальной школой, знает, что это труд – и не пара-тройка часов.
Что еще умел? Рисовать, лепить, писать масляными красками – это все от Бога, не вымученное. «Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде… уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги»[68].
Танцы-шманцы? Кадриль, мазурка, контрданс, да что угодно. «Он… любил фехтованье, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах»[69]. Шахматы, бильярд, карты. В карты не влюблен, хотя мог сделать ставки, его так и не оконченная прозаическая вещь – «Штосс». В штосс как раз играли в «Маскараде»: «Я вижу, вы в пылу, готовы всё спустить. Что стоят ваши эполеты?» Шарады, маскарады, игры, остроты. «Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной “Книгой судеб” под мышкой: в этой книге должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице…»[70]
Все это – умения, затраченное время. В Московском университете изучал историю и словесность. В университетском пансионе, ему 16 лет, – «нравственные, математические и словесные науки, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами»[71]. В формулярном списке о службе и достоинстве поручика Лермонтова, в 26 лет, вопрос: «Какие науки знаете?» Ответ: «…математику, тригонометрию, алгебру, историю, географию, фортификацию, ситуацию, военное судопроизводство и Закон Божий знает»[72].
Чем можно заняться во время стычки с горцами? Рассуждать. 1840 г., ему 26 лет. «Они стояли вместе с Лермонтовым спорили о философии Канта, из них один был убит». Сразу вопрос: «Для чего здесь стремятся удержать тех, кто не от мира сего?»[73]
Философ? Русский Байрон? Не от мира сего? Лермонтов был искусная «военная машина». Гусар, сабли, шпоры, кивер, полное обмундирование. Он же – пехотный поручик, высланный на Кавказ за дуэль, вооружен и опасен. Вот задел кого-то на лестнице: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться», – и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью…»[74]
Исповедь Мартынова, того самого, – о Лермонтове, приятеле: «Ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади… Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей, потому что борьба на эспадронах всегда оживленнее, красивее и занимательнее неприметных для глаз эволюций рапиры»[75]. Эспадроны – это тупые сабли, на них учатся. Первая, еще не смертная, дуэль Лермонтова с французом – на рапирах, потом – выстрелами.
Искусство кавалериста? Этому нужно учиться. «Крепко сидел на лошади»! «Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь Парадёр считался одним из лучших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1500 рублей, что по тогдашнему времени составляло на ассигнации около 6000 рублей»[76]. По нынешним деньгам лошадка эта стоила больше 3,5–4 млн руб.
Войне учился сызмальства. «Когда Мишеньке стало около семи-восьми лет, то бабушка окружила его деревенскими мальчиками его возраста, одетыми в военное платье; с ними Мишенька и забавлялся, имея нечто вроде потешного полка, как у Петра Великого во времена его детства»[77]. В 25–26 лет Лермонтов – испытанный службист, с отличным военным образованием (Школа гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, поставщик гусар в гвардейские полки), получивший многие высочайшие благоволения в высочайших приказах (1835, 1836, 1839).
Никогда «не был замечен слабым в отправлении обязанностей службы». Представлен за бои в Кавказской войне к ордену Св. Станислава III степени, ордену Св. Владимира IV степени с бантом, к «золотой полусабле» (1841). Из наградных списков: «Несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием, и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы… Всюду поручик Лермантов, везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотверженность и распорядительность выше всякой похвалы. 12-го октября… пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля, и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков…»[78]
А искусство владеть и управлять людьми? В нем он только начинал упражняться. С 7 до 13 лет Лермонтов (Мишель, Мишенька и т. д.) стал крестным отцом 13 мальчиков, большей частью детей дворовых (Извлечения из метрической книги)[79]. Из формулярного списка 1841 г.: «За ним состоит Тверской губернии 150 и за бабкою в Пензенской губернии 500 душ крестьян»[80]. Напоминаю, что это только мужские души – умножьте на два. Леса, сады, пашни, тысячи десятин. А вот и продажа Лермонтовым и его бабушкой Е. А. Арсеньевой в 1839 г. села Дерново в Калужской губернии, «из дворовых людей и крестьян 168 душ, со всею к оным землею… лесом, прудом, рекою, мельницею, господским и крестьянским строением… за 84 000 ассигнациями…»[81] В нынешних деньгах – это больше 55 млн руб.
Помещик, гусар, а потом – по высылке – бесстрашный пехотный офицер, добросовестно тянущий лямку в армии. Гедонист, насмешник, участник сборищ и пирушек. Он же – по знатности – вхож в высший свет, модный поэт и, по общему признанию, наследник Пушкина, писатель в женских альбомах, всесторонне образованный в языках и искусствах. Человек то презрительный к другим, то прекраснодушный, с черными глазами, с живыми черными глазами, о них вспоминали все. И это он же, кто написал в своем последнем, 1841 году: «С тех пор как вечный судия мне дал всеведенье пророка…»
Какой сложносочиненный человек, в создание которого вложено несметное число труда и денег. Тот, кого уберегли от смерти в детстве – у него был личный врач. Даже в конце XIX века «из каждых 100 родившихся мальчиков только 70 доживали до одного года, 49 – до 20 лет»[82].
Кому он обязан этим трудом? Кому мы обязаны? «Мой родной внук Михайло Юрьевич Лермантов, которому по свойственным чувствам имею неограниченную любовь и привязанность, как единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения». Это из духовного завещания Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, на 4 года пережившей своего внука[83]. Есть «великие вдовы русской литературы», а это «великая бабушка». Именно ей он писал за три месяца до смерти, прощаясь, как обычно, в письме: «…Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук М. Лермонтов» (20 апреля 1841 г.)[84].
Бог не вознаградил. Бог дал смертную печаль. Никакой покорности – одна только казнь. Как сделать, чтобы мы любили так, как нас любят? Как, чтобы до нас дошло, до самого живота (так раньше называли жизнь), сколько чужих жизней затрачено на нас? Что весь смысл жизни наших старших может быть уничтожен нашим бесстрашием, нашей абсолютной уверенностью, что с нами ничего не будет, нашим бессмыслием? Как, в конце концов, уберечь себя, не жертвуя ни долгом, ни душой?
Кем бы мы ни были, мы – те, кто нас создал, мы – плоть от их плоти, мы – их жизни, их умения, мы – дар их волшебного искусства сохранить и научить дитя. Каждый человек бесценен, он выткан из ста тысяч умений и искусств, он научен думать, говорить, он чудо – дыхания, думания, он – человеческое дитя, на которое нельзя поднять руку.
В Тарханах небольшой дом, поместье на тысячу крепостных, окна, смотрящие на закат, домашняя церковь, полная скорби по ушедшей дочери, и тень женщины, всех пережившей, оставившей в земле своего невероятного внука. В окна пробивается заходящее солнце, пруды леденеют, и наши шаги почти не слышны, раз навстречу идет тишина.
Не был ни игроком, ни мотом, хотя деньги доставались легко, будто черпались из воздуха, и давали все возможности быть и в большом свете, и в бренных удовольствиях гусар и пехотинцев, когда дым коромыслом. Лермонтов в 26 лет? 245 рублей серебром жалованья пехотного подпоручика[86]. Это не жизнь, так – тягостное бытие, существование. Но у него есть секрет. «Нашей почтенной Елизавете Алексеевне сокрушенье – все думает, что Мишу женят, все ловят… Эта компания ловит или богатых, или чиновных, а Миша для них беден. Что такое 20 тысяч его доходу? Здесь толкуют: сто тысяч – мало, говорят, беден. А старуха сокрушается, боится большого света»[87]. Елизавета Алексеевна – это Арсеньева, «великая бабушка» русской литературы, души не чаявшая в единственном внуке, взявшая его от отца (мать умерла) на полный кошт и воспитание.
20 тысяч в год, если в серебре – это сегодня 45–50 млн руб., доход для абсолютного большинства недостижимый. Если в ассигнациях (бумажных рублях), то больше 10 млн руб. Тоже – мечта.
Где взять? Кем нужно быть? Ответ первый – владельцем душ, земель, поместья. «За ним состоит Тверской губернии 150 и за бабкою в Пензенской губернии 500 душ крестьян»[88]. Эти числа умножаем на два – имелись в виду только мужские души.
Ответ второй – быть внуком, счастьем всей жизни. «Арсеньева боготворила внука своего Лермонтова; бедная, она пережила всех своих, и один Мишель остался ей утешением и подпорою на старость; она жила им одним и для исполнения его прихотей»[89].
Выкормить образованного дворянина – это дорого. Она выкормила. Учитель английского – 3000 руб. в год[90]. Учиться в Московском университетском благородном пансионе – за полгода 325 руб.[91] Попробуйте пересчитать на нынешние рубли! А деньги на юные забавы? «Бабушка, вышли сто»! «Я на днях купил лошадь у генерала и прошу вас, если есть деньги, прислать мне 1580 рублей»[92].
«До смерти мне грустно, что ты нуждаешься в деньгах, я к тебе буду посылать всякие три месяца по две тысячи по пятьсот рублей, а всякой месяц хуже слишком по малу, а может иной месяц мундир надо сшить… береги свое здоровье, мой милой, ты здоров, весел, хорошо себя ведешь, и я счастлива и… забываю все горести и со слезами благодарю Бога, что он на старости послал в тебе мне утешения, лошадей тройку тебе купила и говорят, как птицы летят… домашних лошадей шесть, выбирай любых, пара темно-гнедых, пара светло-гнедых и пара серых…»[93]
Выбирай любых! Тройку тебе купила! Это страстная, бесконечная любовь, когда все совершишь, лишь бы накормить, утешить, умиротворить, дать веру, дать уверенность, дать радость. «…Посылаю теперь тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала к брату…, чтоб он тебе послал две тысячи рублей»[94].
Но что имела Елизавета Алексеевна? Что это за бабушка-глыба в Пензенской губернии? Доходы откуда?
В 1845 г., когда внука уже не было и перед тем как самой уйти, она составила новое завещание, в котором завещано брату «недвижимое имение, состоящее Пензенской губернии Чембарского уезда в селе… мужска пола шестьсот одна душа, с их женами, обоего пола детьми… с пашенною и не пашенною землею, с лесом, сенными покосы… Господский Дом со всеми службами…» Плюс 300 тыс. руб. ассигнациями (раздать по родным). Это и есть тот источник, из которого она кормила внука. Больше 1200 душ крепостных.
Как зарабатывала?[95] Первым делом хлеб, больше 3000 десятин пашни. Или в пересчете – более 3000 га. Из них минус крестьянские посевы, земли под пар, земли под овес, просо, гречиху, горох, чечевицу (трехпольное земледелие), значит, барской земли засевалось рожью не менее 500 десятин. По расчетам могло выйти дохода больше 17 000 руб.
Источник № 2 – овцы, руно, древнее искусство (больше 700 десятин пастбищ и сенокосов). В год – 500–800 руб. Источник № 3 – винокурение. Четвертый – денежный оброк с крепостных, тех, кто торговал на стороне. Таких было более десятка, с каждого от 500 до 1000 руб. И, наконец, источник № 5 – торговля крепостными + деньги от них за выкуп самих себя. За «женский пол», за каждую душу – от 50 до 500 руб., а за мужской (торговцы, желающие стать вольными) – до нескольких тысяч рублей. В целом 20 тыс. руб. в год внуку набирается.
Где бы взять такую бабушку? А если серьезно, известная легкость в деньгах у Лермонтова была. «Я редко встречал человека беспечнее его относительно материальной жизни, кассиром был его Андрей, действовавший совершенно бесконтрольно»[96]. Только в 1840 г., в 25 лет, будучи уже знаменитым, «он подрядился за деньги писать в журналах. Прежде все давал даром, но Елисавета Алекс[евна] уговорила его деньги взять, нынче очень год тяжел – ей половину доходу не получить»[97].
Что ж, денежную лямку не тянул, был накормлен с верхом, достаточно, чтобы быть «всякой день на балах и в милости у модных дам»[98]. А если бы денег было в обрез? Был бы он бережнее с самим собой? Был бы не так язвителен, не так остер, не так неосторожен в том, чтобы задеть другого смертельно?