Кто владеет словом? Авторское право и бесправие
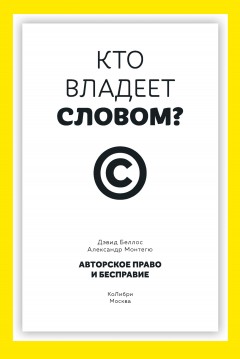
David Bellos, Alexandre Montagu
WHO OWNS THIS SENTENCE?
A History of Copyrights and Wrongs
Научный редактор: Христофор Космидис, историк
© David Bellos and Alexandre Montagu, 2024
© Терентьев В.Н., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
КоЛибри®
Живая, энергичная и очень своевременная книга.
The New Yorker
Удивительно энергичная книга Беллоса и Монтегю появилась как нельзя кстати. Она заставляет мыслить глубже, а не просто рассуждать о природе того, что мы сейчас называем контентом.
New York Times
Тщательно выполненное и увлекательное исследование; долгожданное и злободневное дополнение к пониманию вопроса.
Washington Post
В коротких, хлестких, остроумных главах юрист и литературовед рассказывают, как интеллектуальная собственность стала объектом охраны, кто от этого выиграл и кто проиграл.
New York Times Book Review
Как показывает эта вдумчивая книга, законы об авторском праве переписывались и пересматривались в соответствии с меняющимися потребностями. Авторы правы, что нам нужно «широкое обсуждение» этой темы.
Wall Street Journal
Удивительно доступное изложение всех поворотов – а их немало – в развитии этой идеи. Книгу стоит прочитать всем, кто интересуется историей, издательским делом или философией.
Washington Independent Review of Books
Завораживающе. Беллос и Монтегю пишут о своей теме с бесконечным удовольствием и снабжают свое игривое и ироничное повествование немалыми дозами яда.
The Telegraph
Проницательный анализ системы, которая защищает корпоративный статус-кво в ущерб независимому изобретательству.
Kirkus Reviews
О книге
Александр Монтегю, один из авторов этой книги, – юрист в сфере интеллектуальной собственности, первое образование получивший в области сравнительного литературоведения. Дэвид Беллос – профессор сравнительного литературоведения, переводчик и автор нескольких книг. Пять лет назад мы стали вместе изучать взаимоотношения авторского права и культуры, учить этому студентов – и учиться у них в ответ. Цель этой книги – продолжить наш курс и поделиться его наработками с другими.
Это не книга по юриспруденции, хотя нам хотелось бы, чтобы ее прочитали и юристы, и не практическое руководство по хитросплетениям современного законодательства об авторском праве. В ней рассказывается история простой, в сущности, идеи – что авторы имеют права на созданные ими произведения. Множество странных и удивительных сюжетных поворотов привели к тому, что эта идея стала определять и ограничивать огромное количество вещей, которые делают люди – но не во имя общего блага, а во благо меньшинства.
При написании этой работы мы использовали Primary Sources on Copyright (1450–1900) под редакцией Л. Бентли и М. Кречмера – www.copyrighthistory.org. Эта великолепная коллекция источников на разных языках, дополненных транскрипцией и комментариями, была профинансирована Исследовательским советом искусств и гуманитарных наук Великобритании (UK Arts and Humanities Research Council). Мы глубоко признательны редакторам проекта и всем исследователям, которые добавляли информацию и комментарии на этот ресурс. Источники перечислены в примечаниях с полным указанием авторства.
Д. Б.А. М.
1
Что такое авторское право
16 декабря 2021 года компания SONY Music Group объявила о приобретении прав на творчество 72-летнего автора и исполнителя песен Брюса Спрингстина. Газета New York Times сообщила, что стоимость покупки составила около 550 миллионов долларов[1].
Моцарт мог только мечтать о таком богатстве. Как и Рэй Чарльз[2].
Тема настоящей книги – это причина, по которой каталог песен и записей может быть продан по цене нескольких самолетов: авторское право.
Для покупателей творчества Спрингстина авторское право – это право на лицензионные отчисления за любое использование произведений певца (в виде нот, переводов, трансляций старых и потокового воспроизведения новых записей и т. д.) до самого конца XXI века. Поскольку Sony наверняка выложила меньше, чем рассчитывает получить обратно, рента, которую корпорация рассчитывает в течение столетия взять со слушателей Спрингстина, может исчисляться миллиардами долларов.
Однако для нас с вами авторское право означает, что большая часть современной культуры – не только Спрингстин или The Beatles, но и все фильмы, мультфильмы, романы, пьесы, картины, видеоигры, компьютерные программы, телефонные справочники и даже костюмы бананов, созданные ныне живущими творцами всех стран и народов, – не будут освобождены от лицензионных платежей и жестких ограничений на их использование до тех пор, пока наши внуки не выйдут на пенсию.
Законы, создающие возможность приватизировать и эксплуатировать всякое творчество на протяжении трех-четырех поколений, были введены сравнительно недавно и лишь в последние несколько десятилетий приобрели такой размах, срок действия и силу, что позволяют зарабатывать невообразимые богатства. Вот почему авторское право сейчас значит больше, чем когда-либо прежде, и почему нам необходимо понять, как оно вдруг стало играть такую большую роль в современном мире.
В этой книге рассказывается, где и как зародилась идея, как она прорастала, развивалась и разветвлялась на протяжении столетий, а затем за короткое время превратилась в самую большую денежную машину, какую только видел мир.
Но тогда никто этого не заметил. В былые времена изменения в авторском праве сопровождались резонансными публичными дискуссиями, в которых участвовали величайшие умы эпохи. В Англии, где вся эта история началась в XVII веке, в создании авторского права участвовали философ Джон Локк[3], писатели Даниэль Дефо и Александр Поуп, а позже – поэт Уильям Вордсворт, историк Томас Маколей[4] и сам Чарльз Диккенс. В XVIII веке французские интеллектуалы – драматург Бомарше[5], математик Кондорсе[6] и Дени Дидро, создатель первой универсальной энциклопедии, – публично отстаивали свою позицию по этому вопросу; многие великие писатели XIX века, в частности Оноре де Бальзак и Виктор Гюго, оставили значимый след в развитии авторского права. Но за последние 50 лет авторское право завоевало весь мир без какой-либо общественной дискуссии. Кто из современных творцов – и кто из потребителей их произведений – слышал о Женевской конвенции по охране интересов производителей фонограмм от их незаконного воспроизводства? О 107-й статье Кодекса Соединенных Штатов Америки[7], Соглашении TRIPS[8], Законе об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) или законе Сонни Боно[9]? Все эти акты, соглашения и законы сформировали стоимость прав на творчество Спрингстина и были приняты в 1971, 1976, 1994, 1996 и 1998 годах соответственно – уже после того, как выросший в простой американской семье Брюс Спрингстин начал играть свою музыку.
Эти американские законы распространились по всему миру посредством международных соглашений и кардинальным образом изменили объем прав граждан и привилегий корпораций, а также статус авторов, их заработок и границы творческой свободы. Почему же мы не услышали ни единого писка от философов, поэтов, музыкантов или творцов какой угодно другой области культуры, на которых распространились новые правила? Юридические рамки, в границах которых организуются и монетизируются изобретения и почти все формы творчества по всему миру, сегодня рассматриваются как технический нюанс, не подлежащий политической или социальной критике. Но еще не поздно задаться вопросом: а отвечает ли сложившаяся ситуация нашим интересам – интересам потребителей творчества во всех его формах?
Современное авторское право – вовсе не данность, а социальный конструкт. Каждый из шагов в его запутанной истории, в силу правового принципа stare decisis[10], был построен на предыдущем. Иными словами, рассказать историю развития авторского права – это единственный способ объяснить нынешнее состояние охраны и контроля творчества. Любопытно, что спустя столько времени и несмотря на появление множества новых способов распространения произведений, в языке авторского права по-прежнему можно найти те слова, что были написаны в самом начале его истории.
Авторское право, или право на копирование, начало свой путь в начале XVIII века в Лондоне: речь шла о предоставлении авторам книг и их правопреемникам краткосрочной монополии на печать и продажу их произведений. В последующие столетия монополия расширялась на все новые и новые виды произведений; затем снова и снова увеличивался срок предоставленных монополий; затем сфера действия авторского права охватила все больше и больше вторичных видов использования: сокращение, адаптация, исполнение, перевод и т. д. Каждый из этих шагов натыкался на возражения, но ни один философский, этический или практический аргумент против ползучего расширения авторского права так и не смог его одолеть. Значит ли это, что критики все это время были неправы? Значит ли это, что вне зависимости от достоинств и недостатков авторское право – неизбежное следствие социального, промышленного и технологического прогресса, побочный продукт модернизации?
Это вовсе не риторические вопросы, и ответ на каждый из них – нет. Во-первых, многие негативные последствия авторского права в наше время были предвидены критиками в XVIII веке. Их опасения подтвердились – но тогда их отмели в сторону. Во-вторых, авторское право, очевидно, сыграло немаловажную роль в формировании современного мира, особенно в последние полвека. Оно – не просто побочный эффект необратимого течения истории, а одна из сил, которая это течение направляет. У этой силы есть особенность, отличающая ее от других сил модернизации: она не может не порождать неравенство.
Веками велась ожесточенная борьба за более справедливое распределение земли. Целью революций провозглашалось перераспределение природных ресурсов и средств производства. Партии и политики призывали к более справедливому доступу к жилью, образованию и здравоохранению. Но никто никогда не задумывался о борьбе за более равное распределение авторских прав.
Потому что авторское право и родственные ему патенты, товарные знаки и право на публичность (в совокупности известные как «интеллектуальная собственность», или IP) дают создателю произведения, устройства, услуги или изображения исключительное право на ренту с него, известную под старинным названием «роялти». Разве можно распределить такую ренту более равномерно? Сама ее цель – создать неравенство между единичным творцом и многочисленным обществом, между «владельцами» и «пользователями» текстов, изображений, изобретений, имен и брендов – между правообладателями и всеми остальными.
Даже для самых ярых сторонников равенства это не казалось проблемой, когда от системы выигрывали люди вроде Диккенса или Гюго. Их было мало, они были великими, они (по большей части) сами были прогрессивных взглядов. Никто не возмущался доходами Теккерея[11] от «Ярмарки тщеславия» или даже целым состоянием, которое Пикассо сколотил на своем искусстве. Но сейчас все изменилось.
Большинство авторских прав, с которых можно получать доход, теперь принадлежат не людям искусства, а компаниям, вроде той, что купила каталог Спрингстина. Причем стоит заглянуть поглубже – и окажется, что они принадлежат гигантским корпорациям. Теперь об авторском праве судятся не творцы и «пираты», а одни корпорации с другими корпорациями – они борются за источник ренты. Язык этих юридических баталий остался таким же, как и 300 лет назад, но ставки изменились. Дорогостоящие судебные процессы теперь служат лишь для того, чтобы скорректировать баланс сил между финансовыми гигантами, десятилетиями наживавшимися на творчестве, которое они купили.
Ярким примером превращения авторского права в золотую жилу для корпораций стал грандиозный иск Oracle к Google, в котором Oracle требовала от Google заплатить за использование API[12] языка программирования Java в своей операционной системе Android. Изначально иск велся в рамках патентного права, но за десять с лишним лет превратился в дело об авторском праве, поскольку оно охраняется дольше, чем патенты. Но закон, выдержанный в старомодной терминологии «авторов» и «произведений», настолько плохо подходил для этого процесса, что окружные и федеральные суды от апелляции к апелляции выносили противоречивые и несовместимые решения, пока дело, уже стоившее десятков миллионов долларов судебных издержек, не докатилось до Верховного суда США. В свою очередь, он даже не вынес решения, могут ли API быть надлежащим объектом авторского права; он лишь постановил, что если да, то конкретные элементы Java, которые использовала Google, не нарушали прав владельца. Некоторые наблюдатели посчитали это дело выигрышным для общественного интереса, поскольку решение ограничило контроль правообладателя над вторичным использованием его собственности. Однако суд так и не дал ответа на вопрос, может ли язык принадлежать корпорации. Авторское право, несмотря на свои огромные масштабы и запутанность, не является устоявшимся законом, и история подсказывает нам, что этого нельзя допускать без широкого общественного обсуждения – иначе все окажется во владении кучки крупных корпораций.
В средневековой Европе все принадлежало Богу и, следовательно, находилось в распоряжении суверена, уполномоченного распределять Божьи творения, предоставляя привилегии на них своим вассалам. С течением веков религиозные устои феодальных монархий рушились. Место, неохотно освобождаемое Короной, заполнялось сначала правами баронов, затем простолюдинов и, в конце концов, правами граждан. За последние 50 лет историческая тенденция перехода к равенству в правах и собственности развернулась на 180 °. Самый очевидный пример этого поворота – то, как мы теперь относимся к произведениям искусства.
Изначально авторское право обещало авторам контроль над небольшим диапазоном произведений. Однако при переходе от аграрной экономики к индустриальной, а от нее – к информационной, стоимость нематериальных активов превысила стоимость земли, заводов и машин, как и других видов материальных благ. Баронами XXI века стала кучка корпораций, контролирующая бо́льшую часть интеллектуальной собственности. Сегодня шесть крупнейших корпораций мира – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta[13] и Disney, рыночная стоимость каждой из которых по оценкам превышает ВВП многих стран мира, – почти полностью состоят из интеллектуальной собственности: в виде контента вроде фильмов и песен (Disney, Amazon), в виде патентов (Apple и Microsoft) и в основном в виде компьютерного программного обеспечения (Alphabet, Meta). Интеллектуальная собственность – это феодальный надел наших дней.
Поэтому недавнее развитие авторского права нельзя рассматривать как часть исторического прогресса в увеличении личных свобод. Ближе к истине был бы как раз противоположный взгляд. Недаром изменения, внесенные в законы об авторском праве в конце XX века, были названы «новым огораживанием»[14] – в честь Актов об огораживании, передавшими за 300 лет почти всю общественную землю Англии в частные руки. Сегодняшние земли – это больше не зеленые поля и деревенские пруды, а потребляемые нами гуси – не из перьев, плоти и костей. Тем не менее мы, простолюдины, вынуждены платить скрытые налоги на потребляемые нами нематериальные блага. И горе тому, кто посягнет на обширные владения современных феодалов!
В этой книге рассказывается не только запутанная история того, как так получилось, но и какие опасности нас ждут в будущем. Беспокойство вызывает развитие искусственного интеллекта (ИИ): алгоритмы машинного обучения теперь позволяют компьютерам создавать музыку. Уже проводится международный конкурс по образцу «Евровидения», в котором участвуют песни, написанные и исполненные ИИ. Очень скоро – а может быть, уже сейчас! – большая часть музыки, звучащей в супермаркетах, фильмах и сериалах и, наконец, в ваших наушниках, будет создаваться не человеком, а машиной. Кому будут принадлежать эти мелодии? Пока что законы об авторском праве не дают ответа на этот вопрос, так же как они молчат о том, кому принадлежит текст, созданный сервисом машинного перевода в интернете. Владельцы авторских прав на генерирующий такую музыку и переводы компьютерный код пытались заявить авторские права на результаты его работы. В США владельцы системы захвата изображений проиграли в окружном суде иск против компании Disney[15], в то время как в Китае владельцы ИИ, который автоматически создает отчеты по рынку на английском языке, получили на них авторские права.
В ближайшем будущем ИИ сможет симулировать все, что сейчас творится только человеческим сознанием, и делать это он будет путем обработки уже существующих материалов, защищенных авторским правом. Исход судебных тяжб по таким делам окажет огромное влияние на финансовые и властные отношения во всем мире. Если горстке крупных IT-корпораций, владеющих авторскими правами на программы ИИ, будет разрешено владеть производимыми симуляциями, то все мы окажемся на веки вечные в их власти.
Экономисты, политические теоретики и историки почти не рассматривали роль авторского права в развитии неравенства. Хотя Карл Маркс работал в Британской библиотеке как раз в период активного обсуждения законов об авторском праве и патентах, в своей деконструкции господства капитала он даже не упоминает интеллектуальную собственность. Серьезной критикой авторского права слева никто не занимается: даже Тома Пикетти[16] в своем недавнем бестселлере «Капитал в XXI веке» (Le Capital au XXIesiècle) проигнорировал этот вопрос.
Ирония в том, что авторские права на книгу, проданную тиражом более двух миллионов экземпляров по всему миру, приносят Пикетти значительный доход в виде роялти, ведь большинство проданных экземпляров – это переводы. Получается, Пикетти получает прибыль не только от самого авторского права, но и от расширения сферы его действия на переводы, впервые появившееся в Западной Европе в 1886 году, в США – в 1891 году, в Великобритании – в 1911 году, а в России, Китае, Албании и многих других странах – в 1990-х годах. Лишь в XXI веке «Капитал в XXI веке» смог бы создать тот капитал, которым сейчас обладает Тома Пикетти.
Случай Пикетти, безусловно, исключительный. Подавляющее большинство писателей, композиторов, художников и программистов зарабатывают немного, а некоторые из них вообще не получают дохода от своей творческой деятельности. Эффекты авторского права не только отражают, но и способствуют явлению, которое Пикетти пытается проанализировать в своей книге: зияющему и постоянно увеличивающемуся разрыву между богатыми и бедными.
Когда авторское право только появилось, считалось, что оно справедливо уравновешивает власть состоятельных книгопечатников правами авторов, которые поставляли им «сырье». Чтобы понять, как оно в итоге превратилось в машину по усугублению неравенства, мы должны в первую очередь понять, как права авторов воспринимались в обществах далекого прошлого.
2
Авторство в древности
Авторское право не является основой всех прав, которыми сегодня обладают авторы на свои произведения. Все наоборот. Это древняя традиция прав авторов обусловила современное законодательство об авторских правах.
В IV веке до н. э. афинский философ Платон основал академию, в которой вел диалоги со своими учениками, передавая таким образом свою мудрость. Один из них – его звали Гермодор – вел подробные записи бесед учителя. Когда он вернулся в свой родной город Сиракузы на Сицилии, его записи были переписаны и затем опубликованы как книга за авторством Платона. Гермодор не был плагиатором, так как не выдавал книгу за свою работу; и он не был вором, поскольку согласно законам того времени он не украл ничего, что принадлежало бы Платону. Однако его учитель все равно возмутился и счел Гермодора презренным. Игнорируя устоявшееся правило, по которому авторы сами решали, когда публиковать их работы и публиковать ли вовсе, он нарушил представления о чести[17].
Право авторов решать, когда и как публиковать свои работы, лежит в основе многочисленных споров между авторами и издателями в древнем мире. Цицерон, например, жаловался своему другу Титу Помпонию Аттику, что одна из его работ была опубликована без его ведома; в том же духе ворчали Гален Пергамский[18], Диодор Сицилийский[19] и Квинтилиан[20][21]. В Античности люди не могли себе представить, что содержание литературных или философских произведений может быть чьей-то собственностью, но это не мешало им осуждать публикацию чужих сочинений без разрешения.
Сегодня законы об авторском праве включают в себя правило поведения, согласно которым авторы получают исключительное право публиковать свои произведения. Исходя из этого, некоторые утверждают, что авторское право само по себе настолько древнее, что является естественным правом, правом личности, но это означает поставить телегу впереди лошади. В древности права авторов не превращали их произведения в собственность, а потому ошибочны утверждения части современных ученых, что права интеллектуальной собственности существовали всегда[22]. Столь же ошибочным является представление, что интеллектуальная собственность была изобретена в Сибарисе[23] около 500 года до н. э., где, согласно гораздо более позднему источнику, повар, придумавший «любое необычное и превосходное блюдо» для ежегодного банкета, на котором разрешалось присутствовать женщинам, должен был весь следующий год «иметь право на всю прибыль, полученную от его изготовления, чтобы побудить других потрудиться и преуспеть в таких занятиях». Если присмотреться к источнику, то окажется, что это просто очень старая шутка, обыгрывающая упадок города-государства, погрязшего в чрезмерной роскоши (в конце концов, они были сибаритами!), который в итоге был стерт с лица земли соседями из Кротоны[24] в 510 году до н. э.[25].
На самом деле, нам не нужен закон об авторском праве, чтобы осудить неразрешенную автором публикацию. Прошло пять веков после того случая с Платоном, и «Гермодор» оставался распространенным синонимом «бездельника» или «хама» точно так же, как мы сегодня называем скрягу «Скруджем», а лицемера – «Тартюфом».
Право атрибуции – это еще одно право, закрепленное в системах авторского права англо-американского и европейского типа: никто не может утверждать, что написал произведение, кроме того лица, чьим именем оно подписано. Концепция такого права также возникла на пару тысяч лет раньше изобретения авторского права, и мы знаем об этом главным образом из-за гвалта, каждый раз поднимавшегося в случае его нарушения. Однако те обвинения, которые легче всего охватить термином «плагиат» (пусть он не совсем подходит), никогда не сводились только к нарушению права на публикацию произведения. В Древней Греции комедиографы регулярно обвиняли друг друга в плагиате, а в Древнем Риме авторы обсуждали, в какой момент адаптация превращается в воровство. Допустимо ли было взять несколько греческих пьес и превратить их в одну комедию на латыни? Или взять часть греческой драмы, уже переработанной римским автором, и использовать ее снова[26]? Решения, принятые по каждому случаю, не выносились судами и не обсуждались в адвокатских конторах. Это не была дискуссия о создании нового закона или спор, кому принадлежат деньги. Обсуждалось то, что считать надлежащим поведением. Конфликты из-за «кражи» идей не требуют для своего разрешения юридической надстройки в виде авторского права. С самого начала письменности эту проблему решали представления о чести – за исключением последних трех столетий.
Во многих американских университетах сейчас существуют правила, регулирующие работы студентов, также опираются на представления о чести, часто так и называемые: «Кодекс чести» (Honour Code). Хотя в справочниках для поступающих могут писать иное, правила написания курсовых работ вытекают не из законов об авторском праве, а из представлений о хорошем поведении, бывших в ходу еще в древности.
Такие классики, как Аристофан[27], Теренций[28] и Цицерон, как и многие другие авторы их времени, считали неупоминание использованных источников даже более постыдным, чем чрезмерное заимствование у других авторов. Для Плиния Старшего[29] veteres transcribere ad verbum neque nominatos («копирование древних [авторов] слово в слово и неуказание их имен») было сродни воровству. Такой проступок постепенно стал называться плагиатом – от греческого слова, означающего «похищение» (изначально чужого раба). Плагиат не стал преступлением благодаря закону об авторском праве: это слово не найти ни в утомительно длинном Законе об авторском праве США 1976 года, ни в еще более длинном Законе об авторском праве Великобритании 1988 года. Студент может сплагиатить идеи и доводы своего профессора, не нарушая никаких авторских прав. При этом существует множество способов нарушения соответствующего закона, вообще не связанных с плагиатом, – например, трансляция песни без лицензии или публичное чтение книги, которую вы загрузили на свою «читалку». Многие не различают границу между плагиатом и нарушением авторского права, однако важно понимать, что это исторически, формально и юридически совершенно разные категории неправомерного поведения.
Ни один писатель, композитор, художник или творец любого другого вида искусства не создает ничего полностью нового. Если бы произведение было новым целиком, то его было бы нельзя отнести ни к одной из существующих областей искусства – поэтому заявления о «беспрецедентности» новых работ следует воспринимать с известной долей скепсиса. Новые пьесы возникают из многовековой традиции написания пьес; симфонии – из истории музыкальной композиции; детективные истории и соборы, сонеты и рекламные джинглы[30] – все они заимствуют что-то, а часто и очень многое, у своих предшественников. А раз так, то все писатели и художники в той или иной степени являются плагиаторами – и многие из них с легкой душой принимают это как данность.
Во многих культурах граница между искусством и подражанием стерта. В эпоху раннего Нового времени в России «как оригинальные, так и неоригинальные изображения святых могли быть чудотворными, и порой копия почиталась больше оригинала <…> В большинстве случаев никто не заявлял авторских прав на истории, рассказанные в книгах»[31][32]. Джорджо Вазари[33], живший в XVI веке, считал подделку классических работ триумфом искусства – а в XIX и XX веке итальянские мастера массово производили древнеримский «антиквариат» на продажу британским туристам и американским коллекционерам и считали себя художниками, а не ворами[34] (а сам древнеримский «антиквариат» зачастую копировал старые греческие образцы). Шекспир брал сюжеты и персонажей из написанных задолго до него хроник, а форму сонета он заимствовал у итальянских поэтов предыдущих столетий. Подражание было не просто методом, но критерием художественной ценности с самого зарождения литературы на Западе и вплоть до современности. В XVI и XVII веках общепринятое представление о наиболее возвышенных способах написания поэзии сложилось на основе переводов древнеримского поэта Лонгина[35], призывавшего в своем трактате «О возвышенном» к «достойному подражанию великим поэтам и прозаикам прошлого»: «От могучего гения великих писателей древности в души их соперников, как от источника вдохновения, проникает поток, который дышит на них до тех пор, пока… они не разделяют возвышенный энтузиазм других <…> То, о чем я говорю, не является плагиатом, но напоминает процесс копирования с прекрасных форм, статуй или произведений искусного труда <…> Если мы сосредоточим взгляд соперничества на этих высоких образцах, они станут для нас подобны маякам, ведущим нас, и, возможно, возвысят наши души до полноты того величия, которое мы себе представляем»[36][37].
В Китае подражание древним было основой поэзии, философии, истории и изобразительного искусства, из-за чего существовало «общее отношение терпимости, проявленное со стороны великих китайских художников к подделке их произведений», а в литературе «цитирование классиков было самим методом универсальной речи»[38].
Но даже в этих «культурах подражания» были ограничения на то, что можно было использовать, заимствовать, перерабатывать или имитировать, а также на способы, которыми классический материал можно было достойно адаптировать или использовать по-новому. Выдача своей работы за работу другого человека – это подделка и обман, но при этом подделка не всегда была преступлением. Другое дело – выдача работы другого человека за свою в научной деятельности и студенческих работах, что наиболее очевидно, но также, с древнейших времен, в произведениях искусства.
«Энеида», эпическое повествование Вергилия о легендарном происхождении Рима (написанное в 29–19 гг. до н. э.), транспонирует и воспроизводит значительную часть материала из греческих источников – в первую очередь, самого героя Энея, который присутствовал еще в «Илиаде» Гомера. Вергилий подвергался критике за то, что он копировал речевые обороты и целые сюжетные линии из греческой литературы. Впрочем, «охотники за плагиатом» вскоре сами стали объектами критики. Апологеты поэта утверждали, что вечная заслуга Вергилия в том, что он чувствовал себя как дома в греческой культуре и участвовал в благородном состязании со своими авторитетными предшественниками, а значит, говорить о плагиате в «Энеиде» было либо плодом невежества, либо злой воли. Плиний Старший поставил точку в дискуссии, заявив, что соревноваться с мыслителями и поэтами прошлого – это славное дело[39].
Однако победа искусства подражания в этом знаменитом случае не решила вопроса, где же все-таки проходит граница между «новым» и «старым». Гораций[40] предупредил друга не читать слишком много, чтобы не оказаться вороной, украшенной чужими перьями, но Овидий[41] и Катулл жаловались, что они не могут ничего написать, не направившись в свои библиотеки за вдохновением и материалом. Неопределенность в этом вопросе остается по сей день: Джонатан Летем[42] с гордостью провозгласил свою зависимость от других, написав великолепное эссе, в основном состоящее из предложений, скопированных из других источников[43], а другая писательница подала в суд на компанию Стивена Спилберга DreamWorks за то, что та взяла сюжет фильма «Амистад» (Amistad, 1997) из ее произведения (несмотря на то, что исторические события 1839 года, изображенные в нем, были впервые выдуманы Германом Мелвиллом[44] в «Бенито Серено» (Benito Cereno) в 1855 году). Урегулирование дела почти могло быть из-под пера Сенеки[45] или Плиния: «После того, как мои юристы имели возможность ознакомиться с файлами DreamWorks и другими доказательствами, мы пришли к выводу, что ни Стивен Спилберг, ни DreamWorks не сделали ничего противозаконного, и я поручил своим юристам завершить это дело своевременно и полюбовно. Я думаю, что “Amistad” – это великолепная работа, и я аплодирую г-ну Спилбергу за то, что у него хватило смелости сделать ее»[46]. Иными словами: Спилберг – достойный человек, и я сохраню свою честь, признав, что это так.
Представления о чести, регулировавшие распространение идей и произведений в Античности, как показывает заявление DreamWorks, не исчезли – на них просто наложилась правовая структура, которая уподобляет имуществу некоторые (не все) аспекты творческих произведений. Сама идея, что такие нематериальные, неосязаемые, абстрактные вещи – поэмы, пьесы и романы – могут быть приравнены к товарам, не возникла сразу, и с самого своего появления она горячо оспаривалась мыслителями и государственными деятелями самых разных направлений.
«Одно и то же чувство или учение могут в одно и то же время разделять все люди», – писал Уильям Уорбертон[47] в XVIII веке, критикуя зарождающуюся идею литературной собственности. «С таким же успехом можно было бы вознамериться лишить других возможности наслаждаться освежающим бризом»[48]. Эту метафору Уорбертона несколько десятилетий спустя перенял историк Томас Бабингтон Маколей: «Как только содержащиеся в книгах идеи оказываются придуманы, они становятся столь же доступными, как солнечный свет или воздух»[49]. Судья Верховного суда США Луис Брандейс[50] вновь выразил эту мысль в 1918 году: «Знания, установленные истины, концепции и идеи становятся, после добровольного сообщения другим, такими же свободными, как и воздух для общего пользования»[51]. Меморандум об авторском праве, подготовленный для законодателей, обсуждавших российский закон о цензуре 1828 года, трактовал факт публикации как «дар автора на благо общества, которому он обязан своим образованием и гражданством»; как и Джонатан Летем в конце своего полного плагиата эссе о плагиате: «Не пиратьте мои издания – лучше ограбьте мое видение. Название игры – “Отдай все”. Вы, читатель, можете читать мои истории. Они никогда не были моими изначально, но я дал их вам. Если у вас есть желание их забрать, возьмите их с моим благословением»[52].
Эти аргументы ударяют в самое уязвимое место авторского права. Все, что публикуется, становится публичной, общественной собственностью самым очевидным и необратимым образом – однако авторское право снова ее приватизирует. Что же привело к возникновению и институционализации такой парадоксальной идеи?
3
Патенты и привилегии в Италии эпохи Ренессанса
Интеллектуальная собственность, термин, впервые возникший во французском языке в конце XVIII века, стала всеобъемлющим обозначением цепочки пересекающихся правил, которые касаются торговых секретов, дизайна, публичности и конфиденциальности, а также основополагающих понятий авторских прав и патентов. Старейшими из них, если не считать соглашения об использовании знаков и символов торговцами со времен Средневековья, являются не авторские права, а патенты. Однако, поскольку первые важные патенты касались использования печатного станка, две основные области интеллектуальной собственности – права на созданные произведения и права на новые изобретения – имеют общую раннюю историю.
Патенты зародились не как права собственности, а как привилегии. Это важное различие: привилегия предоставляется патроном, тогда как собственность устанавливается законом. Однако все интеллектуальные собственности в современном мире имеют одну общую черту с привилегиями: в отличие от материальной собственности, они действительны в течение ограниченного времени и должны когда-нибудь истечь.
«Патент» происходит от средневекового латинского выражения litterae patentes, что означает «письма, лежащие открытыми» – лежащие открытыми, чтобы их могли прочитать все, не нарушая печати короля или другой облеченной властью фигуры. Как и litterae patentes, современные патенты – это публичные документы, предоставляющие предъявителю привилегию определенного рода. В прошлом патентное письмо могло давать право владеть имением, торговать или вести какую-либо деятельность. В настоящее время патенты, которые открыты для публичного ознакомления в библиотеках и онлайн-поисковых инструментах патентных бюро, дают владельцу контроль над изобретением или устройством. Патенты, древние и современные, всегда называют свой объект и указывают объем привилегии в годах и штат или юрисдикцию, в которой они действительны, – поскольку, несмотря на существование Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), патенты остаются привилегиями, ограниченными границами государств, в которых они зарегистрированы (и государств, заключивших с первым соответствующие договоры). Если ваше изобретение копирует лаборатория, находящаяся в Иране, а у вас нет на него иранского патента, то никаким нарушением это не считается.
Патенты не являются чем-то тайным. Несмотря на то, что они являются публичными фактами, они могут быть предоставлены держателям, которые не желают их эксплуатировать – чтобы на время действия привилегии «сесть» на них и не допускать подобные устройства на рынок. Напротив, коммерческие тайны, такие как химическая формула, делающая напиток Coca-Cola кока-колой, подлежат защите только при постоянном коммерческом использовании. Хотя изобретатели и корпорации иногда выбирают одно, а иногда другое как лучший способ сохранить монополию на производимую ими продукцию, патенты и коммерческие секреты теоретически несовместимы. Патенты оправданы общественными интересами, поскольку они делают знание о каком-то ценном (или бесполезном) изобретении доступным для всех через архив патентного бюро. Коммерческие тайны служат исключительно частным интересам. Однако их влияние на простых людей в целом одинаково: вы одинаково несвободны производить собственную Coca-Cola и создавать устройство, работающее по патентам Apple.
Привилегии, предоставляемые патентными грамотами, возникли в конце Средневековья в Светлейшей Республике Венеция, активно торговавшей с портами Ближнего Востока. Венецианские купцы отправлялись в Смирну, Тир и Александрию, чтобы купить специи, попавшие туда из неизвестных восточных земель, и изысканные изделия из тканого шелка, кованого металла и цветного стекла. Венеция разбогатела как транзитный узел для товаров, которые не могли быть сделаны в Европе, но вскоре стала еще богаче, научившись их производить самостоятельно. Впрочем, самым долговечным из того, что Венеция привезла на Запад с базаров Каира, Дамаска и Алеппо, была восточная практика утверждения монополий через предоставление торговых привилегий[53].
Светлейшая Республика пригласила турецких и арабских мастеров, чтобы они поселились в Венеции и научили венецианцев делать предметы роскоши, но эти мигранты хотели чего-то взамен, чего-то знакомого им из мира: монополии на их ремесла. Такая защита компенсировала бы мигрантам-ремесленникам жизнь среди неверных, а также гарантировала бы доход от применения их навыков. Ранние венецианские привилегии были ограничены по времени семью годами, потому что тогда это была стандартная продолжительность времени обучения сложному ремеслу. То, что и сегодня многие ограничения авторского права кратны семи годам, выдает исторические корни современного авторского права: в 1710 году первый закон об авторском праве Великобритании позволил существующим произведениям быть защищенными в течение 21 года, а новым – в течение 14 лет, с возможностью продления еще на 14 лет; срок действия авторского права в США в разные эпохи составлял 14, 28, 42 и 56 лет, а теперь – 70 лет после смерти автора. Кратность этих чисел семи – долгосрочное наследие первых венецианских патентов, установленных на срок, требовавшийся местным подмастерьям, чтобы стать конкурентами своих учителей.
Венеция быстро стала знаменита как место производства роскошных тканей и цветного стекла (его все еще делают на острове Мурано). Спустя несколько десятилетий после того, как впервые были предоставлены права на монополию иностранным мастерам, город включил эту практику в свои законы.
«19 марта 1474 г.
Люди, обладающие острейшими умами, живущие в городе и приезжающие из самых разных мест, привлеченные его величием и великодушием, способны придумывать всевозможные оригинальные приспособления. Если бы было установлено законом, что сделанные ими работы и приспособления, не могут быть скопированы и изготовлены другими, что лишило бы их чести, то люди такого рода напрягали бы свои умы, изобретали и изготавливали вещи, которые бы принесли немалую пользу и выгоду для нашего Государства. Посему было принято решение, что… любой человек в этом городе, который придумает какие-либо новые и оригинальные приспособления, не сделанные до сих пор в нашем Доминионе, должен… уведомить об этом Provveditori di Comun, поскольку на срок десяти лет другим людям на любой территории запрещено делать приспособление в форме и подобии этого без согласия и лицензии автора. И если… кто-то все же сделает такое приспособление, вышеупомянутый автор и изобретатель будет иметь возможность… заставить вышеупомянутого нарушителя заплатить ему сумму в сто дукатов и немедленно уничтожить приспособление. Но наше Правительство будет свободно… брать и использовать для своих нужд любое из вышеупомянутых приспособлений и инструментов…»[54]
Венецианский статут выглядит даже слишком похоже на современные иммиграционные законы, призванные привлекать в страну самые квалифицированные кадры. Знакомы нам и другие формулировки: поощрять acutissimi ingegni, apti ad excogitar et trouar varii ingegnosi artifice – «самых проницательных и изобретательных [из людей], способных придумывать и находить различные изобретательные приспособления – напрягать свой ум, изобретать и создавать вещи, которые принесли бы немалую пользу и выгоду для нашего Государства». Статут также предусматривает знакомое нам принудительное отчуждение собственности в форме принудительного выкупа: «Наше Правительство будет свободно… брать и использовать для своих нужд любое из вышеупомянутых приспособлений и инструментов». Сегодня, в случае войны или других чрезвычайных ситуаций (например, пандемии), правительства также могут изымать патенты и предоставлять их для общественного пользования.
Этот статут вступил в силу всего через несколько лет после того, как была предоставлена привилегия для новой удивительной технологии, пришедшей на этот раз не с Востока, а с Севера. В 1458 году Иоганн Гутенберг изобрел способ печатания книг подвижными свинцовыми литерами. Десять лет спустя один из его бывших учеников, Иоганн фон Шпейер, уже ставший мастером этого ремесла, перебрался через Альпы и поселился в Венеции – тогда уже знаменитой своими диковинными товарами. Его встретили с распростертыми объятиями.
«18 сентября 1469 г.
С тех пор, как искусство книгопечатания было введено в наше славное государство, оно становилось с каждым днем все более популярным и распространенным благодаря усилиям, исследованиям и изобретательности мастера Иоганна фон Шпейера, выбравшего наш город среди всех прочих… [Наше государство] обогатится… трудолюбием и силой духа этого человека. Поскольку такое нововведение… должно поддерживаться и лелеяться всеми нашими силами и благоволением и [поскольку] вышеназванный мастер Иоганн, страдающий от больших расходов на свое хозяйство и заработную плату своих мастеров, должен быть обеспечен средствами, чтобы он мог продолжать в лучшем духе и считал свое искусство печатания чем-то, что следует расширить, а не чем-то, что следует забросить… лорды настоящего Совета… постановили, что в течение следующих пяти лет никто не должен иметь желания, возможности, силы или дерзости практиковать указанное искусство»[55].
Город вскоре стал одним из главных центров производства книг и домом лучших типографов, литейщиков, печатников и книжных специалистов – Венеция навсегда вошла в историю печати. Многие шрифты, используемые сегодня, включая курсив и формат энхиридиона, предшественника сегодняшнего справочника, были разработаны учениками Иоганна фон Шпейера и их преемниками.
Слава и репутация Светлейшей Республики, безусловно, возросли благодаря ее роли в развитии искусства печати, но привилегия, предоставленная ею Иоганну фон Шпейеру, не помешала распространению печатного станка в других городах. Он появился в Париже в 1470 году, в Валенсии в 1473-м, в Барселоне в 1475-м и в Лондоне в 1476-м, а вскоре и в каждом европейском городе, большом и маленьком. Вместе со станком распространились и меры, принятые в Венеции для защиты и поощрения «светлых умов», знавших, как с ним работать. Пришедшие позже идеи о защите книготорговли напрямую вытекают из изобретенной в Венеции в XV веке схемы, столь великодушно настроенной по отношению к приезжающим в город светлым умам.
Созданные по образцу венецианского права привилегии предоставлялись книгопечатникам в Германии с 1479 года, в Португалии с 1502-го, в Испании с 1506-го, во Франции с 1515-го и в Англии с 1518-го. Чем больше такие гранты временных монополий распространялись по Европе, тем более конкретными они становились. Если Шпейер получил исключительное право на эксплуатацию печатного станка в принципе, то более поздние гранты в других городах давали право печатать не любую книгу, а определенные виды книг – например, по праву, медицине или теологии. Вскоре привилегии стали предоставляться не для категорий, а для отдельных произведений – и они предоставлялись не авторам, а печатникам, которые могли превратить рукопись в книгу[56]. Современное авторское право, пусть и до его появления еще было несколько веков, уходит корнями в эти привилегии печати раннего Нового времени.
С середины XVI века было почти невозможно опубликовать что-либо длиннее песенного листа, не получив предварительно привилегию от герцога, епископа или другой гражданской или церковной власти. Система, созданная в целях щедрого поощрения развития искусства печати, превратилась в эффективное средство контроля за тем, как оно использовалось.
Вскоре эта система, хорошо работавшая в книгопечатании, была расширена для привлечения иммигрантов-ремесленников в других областях: например, новые способы ткачества и стеклоделия. Английские монархи, в частности, видели в системе привилегий мощный источник нового дохода. С конца 1400-х до 1600-х годов патентные грамоты выдавались по любому поводу за плату, уплаченную авансом или в рассрочку, для самых разных ремесел и навыков, далеко выходящих за рамки тех, что были недавно изобретены или привезены в Англию странствующими мастерами. Елизавета I превзошла в этом своих предшественников, выдавая привилегии на торговлю множеством предметов первой необходимости. Когда Шекспир ставил «Все хорошо, что хорошо кончается» в лондонском театре «Глобус», «добрая королева Бесс» сгребала деньги за патенты на изюм, железо, порох, карты, бычьи голени, китовый жир, анис, уксус, морской уголь[57], сталь, щетки, горшки, селитру, свинец, жир из ворвани и многие другие повседневные товары той эпохи[58].
Широкое использование королевских привилегий для извлечения ренты серьезно ограничивало экономическую жизнь общества и вызывало большой гнев среди торговцев и предпринимателей. Им становилось все труднее начинать дело, не натыкаясь на держателя привилегий. Борьба против королевских привилегий (и против сборов, выплачиваемых монарху за их получение, называемых роялти) велась в парламенте и за его пределами, что в итоге полностью перевернуло законодательство.
Статут о монополиях 1624 года одним махом отменил все монополии. Это решение имело эпохальное значение для Англии. Позволив возникнуть более свободной форме торговле, Статут в конечном счете превратил страну в коммерческую столицу Европы и мира. Однако, как это ни парадоксально, он не отменил патенты, изначальную форму защиты монополий. В одном из разделов закона говорилось, что его положения «не распространяются на любые патентные письма и гранты на привилегии сроком до 14 лет, выданные ранее на исключительную разработку нового производства в этом Королевстве первым и истинным изобретателям таких производств, которыми другие во время выдачи таких патентов и грантов не пользовались, с тем чтобы они не противоречили закону, или не наносили вреда государству путем повышения цен на товары внутри страны или ущерба торговле, или в целом не создавали неудобств».
Эти старые слова – первоисточник идеи, что изобретения («новые производства») могут оправдывать выдачу привилегии (патента) «первому и истинному изобретателю» при условии, что изобретение «не противоречит закону» или не вредит государству. Эти слова остаются практически неизменными в современном британском и американском патентном праве. Гораздо менее очевидна их связь с современным авторским правом.
«Компания книготорговцев» (Stationers’ Company[59]) имела привилегию предоставлять права на отдельные книги по королевскому Патентному письму, а потому Статут 1624 года не затронул издательские монополии. Тем не менее в нем таилась игра слов. Поскольку книги были изготовленными предметами, и каждая книга отличалась от всех, что были до нее, то любая публикация могла быть названа новым производством, тем самым оправдывая привилегию, которой уже пользовался ее издатель. Но нужды в такой игре слов не было, и это устраивало обе стороны. Печатники были рады сохранить свои вечные книжные монополии, а государство было счастливо позволять им контролировать печатную продукцию от имени короны.
Авторское право родилось в рамках борьбы за контроль над печатным словом, но в итоге преобразилось в инструмент контроля над почти всем остальным.
4
Авторство и ответственность
Весной 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил в интервью, что Трамп «собирается владеть» выходом страны из карантина[60]. Хотя Кушнер, конечно, не знал об этом, его использование глагола «владеть» (own) было бы столь же привычным в Англии XVII века, как и в Древнем Риме. Кушнер имел в виду «приписать себе» не в имущественном, а в моральном смысле с неизбежным следствием в виде «взять ответственность за». Владеть имуществом – это не просто иметь на него право собственности, но и отвечать за него. Вот почему именно домовладельцы, а не арендаторы, оформляют страховку на дом.
С момента изобретения книгопечатания и до конца XVIII века книги рассматривались как мощный инструмент распространения новых идей. Некоторые из этих идей были хорошими, другие – не особо. Власти того времени – в основном церковь и Корона – считали своим долгом поощрять хорошее и подавлять плохое. Система привилегий позволяла им делать это разными способами. В королевской Франции ни одна книга не могла быть издана законно без «одобрения и привилегии короля». В Англии контроль осуществлялся через гильдию печатников, Stationers’ Company. Никто кроме членов гильдии не имел права печатать книги в Лондоне, и ни один член гильдии не имел права печатать книги, не одобренные привилегией. Гильдия вела реестр, в котором записывалось, что будет напечатано и кем, и поэтому если бы в печать вышла какая-то неавторизованная книга, то сразу стало бы ясно, кто за это ответит. Эти меры пытались решить проблему, не решенную до сих пор: как мы знаем, сегодня распространение фейковых новостей, ложных слухов и сумасшедших идей может привести к беспорядкам даже в самых надежных демократиях[61]. Как безошибочно отделить хорошие книги от плохих постов – это проблема, которую ни один закон до конца не решил.
Закон о лицензировании печати (Licensing of the Press Act) 1662 года, подтвердивший монополию книготорговцев на печатание книг, позволял их членам владеть всеми правами на зарегистрированные ими книги, но его главной целью было заставить членов гильдии печатников выполнять функции королевских цензоров, о чем ясно говорится в названии закона: «Закон о предотвращении злоупотреблений при печатании подстрекательских, изменнических и нелицензированных книг и брошюр, а также о регулировании книгопечатания и печатных станков». За публикацию текстов с неприятным для церкви или Короны содержанием следовало подчас жесткое наказание. В 1634 году пуританский полемист Уильям Принн[62] был приговорен к пожизненному заключению, огромному штрафу и отрезанию ушей за те предложения в «Биче игрока» (Histriomastix), которые сочли скрытым оскорблением королевы Генриетты Марии[63]. Он не владел текстом в современном смысле слова – им владел книгопечатник, но он, несомненно, владел им в другом, более глубоком смысле, в том, в котором его использовал зять Трампа.
Статус привилегий зависит от престижа покровителя, который их предоставляет. Таким образом, судьба системы привилегий неразрывно связана с переменами во власти и положением покровителей. За прошедшие столетия прелаты и герцоги потеряли свой авторитет и престиж, но само покровительство – или патронаж – не исчезло, а стало главной чертой культуры наших дней. Значительная часть современной науки финансируется при покровительстве национальных институтов и исследовательских советов, и многие писатели находят прибыльные позиции в университетских кампусах. Творческие начинания поддерживаются премиями, грантами и стипендиями, которые предлагаются филантропами, благотворительными учреждениями, национальными и международными схемами финансирования. Почему эти проявления патронажа еще не отвергли как давно устаревшую форму социальной организации, пришедшую к нам из века королей и епископов? Потому что современные покровители – это университеты, экспертные группы и достойные миллиардеры, которые сейчас пользуются легитимностью и престижем – и поэтому могут предоставлять знаки уважения вместе с выделяемыми ими средствами.
В эпоху раннего Нового времени сопротивление печатным привилегиям шло рука об руку с ростом сомнений в легитимности королевской и церковной власти. Ослабление феодальных монархий и растущая секуляризация[64] европейских обществ в XVII и XVIII веках были главной причиной возникновения новых идей, как книгопечатание может контролироваться.
Мишель Фуко[65] однажды утверждал, что книги действительно начали иметь авторов только тогда, когда авторы стали подвергаться наказанию. Исторически, утверждал он, «письмо было по сути актом… жестом, чреватым рисками, прежде чем стать товаром, попавшим в круговорот собственности»[66]. Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», понял бы, что имел в виду Фуко. Он был «подвергнут наказанию» в 1703 году: его посадили к позорному столбу на три дня за совершение «подстрекательского пасквиля»[67] в сатирическом памфлете под названием «Простейший способ разделаться с инакомыслящими» (The Shortest Way with the Dissenters, 1702), а затем заключили в тюрьму. После освобождения он написал предложение о новом законе о печати, которое предвосхитило саму идею Фуко, но наоборот: «Если автор не имеет права на книгу после того, как он ее создал, и эта выгода не принадлежит ему… было бы излишне сурово, если бы закон пытался наказать автора за нее»[68].
На основе мучительно приобретенного опыта знаменитый писатель пишет: «любой, кто владел произведением в том смысле, что может быть подвергнут наказанию за то, что оно не соответствовало правящему консенсусу, должен был по праву владеть им и в плане извлечения выгоды».
Однако баланс прав и обязанностей, к которому призывал Дефо и который вроде как соответствует естественной справедливости, в современности был отброшен социальными сетями. Например, лицензия конечного пользователя[69], которую вы принимаете при регистрации в Facebook[70], предоставляет компании множество прав на использование ваших данных и постов, но оставляет авторские права за вами. «Вы (пользователь) предоставляете нам (компании) неисключительную, передаваемую, сублицензируемую, безвозмездную и всемирную лицензию на размещение, использование, распространение, изменение, запуск, копирование, публичное исполнение или показ, перевод и создание производных работ вашего контента», – гласит текущая формулировка, при этом «вы владеете правами интеллектуальной собственности (такими как авторские права или товарные знаки) на любой такой контент, который вы создаете и которым делитесь[71]. Таким нехитрым образом Facebook имеет право делать с вашим постом все, что захочет, но он защищен от претензий о нарушении авторских прав, возникающих из-за пользовательских постов, благодаря законам конца XX века, предоставляющим соответствующую защиту. Это означает, что вы отказываетесь от всех вторичных и монетизируемых видов использования материала, который вы публикуете, но именно вы, а не Facebook, должны за него отвечать. Это похоже на шутку, но она не должна нас смешить.
В конце XVII века интеллектуальная собственность, как сказал бы Фуко, «попала в кругооборот собственности», возникший, как мы можем сейчас увидеть, из игры с двойным значением глагола «владеть».
И это был не последний случай игры слов в истории авторского права.
5
Книги до авторского права
Торговали книгами по крайней мере со времен Древней Греции. До последних этапов Римской империи в IV веке их писали на рулонах папируса и многократно копировали грамотные рабы в специальных мастерских, которые называли скрипториями. Свитки принадлежали владельцам рабов, но их содержание не принадлежало никому. Писатели же продавали свои рукописи скрипториям для копирования, и не было ничего необычного в том, что за это они получали солидные гонорары, хотя в Риме, как и в Древнем Китае, работа пером (или, скорее, стилусом или кистью) не считалась почетной профессией. Менее известные писатели часто платили скрипториям за изготовление копий, так же как многие современные авторы платят издательским фирмам, чтобы их работы вообще были напечатаны. Поэтому было бы неверно сказать, что книжный бизнес возник только после изобретения книгопечатания – и в Античности, и в Средних веках, будучи очень дорогими вещами, известные произведения все равно достигали всех уголков мира и на Западе, и на Востоке. Но при этом их можно было встретить только в домах богатых людей, а в более поздние времена – в монастырях и дворцах епископов и королевских семей.
Тот формат книги, который нам знаком, называется кодексом – текст написан на листах, скрепленных вместе таким образом, что их можно перелистывать. Ранняя христианская церковь начала использовать формат для своих текстов, и с V века кодекс быстро вытеснил свиток из Европы. Переписывание кодекса столь же трудоемко, как и переписывание свитка, но при этом большую часть требуемой работы бесплатно выполняли христианские монахи и монахини. Впрочем, скопированные таким образом книги оставались драгоценностью. Книги принадлежали тому, кто их скопировал, а эти владельцы могли свободно давать их взаймы и разрешать делать другие копии без ссылки на какого-либо предыдущего правообладателя.
Печать – одно из Четырех великих китайских изобретений. Она появилась во времена династии Тан[72] в VIII веке и делалась методом ксилографии. Мастер вырезал на деревянной доске зеркальное отражение фрагмента текста, подготовленного до этого писцом на бумаге (еще одном китайском изобретении)[73]. На каждом получившемся деревянном блоке помещалась одна страница текста, а количество слов на нем зависело от размера бумаги и символов. Блоки могли пригодиться всего один раз, а могли применяться на протяжении многих лет (а то и веков) для печати сотен и тысяч копий. Они позволяли коллекционерам книг (аристократам, ученым, монахам) собирать гигантские библиотеки неизменяемого текста, что было очень важно в китайской культуре, основанной на подражании великим и продолжении их традиции. Неизменяемого – потому что блок нельзя было разобрать, а потому вырезанные на них иероглифы нельзя было пересобрать в другом порядке и применить для печати другого произведения. Поэтому в Китае не возникали вопросы, кому принадлежало литературное, философское или научное произведение, ведь их копии мог печатать только владелец оригинального деревянного блока.
На Западе печать делалась совершенно иным способом, что сделало вопрос владения и контроля гораздо более сложным. Устройство, изобретенное Гутенбергом в Майнце в 1458 году, представляло собой переделанный винный пресс, в котором винтовой механизм оказывал мягкое давление на лист бумаги, положенный на покрытую чернилами поверхность. Эта поверхность была не резным деревянным блоком, а подносом, плотно набитым многоразовыми металлическими деталями, каждая из которых была отлита в форме зеркального отображения буквы алфавита (или пустоты, или знака препинания). Они изготавливались из нового сплава свинца и меди, достаточно мягкого, чтобы сделать возможным многократное литье, и достаточно твердого, чтобы выдерживать 2000–3000 отпечатков. Фактически, реальным ограничением тиража был не износ получившегося шрифта, а ослабевающее сопротивление деревянной рамы, в которую был установлен поднос. Когда рама начинала изгибаться, отдельные буквы в композиции начинали смещаться и наклоняться, и в итоге смешивались друг с другом. Если вы наткнетесь на книгу, напечатанную ранее 1830-х годов, и увидите, что нижняя строка на странице устремлена вниз в угол, знайте, что ваша книга была выпущена на последнем издыхании печатного станка.
Печать с помощью подвижных и многоразовых свинцовых шрифтов – эталон современного промышленного производства. Несмотря на высокие затраты на первоначальную настройку, предельная себестоимость каждого произведенного изделия стремится к нулю, пусть и не достигает его. Один набор выдерживал печать около 3000 экземпляров, так что основным расходом на печать книги, помимо оборудования и бумаги, была зарплата наборщиков. На такой технологической основе зародилась классическая западная издательская бизнес-модель, правившая книжным миром с 1458 года до начала XIX века.
В этой модели привилегии и патенты решали два насущных вопроса. Во-первых, как печатник получает право собственности на рукопись и разрешение на печать книги по ней? Простой ответ: либо купив его у автора, либо получив привилегию от властей (часто за плату) на печать классического или «неавторского» произведения (например, Библии). Во-вторых, раз произведение напечатано и стало доступно каждому, что мешает покупателю начать перепечатывать его? Такому покупателю не придется тратить деньги на покупку рукописи и не надо будет платить за привилегию властям, а значит, перепечатчик сможет отобрать рынок у оригинального издательства, продавая копии по более низким ценам. Первоначальный тираж распродается далеко не сразу, в то время как начать перепечатывание издания можно всего за несколько дней (при наличии опытной команды наборщиков) – вот почему на самом фундаментальном уровне западный книжный бизнес нежизнеспособен без принудительного регулирования рынка.
Печатники вовсе не были против режима привилегий и патентов. Они были нужны им для нормального функционирования бизнеса. В свою очередь, государственные органы, обеспокоенные распространением через книги богохульных и антигосударственных взглядов, стремились привлечь печатников на свою сторону и поставить их под государственный контроль. В Париже, как и в Лондоне, количество печатных станков было ограничено законом, а права и обязанности печатников были кодифицированы посредством торговых практик и создания саморегулирующихся гильдий.