Происхождение видов путем естественного отбора
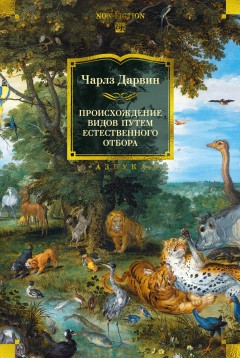
Charles Darwin
ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION, OR THE PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE
Перевод с английского Климента Тимирязева, под редакцией Николая Вавилова
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.
Иллюстрации художников-анималистов Густава Мютцеля, Ричарда Энсделла, Арчибальда Торберна, Поля Жамена, Чарлза Найта и других
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025
Издательство Азбука®
Краткий очерк жизни Дарвина
К. А. Тимирязев
«Зовут меня Чарлз Дарвин. Родился я в 1809 году, учился, проделал кругосветное плавание – и снова учился». Так ответил великий ученый назойливому издателю, добивавшемуся получить от него биографические сведения. По счастью, о жизни этого человека, изумлявшего и обвораживавшего всех своею почти невероятною скромностью, сохранились более обильные документальные сведения в напечатанных после его смерти «Автобиографии» (предназначавшейся исключительно для семьи) и пяти томах переписки, тщательно собранной и изданной его сыном Франсисом и профессором Сюардом. На основании этих источников, по возможности выражаясь словами самого автора, был составлен по случаю кембриджского чествования его памяти краткий, прекрасно иллюстрированный биографический очерк, раздававшийся всем приезжим и, кажется, не поступивший в печать. Эта краткая биография, кое-где дополненная, легла в основание предлагаемого очерка.
Родился Дарвин 12 февраля 1809 года в Шрюсбери, в доме, сохранившемся до сих пор и живописно расположенном на берегу Северна. Дед его был известен как ученый, медик, поэт и один из ранних эволюционистов. Об отце Дарвин отзывался как о «самом умном человеке, какого он знал», – из его качеств отличал удивительно изощренную способность к наблюдению и горячую симпатию к людям, «какой я ни в ком никогда не встречал».
В школе Чарлз, по собственному его отзыву, ровно ничему не научился, но сам забавлялся чтением и химическими опытами, за что получил прозвище Газ. В позднейшие годы на опросные пункты своего двоюродного брата, знаменитого статистика Гальтона, на вопрос: «Развила ли в вас школа способность наблюдательности или препятствовала ее развитию?» – дал следующий ответ: «Препятствовала, потому что была классическая». На вопрос: «Представляла ли школа какие-нибудь достоинства?» – ответ был еще лаконичнее: «Никаких». А в общем выводе: «Я считаю, что всему тому ценному, что я приобрел, я научился самоучкою».
Джон Стивенс Генслоу. Литография Томаса Магвайра, 1851
Шестнадцати лет он уже был вместе со старшим своим братом в Эдинбургском университете, где слушал лекции на медицинском факультете. Через два года перешел в Кембриджский университет, где по желанию отца выбрал теологический факультет. Его серьезно заинтересовало только «Натуральное богословие» знаменитого Палея (выдержавшее 19 изданий)[1]. Три человека имели на него несомненное влияние; это были Генслоу, Седжвик и Юэль[2]. Первый – как ботаник и, по-видимому, как высоконравственная личность; ему же Дарвин был обязан и тем, что, по его собственному признанию, «сделало возможным и все остальное в моей жизни», т. е. кругосветное путешествие на «Бигле». Если с Генслоу он делал экскурсии по соседним болотам, которыми гордится Кембридж, то с Седжвиком он карабкался по необитаемым горам Уэльса и научился умению делать геологические разведки еще не исследованных мест, что особенно пригодилось ему в путешествии. Наконец, об Юэле (астрономе и авторе известной «Истории индуктивных наук») он отзывался, что тот был одним из тех двух встреченных им в жизни людей, поражавших его увлекательностью своего разговора на научные темы. Тем не менее и время, проведенное им в Кембридже, он считал почти потерянным, хотя «в общем итоге самым веселым в своей счастливой жизни». С увлечением занимался он только собиранием жуков.
Адам Седжвик. Литография Томаса Магвайра, 1850
Настоящей его школой было пятилетнее (с 1831 по 1836 год) кругосветное плавание. Уезжая, он увозил с собой только что вышедший первый том «Основ геологии» Ляйеля. Снабжая Дарвина этой книгой, Генслоу советовал ему пользоваться ее богатым содержанием, но не останавливаться на слишком смелых идеях реформатора геологии. Дарвин последовал совету, выполнил его только наоборот: он не остановился, а ушел вперед гораздо далее своего учителя, каким всегда с благодарностью признавал Ляйеля.
Уильям Уэвелл (Юэль). Литография Идена Эддиса, 1835
Наиболее поразили его и в то же время оказали наибольшее влияние на всю его дальнейшую деятельность четыре факта. Во-первых, постепенная смена органических форм по мере перемещения с севера на юг по восточному и с юга на север по западному берегу Южной Америки. Во-вторых, сходство между ископаемой и современной фауной той же страны. И в-третьих, черты сходства и различия обитателей отдельных островов архипелага Галапагос как между собой, так и с обитателями соседнего континента. Четвертым, несомненно, глубоким впечатлением, вынесенным из этого путешествия, отразившимся гораздо позднее на его отношении к вопросу о происхождении человека, было первое впечатление, произведенное на него туземцами Огненной Земли; воспоминание о нем выразилось в известных словах, что ему легче примириться с мыслью о далеком родстве с обезьяной, чем с мыслью о близком происхождении от людей, подобных тем, которых он увидал при первой высадке на Огненную Землю.
Через год по возвращении в Англию (в 1837 году) он начинает свою первую записную книжку, в которую заносит все имеющее отношение к вопросу о происхождении видов. Задача с первого же раза охватывается им со всех сторон, как это видно даже из одной странички этой записной книжки. Но только через два года, в 1839 году, перед ним раскрывается путеводная нить к этому лабиринту хотя и согласных, но продолжающих быть непонятными свидетельств в пользу единства происхождения всех органических существ. Чтение книги Мальтуса и близкое знакомство с практикой приводят его к выводу о существовании «естественного отбора», т. е. процесса устранения всего несогласного с ним, предустановленного, гармоничного, целесообразного, как выражались теологи и телеологи, полезного, приспособленного, как будет отныне называться эта коренная особенность организма. Краткий очерк всей теории, набросанный в 1842 году и в первый раз отпечатанный и розданный в подарок всем ученым, собравшимся на чествование Дарвина в Кембридже в настоящем году, не оставляет никакого сомнения, что за двадцать лет до появления «Происхождения видов» основная идея этого труда уже вполне сложилась в голове автора, а некоторые положения вылились в ту же самую форму, в которой потом стали известны всему миру[3]. И однако потребовались эти двадцать лет для того, чтобы свести в систему тот колоссальный оправдательный материал, без которого он считал свою теорию недостаточно обоснованной. Впрочем, два обстоятельства мешали ему вполне сосредоточиться на главном труде его жизни. Во-первых, обработка привезенного из путешествия громадного материала и специальные исследования по геологии и зоологии. Из числа первых доставила ему особую известность монография «о коралловых островах»[4], заставившая Ляйеля отказаться от своих прежних теорий. Еще более времени поглотило зоологическое исследование об «усоногих раках»[5], живущих и ископаемых. Эта работа, по его собственному мнению и по мнению компетентных его друзей, была практической школой для реального ознакомления с тем, что такое вид. «Не раз, – пишет он сам, – я соединял несколько форм в один вид, с его разновидностями, то разбивал его на несколько видов, повторяя эту операцию до тех пор, пока с проклятием не убеждался в ее полной бесплодности». Эта тяжелая, суровая школа навлекла на него же насмешки Бульвера, изобразившего его в одном из своих романов чудаком, убивающим десятки лет на изучение каких-то ракушек. Более широкую известность, чем эти специальные труды, доставил ему «Журнал путешествия на „Бигле“», обративший на себя внимание Гумбольдта и по своей легкой, доступной форме ставший одним из любимых произведений охотно читающей путешествия английской публики.