Изумруды-миражи
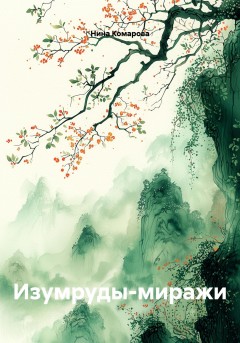
Комарова Нина Павловна – преподаватель спецдисциплин ЕКТС и УрФУ
Аннотация: с 1830 по 1835 годы на Урале в большом количестве находили драгоценные камни, главным образом, изумруды, а также совершенно новые самоцветы; один за другим открывались прииски, так называемые Изумрудные Копи. Этот период назвали изумрудной лихорадкой. В дальнейшем количество добываемых минералов снизилось. Открыл Изумрудные Копи, как и многие другие месторождения цветного и драгоценного камня, начальник (командир)
Екатеринбургской гранильной фабрики и Горнощитского мраморного завода Яков Васильевич Коковин, обер-гиттенфервалтер 8-го класса (горный чин, соответствовавший чину майора) и кавалер. Талантливый крепостной после окончания Академии художеств в 1806 году, куда его определил граф
А.С.Строганов, стал свободным человеком. С 1807 года Коковин работал на Екатеринбургской гранильной фабрике в качестве мастера камнерезного искусства, преподавал в открытой им школе "правила рисования и лепления из воска и глины и высекания из мрамора способных к такому занятию мастеровых", изобретал станки для обработки камня. При непосредственном участии и по эскизам Коковина из цельных глыб были изготовлены великолепные каменные вазы, которые хранятся в Эрмитаже. За свои работы Коковин был награждён золотыми часами, бриллиантовыми перстнями, орденами Святой Анны III степени и Святого Владимира IV степени, многими денежными премиями. Такой успех закономерно вызвал зависть, появление слухов о хищении изумрудов и доносов о
недобросовестном управлении фабрикой и заводом. Коковин попал под следствие, был заключён в тюрьму. Особо знаменательным стало "дело об исчезнувшем изумруде Коковина", неверно истолкованном ещё при жизни мастера, содержащим множество противоречий, трактуемом в разных вариантах, дополняемом в некоторых случаях вымышленными деталями и до сих пор подвергаемом сомнениям в виновности или невиновности Коковина. В XX веке исследователи частично оправдали Коковина, заметив и отметив, что вина его в краже изумрудов не подтвердилась. Судим он был только за "многочисленные злоупотребления по службе". Правдиво и достаточно логично история Коковина изложена автором А.А.Рыбалко [1]. Проанализируем её и сделаем окончательные выводы, опираясь и на другие открытые известные источники [2, 3].
Ключевые слова: минералы, открытия, история, ревизия, опись, рапорт.
1
– Начало конца
В Изумрудных копях были найдены, доставлены с приисков Я.В.Коковину, но не отправлены им в Санкт-Петербург два изумруда "необычайного достоинства". Куда они подевались, объяснить Коковин не смог, он просто отрицал их наличие вообще, что опровергалось свидетелями и обстоятельствами.
Весной 1833 года – по словам смотрителя приисков Петра Налимова, его помощника Василия Плохова и восьми мастеровых, в погибшей шахте №6 был найден "плосковатый" прозрачный изумруд в 2,5 вершка (вершок – ок. 4,4 см) "весь облепленный слюдяным сланцем". Мастеровые, видевшие изумруд, в показаниях своих "ни в чём друг другу не разноречили". Существует версия, что найден был кристалл рабочим М.Щукиным "примерно вершков двух с половиной в длину, шириною в три четверти вершка", о котором Коковин якобы сказал, что "ни прежде, ни после не было ничего подобного". Вес камня не был указан. Поэтому "плосковатый" изумруд ещё называют "щукинским".
Налимов утверждал, что видел этот камень в руках у Коковина через год во время очередной доставки добычи с приисков, т.е. в 1834 г., и Коковин не спешил его отправлять, говоря: "ещё на этот камень полюбуюсь". Коковин отверг эти слова и сведения: "на промывках означенной величины… кристалла никогда найти не случалось". В то же время известны упоминания Коковина о том, что в первые годы много было камней "в означенную меру", но все они были "с большими пороками", их приходилось делить и гранить, а уж после в огранённом виде отправлять в Санкт-Петербург. Можно предположить. что он огранил ненароком "плосковатый" и отправил. Если кристалл был облеплен слюдяным сланцем, то это уже не кристалл, а штуф – кусок минерала с включениями горной породы, требующий последующей обработки, огранки. В описаниях спорных камней нет чёткого разграничения этих понятий: кристалл и штуф, возможно, отсюда происходит путаница, речь идёт о разных или одних и тех же камнях, внешний вид которых каждый понимает по своему.
В 1834 году из-под жёрдочки в отхожем месте был извлечён изумруд, "украденный неизвестно из какой шахты,…с лишком в вершок (в других источниках – вершка 1,5 длины), весьма хорошего достоинства" , который по высказываниям Налимова, существенно уступал "плосковатому" размерами и качеством, но тоже был весьма крупным. Назвали этот изумруд "отхожим". Коковин "признал" его находку, но "не помнил", куда он делся. Его будто бы видел в руках у Коковина директор Удельного земледельческого училища М.А.Байков, а Коковин при этом сетовал, что не знает куда отправить камень – в Кабинет Его Императорского Величества или в
Департамент Уделов (ДУ). Коковин отверг это, предположив, что Байков ошибся.
С отправкой достойных камней в столицу Коковин действительно не спешил, сочувствовавшие ему утверждали, что он с удовольствием демонстрировал каменья своим гостям, призывая подивиться богатству Уральских гор.
Возможно, впоследствии во время ревизии 1835 года, о каком-то одном из этих камней ревизор Ярошевицкий (первая ревизия) писал, что он "самый драгоценный и едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря". Возможно речь шла о совсем другом минерале. Это донесение Ярошевицкого – единственный документ, где один из камней аттестован таким образом, в описях ничего подобного нет. Коковин же на суде готов был согласиться, что это мог быть "отхожий" изумруд, значительной ценности которого он не признавал. Но эти два камня описаны были по размерам, без указания веса, а "самый драгоценный" изумруд был назван "фунтовым" (1 фунт это 454 г). Это и есть "утерянный", исчезнувший изумруд Коковина.
Таким образом, два самых крупных изумруда, найденные в 1833-1834 годах, неизвестно куда девались. Поэтому 4 января 1836 года в рапорте князю
П.М.Волконскому осуществлявший повторную ревизию Л.А.Перовский (вицепрезидент ДУ, куратор Петергофской гранильной фабрики, граф с 1849 года) напишет: "Не подлежит сомнению, что утраченный большой драгоценный камень и другой камень поменьше, о которых упомянуто выше, много других высокого достоинства изумрудов были похищены бывшим командиром Екатеринбургской фабрики Коковиным…" Волконский был министром Двора, президентом Кабинета Его Императорского Величества и Департамента Уделов, но фактически ими руководили князь Н.С.Гагарин (вице-президент Кабинета Его Императорского Величества) и Л.А.Перовский соответственно.
Являясь одновременно начальником и гранильной фабрики и уральских изумрудных копей, Коковин пропускал через свои руки все самоцветы, которые добывались на подотчётных ему приисках. Он пресекал попытки местного горного начальства вмешаться в дела приисков. Неудивительно, что довольно быстро нашлись завистники, которые обвинили его в сокрытии части драгоценных камней.
По объективным причинам количество поставляемых изумрудов снижалось. Возникло недовольство Коковиным в Кабинете и Министерстве Императорского Двора.
Современники XIX века так описывали неприятности, постигшие Я.В.Коковина: "не мало этих минералов похищалось некоторыми из мастеровых, наряжавшихся на работы… Сам Коковин, командир гранильной фабрики, при котором открыты были изумруды, оказался в этом отношении весьма и весьма небезгрешным. Появились в частной торговле уральские изумруды лучшего качества, нежели доставляемые в Кабинет. Над Коковиным назначено было следствие…". По словам самого Коковина в следственном деле Перовский указал причину расследования: "Император изволил заметить в продаже много изумрудных камней, признанных якобы за российские", что свидетельствовало о хищениях и незаконной продаже самоцветов. Сбыт, а особенно разведка и добыча изумрудов, как и других минералов, частным лицам была запрещена. Штраф за добычу цветных камней без разрешения горного начальства составлял сто рублей при годовой зарплате неквалифицированного рабочего в десять рублей, за повторное нарушение судили. Но запреты не помогали. Доля украденных камней составляла около четвёртой части величины официальной добычи [2].
В марте 1835 года была назначена ревизия хозяйства Коковина.
Выводы:
1
– В деле фигурируют три изумруда, драгоценных, но "утерянных";
2
– Я.В.Коковин сам лично принимал все доставленные с приисков минералы; 3 – Я.В.Коковин не сразу отправлял минералы в императорские учреждения; 4 – Наличествуют сведения о хищении минералов, но не известно кем; 5 – Следствие над Я.В.Коковиным закономерно.
2
– Хронология обвинения Я.В.Коковина
25 марта 1835 года – в Екатеринбург присылают знак отличия беспорочной службы
Я.В.Коковина за 25 лет и грамоту к нему. Тем не менее идут неблагоприятные слухи о деятельности Коковина. В марте вице-президентом Кабинета Его Императорского Величества князем Н.С.Гагариным был уполномочен ревизор Л.Ф.Ярошевицкий "на действия в Екатеринбурге".
15 апреля – министр Двора князь П.М.Волконский предписал ревизору: "не оставьте в точности исследовать,… не существует ли там беспорядков или
упущений и не допускается каких-либо злоупотреблений? – В первом случае имеете Вы учредить во всём надлежащий порядок, а во втором предписываю Вам произвести следствие, и если бы кто из чиновников или служащих были к тому причастными или навлекали бы на себя подозрение, то немедленно отнестись к Главному Горному Начальству и просить, дабы с его стороны были приняты меры для замещения таковых способнейшими лицами". Всем вовлечённым в обревизование чинам и лицам предписывалось оказывать ревизору всяческое содействие и немедленно выполнять все его законные требования. В адрес Горного начальника Екатеринбургских заводов П.И.Протасова было выписано персональное предписание.
Коковин, по профессии художник, был дилетантом в горном деле, работы по добыче изумрудов велись непрофессионально, причём работающие рассчитывали больше на везение; попав на продуктивную жилу самоцветов, отрабатывали её в доступных пределах, непродуктивные жилы бросали.