Миледи Ладлоу
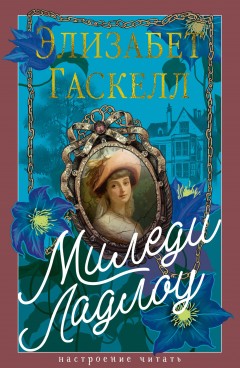
Elizabeth Gaskell
MY LADY LUDLOW
Перевод с английского Наталии Роговской
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 Издательство Азбука®
Глава первая
Я стара, и жизнь вокруг изменилась – все не так, как было во времена моей молодости. В ту пору, если вам предстоял дальний путь, вы пользовались дилижансом, рассчитанным на шестерых пассажиров, и за два дня преодолевали расстояние, которое преодолевают теперь за два часа: не успеешь опомниться, как ты уже прибыл на место, оглохший от паровозного свиста. В ту давнюю пору письма приходили не чаще трех раз в неделю (до некоторых уголков Шотландии, куда я ездила в детстве, почта добиралась раз в месяц), но то были письма, а не писульки! Мы дорожили ими, читали и перечитывали, заучивали наизусть, словно главы из книги любимого автора. А нынче нам дважды в день доставляют ворох куцых записок, часто без начала и конца, где все содержание сводится к одной отрывистой фразе, какую благовоспитанный человек даже в устной речи счел бы дурным тоном. Не знаю, не знаю… Возможно, эти перемены к лучшему, не мне судить; но теперь вы не встретите людей, подобных леди Ладлоу.
Попытаюсь рассказать вам о ней, но не ждите истории в настоящем смысле слова: здесь нет ни начала, ни середины, ни конца – как у тех упомянутых мною записок.
Мой отец был бедный священник, обремененный многодетной семьей; про мать же всегда говорили, что она «из благородных». И когда ей хотелось напомнить о своем происхождении тем, кто волею судьбы ее окружал – в первую голову богатым фабрикантам-демократам, поборникам свобод и французской революции, – она надевала манжеты с рюшами из старинного английского кружева, штопаного-перештопаного, разумеется, ибо искусство его изготовления к тому времени было утрачено и достать новое кружево того же качества не представлялось возможным ни за какие деньги. По словам матери, кружевные манжеты свидетельствовали о том, что ее предки были «кем-то» еще в те времена, когда предки нынешних богатеев, поглядывавших на нее сверху вниз, были «никем» (если были вообще). Не знаю, кто еще, кроме членов нашей семьи, придавал значение ее великолепным рюшам, однако нас с раннего детства приучали испытывать чувство гордости и высоко нести голову, как подобает отпрыскам благородной леди, обладательницы фамильного кружева. При этом отец постоянно внушал нам, что гордыня – великий грех, и нам возбранялось гордиться чем-либо, помимо маминых кружевных манжет; но она, надевая их со своим поношенным, ветхим платьем в качестве единственного украшения, так простодушно радовалась, бедняжка, что я и теперь, после всех испытаний и уроков жизни, благодарю Бога за эти рюши.
Вы полагаете, верно, что я отвлеклась и совсем позабыла про миледи Ладлоу. Это не так. Первой обладательницей старинного кружева была знатная дама по имени Урсула Хэнбери – общая прародительница моей матушки и леди Ладлоу. Когда после смерти нашего отца мама осталась с девятью детьми на руках и не знала, у кого ей искать помощи, леди Ладлоу прислала письмо, в котором изъявляла готовность поддержать овдовевшую родственницу. Я как сейчас вижу это послание: большой лист плотной желтой бумаги, слева оставлено широкое ровное поле, а дальше тянутся строки, написанные изящным, убористым «итальянским» почерком. (В отличие от практикуемых ныне размашистых и беглых «мужских» почерков, он позволял уместить на том же бумажном пространстве намного больше содержания.) Письмо было запечатано сургучом с фамильным гербом в ромбовидном обрамлении, ибо к тому времени леди Ладлоу давно овдовела. Мама указала нам на девиз «Foy et Loy»[1] и объяснила, где найти расшифровку составных частей герба рода Хэнбери, – сделать это полагалось прежде, чем она вскроет конверт. По-моему, она просто тянула время, страшась увидеть очередной отказ. Тревога о судьбе любимых чад, потерявших кормильца, заставила ее разослать множество писем. И хотя серьезных оснований рассчитывать на помощь тех, к кому она обратилась, у нее, откровенно говоря, не было, каждый новый суровый ответ доводил ее до слез, как ни старалась она скрыть от нас свое горькое разочарование. Мне неизвестно, виделась ли мама хоть раз с леди Ладлоу; я только слышала, что это какая-то гранд-дама, чья бабка и мамина прапрабабка приходились друг другу сводными сестрами; однако ни о ее жизни, ни о ее характере я ровным счетом ничего не знала и далеко не уверена, что мама знала много больше меня.
Я заглянула в письмо поверх маминого плеча и вслух прочла первую строку: «Дорогая кузина Маргарет Доусон…» Не знаю почему, это начало заронило во мне надежду. Далее следовало… Сейчас, погодите, я постараюсь припомнить все слово в слово.
«Дорогая кузина Маргарет Доусон! С большим прискорбием я услышала весть о вашей потере – о кончине столь добродетельного супруга и ревностного священнослужителя, каковым, судя по доходившим до меня отзывам, всегда был при жизни кузен Ричард».
– Вот! – прервала меня мама, уперев палец в первый абзац. – Прочти еще раз погромче, пусть маленькие услышат и запомнят, какой доброй славой овеяно имя их отца, как почтительно говорят о нем даже те, кого он в глаза не видел. Кузен Ричард… Как это мило… Как очаровательно изъясняется ее светлость! Продолжай, Маргарет!
Мама утерла выступившие на глаза слезы и приложила палец к губам, призывая к тишине мою маленькую сестренку Сесилию: не способная проникнуться важностью минуты, крошка Сесилия стала от скуки шуметь, чтобы на нее наконец обратили внимание.
«Вы пишете, что остались одна с девятью детьми. У меня тоже было бы девять детей, если бы они дожили до сего дня. Из всех уцелел только Ухтред-Мортимар, нынешний лорд Ладлоу; он по большей части живет в Лондоне. Сама же я живу в большом доме в Коннингтоне, где на моем попечении находятся шесть благородных девиц, к коим я отношусь как к своим дочерям, если не считать отсутствия у них полной свободы в выборе одежды и еды, на что могли бы претендовать юные леди, обладай они соответствующим положением и состоянием. Так или иначе, эти молодые особы, наделенные добрым здравием, но обделенные приличным достатком, – мои постоянные компаньонки, и я стараюсь исполнить свой христианский долг, взяв на себя заботу о них. В минувшем мае одна из моих подопечных скончалась во время визита в родительский дом, и вы оказали бы мне большую услугу, если бы позволили своей старшей дочери занять освободившееся место среди моих домочадцев.
Полагаю, лет ей около шестнадцати? В таком случае она обретет здесь подруг лишь почти такого же возраста или, может быть, несколько старше. Я обеспечиваю девушек всей необходимой одеждой и даю им немного денег на карманные расходы. Что касается матримониальных перспектив, то Коннингтон, по причине своей удаленности от городов, не сулит им больших надежд. Наш приходский священник – престарелый глухой вдовец; мой управляющий – человек женатый; местных фермеров я не беру в расчет как явно не заслуживающих внимания благородных девиц, коим я покровительствую. Тем не менее, если та или другая из них, ничем не запятнав себя в моих глазах, пожелает выйти замуж, я готова оплатить свадебный стол, а также ее новый гардероб и белье, постельное и столовое. Для тех же, кто останется при мне до моей смерти, в завещании предусмотрено скромное вознаграждение. Кроме того, я предпочитаю из собственных средств покрывать дорожные расходы девушек, хотя это сопряжено с неким внутренним противоречием: с одной стороны, я не одобряю женщин, которые без особой нужды переезжают с места на место; с другой стороны, хорошо понимаю, что слишком долгая разлука с родными наносит урон естественным семейным связям.
Если мое предложение по нраву вам и вашей дочери – по нраву вам прежде всего, ибо дочь ваша не может быть так дурно воспитана, чтобы противиться вашему желанию, – дайте мне знать, дорогая кузина Маргарет Доусон, и я распоряжусь встретить юную леди в Кэвистоке, на ближайшей от нас почтовой станции, куда ее доставит дилижанс».
Мама выпустила письмо из рук и несколько минут сидела молча.
– Не представляю, Маргарет, что мне делать без тебя.
Как всякая молоденькая, неопытная девчонка, в душе я возликовала от обещания перемены места и новой жизни, но мамин печальный вид и протестующий писк детворы вернули меня на землю.
– Я никуда не поеду, мама!
– Что ты, что ты! – покачав головой, возразила мама. – Надо ехать. Леди Ладлоу пользуется большим влиянием и может оказать протекцию твоим братьям. Ее предложением нельзя пренебречь!
Мы еще долго судили и рядили, но в конце концов решили ответить согласием – и были за то «вознаграждены» ее рекомендательным письмом, благодаря которому одного из моих братьев приняли в знаменитую лондонскую школу «Христов приют» (впоследствии, близко узнав леди Ладлоу, я поняла, что она в любом случае поддержала бы нуждающихся родственников, даже если бы мы не откликнулись на ее великодушный призыв).
Вот при каких обстоятельствах произошло мое знакомство с миледи Ладлоу.
Я хорошо помню свой приезд в Хэнбери-Корт. Ее светлость послала за мной коляску на ближайшую от усадьбы почтовую станцию, где я должна была сойти с дилижанса. «Там один дожидается вас, если вы Доусон, – сказал, обращаясь ко мне, станционный смотритель. – Старый кучер… вроде бы из Хэнбери-Корта». Я слегка растерялась от его тона и впервые почувствовала, каково очутиться одной среди чужих; своего попутчика, которому моя мама наказала позаботиться обо мне в дороге, я уже потеряла из виду. Возница помог мне усесться в высокую одноколку-кабриолет с откидывающимся верхом и пустил лошадку тихой рысью, позволяя мне насладиться очаровательным пасторальным пейзажем. Через некоторое время дорога начала взбираться на длинный пологий холм, мой кучер слез на землю и повел лошадь в поводу. Я и сама охотно прошлась бы пешком, но не была уверена, хватит ли у меня сил до конца одолеть подъем, к тому же я не решалась просить его помочь мне сойти вниз по неудобным ступенькам. Наконец мы достигли вершины холма. Впереди простиралась открытая, со всех сторон продуваемая ветрами широкая луговина – так называемая (как я потом узнала) Хэнберийская охота, или просто Охота. Возница остановился перевести дух, ласково потрепал лошадь по шее и снова уселся на сиденье рядом со мной.
– А что, Хэнбери-Корт уже близко? – спросила я.
– Близко? Я бы не сказал, мисс. Отсюда миль десять будет.
Лиха беда начало: стоило нам переброситься парой слов, и дальше беседа пошла как по маслу. Вероятно, он тоже не решался первым заговорить со мной, однако после моего вопроса преодолел свою робость скорее меня. Я предоставила ему самому выбирать темы для разговора, хотя не всегда понимала его интерес к тому или иному предмету. К примеру, он больше четверти часа рассказывал, как лет тридцать тому назад гонялся за матерым лисовином и как тот ловко путал следы (с перечислением всех потаенных местечек, проток и буераков, словно мне они были известны не хуже, чем ему самому), пока я все гадала, что за зверь такой – лисовин[2].
За Охотой дорога испортилась. Никто из ныне живущих не может вообразить, что представляли собой пятьдесят лет назад наши проселочные дороги, если сам никогда их не видел. Все в глубоких рытвинах, разбитые и раскисшие, они вынуждали вас продвигаться «зигзугом», как выразился мой возница Рендел; меня так мотало из стороны в сторону, так подкидывало на шатком сиденье, что все мои мысли были заняты только попытками удержаться на нем, обозревать окрестности я и думать забыла! Идти же пешком по дорожной грязи означало перепачкаться сверх всякой меры перед первым свиданием с миледи Ладлоу. Но как только мы выехали на луга, где кончалась наезженная дорога и можно было идти по траве, не опасаясь привести себя в непотребный вид, я попросила Рендела ссадить меня на землю. Он с благодарностью исполнил мою просьбу, потому что жалел свою взмыленную лошадку, которая устала тащиться по грязи и ухабам.
Луга плавно шли под уклон, спускаясь к широкому просвету между рядами высоких вязов; должно быть, в прежние времена здесь пролегала парадная подъездная аллея. Мы поехали по этой тенистой зеленой лощине, над которой простерлось закатное небо, и внезапно оказались у верхней площадки длинной лестницы.
– Если хотите, мисс, бегите вниз по ступеням, а я объеду кругом и встречу вас там, только вам придется снова залезть на сиденье – миледи не понравится, если вы подойдете к дому пешком, а не подкатите в коляске.
– Значит, мы уже прибыли? – растерянно спросила я, словно конец пути застиг меня врасплох.
– Усадьба внизу, мисс, – ответил он, указывая хлыстом на пучки узорчатых кирпичных труб, черневших над кронами деревьев на фоне красного заката, – возле дальней границы большого квадратного газона под крутым косогором, на вершине которого мы стояли.
Собравшись с духом, я спустилась по лестнице навстречу Ренделу и уселась в коляску. Мы обогнули газон и чинно въехали в ворота, ведущие в парадный внутренний двор перед входом в усадьбу.
Замок Хэнбери-Корт представляет собой внушительное краснокирпичное строение – по крайней мере бо́льшая его часть облицована красным кирпичом. Наружные стены и сторожевой привратный дом также сложены из кирпича – с отделкой из светлого камня по углам и вокруг дверных и оконных проемов, что придает зданию некоторое сходство с королевским дворцом Хэмптон-Корт. Но задний фасад, с щипцами на крыше, арочными порталами и каменными переплетами окон, указывает (как говорила леди Ладлоу), что изначально здесь располагался приорат. Сохранилась даже приемная приора, только мы всегда называли это помещение гостиной миссис Медликотт; сохранился и десятинный амбар, размерами не уступавший церкви, и рыбные пруды, снабжавшие монахов свежей рыбкой во время поста. Впрочем, все это я разглядела лишь позже. В тот первый вечер я едва ли обратила внимание даже на девичий виноград (по слухам, впервые завезенный в Англию одним из пращуров миледи), наполовину скрывавший главный фасад дома.
Освоившись в дилижансе, я не хотела расстаться с ним, и точно так же теперь мне не хотелось расставаться с Ренделом, моим добрым другом, которого я знала без малого три часа. Но делать нечего: коли приехала – ступай в дом! Мимо осанистого пожилого джентльмена, с поклоном отворившего мне дверь, в большой парадный холл справа от входа, пламеневший в прощальных лучах солнца (пожилой джентльмен шел впереди, указывая мне путь), далее по ступеньке на подиум (так называлось это возвышение, как мне сообщили впоследствии), оттуда налево, через анфиладу гостиных с окнами на великолепный сад, который даже теперь, в вечерних сумерках, радовал глаз пышным цветением. Пройдя последнюю из гостиных, мы взошли по четырем ступеням, и мой провожатый приподнял тяжелую шелковую занавесь: я предстала перед миледи Ладлоу.
Она была маленького роста и миниатюрного сложения, но держалась очень прямо. На голове у нее возвышался кружевной чепец – чуть ли не в половину ее роста, подумалось мне тогда, – с лентой вокруг головы. (Чепцы с завязками под подбородком вошли в моду позже, и миледи их не признавала, говоря, что это все равно как показываться на люди в ночном колпаке.) Спереди на чепце красовался белый атласный бант, и широкая белая атласная лента обхватывала голову, удерживая чепец в нужном положении. Плечи и грудь миледи покрывала шаль из тончайшего индийского муслина, наброшенная поверх муслинового же передника, который подчеркивал элегантность черного шелкового платья с короткими рукавами-буф, отделанными рюшами, и шлейфом, пропущенным через прорезь в кармане, чтобы его можно было по необходимости укорачивать или удлинять; из-под платья выступала стеганая бледно-сиреневая атласная нижняя юбка. Волосы у миледи были белее снега, но их почти полностью скрывал объемистый чепец; кожа, несмотря на почтенный возраст, была гладкая, блестящая, словно навощенная, с нежным кремовым отливом; большие синие глаза составляли, вероятно, главную женскую прелесть миледи в ее молодые годы, тогда как нос и рот у нее были вполне обыкновенные, насколько я помню. Сидя в кресле, миледи держала под рукой массивную трость с золотым набалдашником – не столько для практических целей, сколько в качестве символа своего высокого статуса: в легкости шага она могла бы поспорить с любой пятнадцатилетней девушкой, и когда совершала до завтрака свой одинокий утренний моцион, то миновала аллеи усадебного парка так стремительно, что нам, ее молодым компаньонкам, навряд ли удалось бы ее обогнать.
Миледи встретила меня стоя. При входе я сделала книксен, как учила мама, и, повинуясь инстинктивному чувству, приблизилась к хозяйке. Вместо того чтобы протянуть мне руку, она приподнялась на цыпочки и расцеловала меня в обе щеки.
– Вы продрогли, дитя мое. Сейчас будем пить чай.
Она позвонила в колокольчик, стоявший на столике возле нее, и тотчас из соседней комнаты явилась горничная, словно только меня и ждала, со свежезаваренным чаем и тарелкой тонко нарезанного хлеба с маслом, который я одна съела бы весь без остатка, до того я проголодалась после долгой дороги. Горничная сняла с меня накидку, и я села, всем своим существом ощущая царившее здесь безмолвие, почти не нарушаемое шагами молчаливой горничной по толстому ковру и тихим, хотя и четким голосом миледи Ладлоу. Встретившись со мной взглядом – ах эти острые и вместе с тем ласковые синие глаза! – ее светлость промолвила:
– Боюсь, моя милая, у вас руки замерзли. Снимите перчатки. – (На мне были прочные замшевые перчатки, но я не осмеливалась снять их, пока мне не предложат.) – Давайте попробуем согреть ваши ручки. Вечерами уже прохладно. – Она взяла мои большие красные руки в свои – мягкие, теплые, белые, унизанные кольцами. Потом, посмотрев мне в лицо, печально вздохнула: – Бедное дитя! И это старшая из девятерых, подумать только! У меня была дочь, ваша ровесница, но представить себе, что восемь остальных еще младше ее… Нет, немыслимо.
После непродолжительного молчания она вновь позвонила в колокольчик и велела своей горничной по фамилии Адамс проводить меня в мою комнату.
Комната оказалась крошечной – думаю, в оны дни она служила кельей. Стены из беленого камня, белая постель. На полу по обе стороны кровати – кусок красной ковровой дорожки и стул. В смежном закутке умывальник и туалетный столик. На стене прямо напротив кровати написано краской поучительное высказывание из Священного Писания; под ним гравюра, весьма популярная в то время, с семейным портретом короля Георга и королевы Шарлотты вместе с их многочисленным потомством, включая маленькую принцессу Амелию в детской коляске[3], а справа и слева от королевской семьи – два небольших, также гравированных портрета: один – Людовика XVI, другой – Марии-Антуанетты. На каминной доске я увидела молитвенник и трутницу. И больше в комнате ничего не было. Надо вам заметить, в те дни люди даже не мечтали о письменных столах, чернильницах, бюварах, уютных креслах и многом другом. Нас с детства приучали к тому, что спальня предназначена для переодевания, сна и молитвы.
Вскоре позвали на ужин. Посланная за мной молодая леди повела меня вниз по широкой лестнице с низкими ступенями в уже знакомый мне большой холл, через который я шла, направляясь в покои миледи Ладлоу. Нас стоя ожидали еще четыре молодые леди. Завидев меня, они учтиво присели, не проронив при этом ни звука. Все были одеты в своего рода униформу: кисейный чепец, обвязанный голубой лентой, однотонный шейный платок и рабочий фартук поверх серо-коричневого, «немаркого» саржевого платья. Все сгрудились немного в стороне от стола, накрытого для ужина: холодная курица, салат и песочный пирог с фруктами. Еще один стол, поменьше, с круглой столешницей, помещался на подиуме, и на нем был только серебряный кувшин с молоком и булочка. Возле стола стояло резное кресло, спинку которого венчала графская корона. Я удивилась, почему никто из девушек не заговорит со мной, но, вероятно, они просто робели, как и я, если не было иной причины. Впрочем, спустя минуту после того как я вошла в холл через дверь в его нижней части, отворилась дверь на подиум и к нам присоединилась миледи. Все приветствовали ее глубоким поклоном (я тоже – глядя на других). Она остановилась, обвела нас взглядом и произнесла:
– Юные леди, представляю вам Маргарет Доусон, прошу ее любить и жаловать!
И в продолжение трапезы подопечные миледи оказывали мне вежливое внимание, какое полагается оказывать незнакомому человеку за общим столом, не более того. Когда с едой было покончено и одна из девушек произнесла благодарственную молитву, миледи позвонила в колокольчик. Слуги быстро убрали посуду и принесли раскладной аналой, который установили на подиуме. Тем временем в холле собрались все обитатели дома. Миледи пригласила одну из моих будущих товарок взойти на подиум и прочесть псалмы и наставления согласно таблице чтений на каждый день. Я сразу подумала, что, будь я на месте чтицы, у меня душа ушла бы в пятки. Молитв не говорили. Миледи скорее согласилась бы сама проповедовать в храме, чем позволила бы невесть кому, не имевшему даже диаконского чина, совершать молебны «на дому». Да и рукоположенный клирик не снискал бы ее одобрения, если бы созвал людей для молитвы в неосвященном месте.
В свое время миледи удостоилась чести служить фрейлиной королевы Шарлотты, так как происходила из древнего рода Хэнбери, прославившегося еще при Плантагенетах[4], и являлась наследницей обширных земель, которые некогда захватывали территорию четырех графств. Хэнбери-Корт был ее фамильным имением и принадлежал ей по закону. Выйдя замуж за лорда Ладлоу, она много лет жила в его поместьях, разбросанных тут и там, вдали от родового гнезда. Мало-помалу она потеряла всех своих детей, кроме одного, и почти все они умерли в домах лорда Ладлоу. Смею предположить, что миледи прониклась неприязнью к тем местам и после смерти милорда захотела вернуться в Хэнбери-Корт, где так счастливо жила в девичестве. Вероятно, то была лучшая пора ее жизни. Если вдуматься, все ее убеждения, оставшиеся с ней до преклонных лет и поражавшие нас своей необычностью, полвека назад были общепринятыми. Вот только один пример: в годы моего пребывания в Хэнбери все громче стали раздаваться голоса в пользу народного образования – небезызвестный мистер Рейкс[5] положил начало воскресным школам, и некоторые священники тоже призывали учить детей чтению, письму и арифметике. Но миледи и слышать об этом не желала: с такими призывами мы скоро договоримся до всеобщего равенства – до революции, утверждала она.
Прежде чем взять какую-то девушку на работу, миледи требовала привести ее к ней, дабы самой оценить внешний вид кандидатки и расспросить ее о семье. Последнему обстоятельству миледи придавала особое значение: если девица недостаточно живо откликается на вопросы о ее родной матери или о «маленьком» (при наличии в семье грудного младенца), из нее не выйдет хорошей служанки. Затем девушке предлагалось выдвинуть ноги вперед и показать свою обувку, которая должна быть крепкой и опрятной. Затем требовалось прочесть по памяти «Отче наш» и Символ веры. Затем честно сказать, умеет ли она писать. В случае утвердительного ответа, если миледи была удовлетворена всем предшествующим ходом собеседования, на лицо ее набегало облако разочарования, ибо она следовала незыблемому правилу: грамотных в прислуги не нанимать! Но я могу засвидетельствовать, что изредка миледи делала исключения – дважды, если быть точной, и оба раза девушке нужно было особенно постараться и доказать свою благонадежность, перечислив наизусть десять заповедей. Одна очень бойкая девица (за которую я тоже переживала, хотя и напрасно: она скоро вышла замуж за богатого торговца мануфактурой и уехала в Шрусбери) благополучно прошла все испытания, если принять в расчет тот факт, что она умела писать, но под конец сама все испортила – дойдя до последней заповеди, решила похвастаться:
– С позволения вашей светлости, я и считать умею!
– Ступайте прочь, милочка, – поспешно сказала миледи, – ваше место за прилавком! В прислуги вы не годитесь.
Обескураженная девица вышла за дверь, но не прошло и минуты, как миледи велела мне догнать ее и отвести на кухню, чтобы не отпускать голодной в обратный путь. Через несколько дней миледи послала за ней – вручила ей Библию и наказала остерегаться вредных французских идей, из-за которых французы обезглавили короля и королеву.
Бедняжка так растерялась, что в ответ пробормотала сущую несуразицу:
– Да что вы, миледи, я и мухи не обижу, не говоря уже о короле, а французов этих терпеть не могу, и лягушек тоже, не извольте беспокоиться!
Однако миледи была неумолима и остановила свой выбор на девушке, не умевшей ни читать, ни писать, чтобы поскорее унять тревожные мысли касательно народного образования, которое упорно продвигалось в сторону сложения и вычитания. Впоследствии, когда старый священник, возглавлявший хэнберийский приход, умер (это случилось уже при мне) и вместо него епископ назначил другого, много моложе, вопрос образования явился предметом острых разногласий между ним и миледи. Но покуда жив был глухой старик Маунтфорд, миледи завела такой обычай: ежели в какой-то день она чувствовала, что не расположена слушать проповедь, она становилась в дверях своей огороженной квадратной «скамьи» – прямо напротив аналоя – и произносила (в той части утреннего богослужения, где, согласно указаниям для хора и прихожан, значится «далее следует гимн»):
– Мистер Маунтфорд, сегодня можете опустить обращение к пастве.
Весьма довольные решением ее светлости, ускорявшим переход к литании, мы тотчас преклоняли колени. Мистер Маунтфорд был глух, но не слеп и в этом месте службы всегда пристально следил за действиями миледи.
Пришедший ему на смену мистер Грей представлял совершенно иную породу клириков. Свои приходские обязанности он исполнял с великим рвением, и миледи, неустанно помогавшая бедным, часто повторяла, что его сам Бог послал в их приход; а мистер Грей твердо знал, что в графской усадьбе никогда не оставят без внимания его просьбу прислать бульона, или вина, или желе, или саго для больного. Одна беда: будучи человеком своего времени, он примкнул к стану приверженцев модного хобби – образования. И это, увы, побудило миледи в корне изменить свое мнение о нем. Как-то раз во время воскресной службы она заподозрила (не спрашивайте почему), что в проповеди он собирается затронуть тему воскресных школ. Она поднялась со скамьи – чего не делала со смерти мистера Маунтфорда, то есть больше двух лет, – и объявила:
– Мистер Грей, сегодня можете опустить обращение к пастве.
Однако ее голосу не хватало прежней безапелляционности, да и мы стали на колени со смешанным чувством: неудовлетворенное любопытство возобладало над тайным желанием приблизить конец богослужения. Мистер Грей произнес тогда очень духоподъемную проповедь о необходимости открыть в деревне воскресную школу – «школу дня седьмого»[6], как он выразился. Миледи закрыла глаза и, казалось, уснула. Но я уверена, что она не упустила ни единого слова, хотя никак не комментировала услышанное вплоть до субботы, когда мы, две ее подопечные, по заведенному обычаю сопровождали миледи в карете, чтобы проведать некую бедную, прикованную к постели женщину, жившую в нескольких милях от нас, на краю поместья и прихода. Покидая хижину, мы встретили мистера Грея, к ней направлявшегося; видно было, как он устал и запыхался от долгой ходьбы. Миледи подозвала его к себе и сказала, что дождется его и отвезет домой, хотя ей удивительно видеть его здесь – далековато для субботнего променада, не слишком ли он утруждает себя в день седьмой, а точнее в Шаббат, ведь, судя по его проповеди, он исповедует не христианство, а иудаизм. Мистер Грей посмотрел на нее так, словно не понимал, о чем она говорит. Справедливости ради надо заметить, что он не только выступал за школы и начальное образование для всех, но и упрямо называл воскресенье «седьмым днем», из чего ее светлость делала простой вывод: «Этот его день седьмой – не что иное, как суббота, и если я соблюдаю субботу, значит я иудейка, чего нет и в помине. А воскресенье так и нужно называть – „воскресенье“, и это совсем другое дело: если я соблюдаю воскресенье, значит я христианка, в чем смиренно смею вас заверить».
Когда же мистер Грей наконец уловил, что́ скрывается за ее словами о субботнем променаде, он счел за лучшее не вдаваться в детали. С улыбкой поклонившись, он лишь выразил уверенность в том, что ее светлость, как никто, понимает, какими обязанностями можно, а какими нельзя пренебречь в седьмой день; что он должен посетить старую больную Бетти Браун и прочесть ей главу из Писания, а посему не смеет задерживать ее светлость.
– Нет, я вас дождусь, мистер Грей, – сказала она. – Вернее, так: я съезжу в Оукфилд и через час вернусь за вами.
Видите ли, ей не хотелось, чтобы из-за нее он чувствовал беспокойство и необходимость поторапливаться, в то время как ему следовало найти нужные слова утешения для старой Бетти и вместе с нею помолиться о спасении ее души.
– Прекрасный молодой человек, мои милые, – сказала миледи, едва мы отъехали. – Но я тем не менее распоряжусь о стекле для скамьи.
В ту минуту мы не поняли, что она имеет в виду, но неделю спустя, в воскресенье, загадка разрешилась. Занавеси, со всех сторон закрывавшие огромную фамильную «скамью» Хэнбери в приходской церкви, исчезли, и вместо них были воздвигнуты стеклянные стенки высотой шесть или семь футов. В двери, которая вела в это отгороженное пространство, имелось подъемное окно наподобие тех, какие используются в экипажах. Обычно оно было опущено и мы хорошо слышали каждое слово, но стоило мистеру Грею упомянуть о седьмом дне или заговорить о пользе школьного образования, как миледи выступала из своего угла и до упора поднимала оконную раму, ничуть не смущаясь производимым грохотом и лязгом.
Я должна подробнее остановиться на фигуре мистера Грея. Почетная обязанность представить пастве главу прихода возлагалась на одного из двух официальных попечителей местной церкви, каковыми являлись леди Ладлоу и другое важное лицо. В прошлый раз эту обязанность исполнил лорд Ладлоу при назначении мистера Маунтфорда: тот был прекрасный наездник, чем и заслужил расположение его светлости. Из этого не следует, что мистер Маунтфорд был негодным священником, отнюдь – по меркам того времени. Он не пил, зато очень любил поесть. И если до него доходил слух, что какой-то бедняк занедужил, он посылал ему лучшие яства с собственного стола, хотя для больного его угощение могло оказаться смертельным ядом. Святой отец благожелательно относился ко всем, кроме раскольников, которых он совместно с леди Ладлоу стремился изгнать из прихода; а среди раскольников он особенно невзлюбил методистов – якобы потому, что Джон Уэсли[7] порицал его пристрастие к охоте. Но это давняя история; ко времени нашего знакомства для охоты мистер Маунтфорд был слишком тучен и неповоротлив; и кроме того, епископ осуждал подобные увлечения, о чем ясно дал понять своему клиру. Лично я думаю, что хорошая прогулка верхом пошла бы на пользу мистеру Маунтфорду в смысле не только физического, но и душевного здоровья. Он слишком много ел и мало двигался. И даже до нас, молодых компаньонок миледи, доходили слухи о его крайней несдержанности в отношении слуг, церковного сторожа и алтарника. Впрочем, никто из перечисленных не держал на него зла – старик был отходчив и, выпустив пар, старался задобрить свою жертву каким-нибудь подарком, по щедрости прямо пропорциональным силе его гневной вспышки. Церковный сторож, не отличавшийся большим усердием (что в целом свойственно сторожам, по моему наблюдению), уверял, будто бы выражение «черт тебя возьми» из уст преподобного с гарантией сулило шиллинг, тогда как просто «дьявольщина» – всего лишь половину, жалкие шесть пенсов, недостойные настоятеля храма и простительные разве что дьякону.
Что и говорить, у мистера Маунтфорда было доброе сердце. Он не выносил вида боли или горя – любого несчастья; и если таковое все же попадалось ему на глаза, не мог успокоиться, пока не находил способа облегчить страдание, пусть и на короткое время. Из-за своей чувствительности он так боялся переживаний, что по возможности отвращал свой взор от страждущих и не жаловал тех, кто рассказывал ему о них.
– Да что прикажете мне делать с ним, ваша светлость? – ответил он, когда миледи Ладлоу попросила его навестить какого-то бедняка со сломанной ногой. – Ногу ему я не склею – для этого есть доктор; в уходе моем он не нуждается – для этого у него есть жена. Мне остается лишь вести с ним беседы, но много ли поймет он из моих слов? Не больше, чем я из слов алхимика. Мое присутствие только смущает его: из почтения к моему сану он застывает в неудобнейшей позе – ни дрыгнуть ногой, ни выругаться, ни жену попрекнуть ему нельзя, пока я рядом. Внутренним слухом я так и слышу, миледи, вздох облегчения у себя за спиной, когда выхожу от него. А насчет моей проповеди… Я-то знаю, что́ он думает: лучше бы я приберег свою проповедь для аналоя – для его односельчан, им она бы уж точно пригодилась (ибо адресована грешникам, по его разумению). Я сужу о других по себе и поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы и со мной поступали. Это, во всяком случае, по-христиански[8]. А я решительно не хотел бы – не при вас будь сказано, ваша светлость, – чтобы милорд Ладлоу пришел проведать меня, когда я болел. Он оказал бы мне великую честь, спору нет, однако мне пришлось бы натянуть на голову чистый колпак, и демонстрировать из вежливости примерное терпение, и не докучать его светлости своими жалобами. Я был бы вдвойне благодарен и полнее осознал бы оказанную мне честь, если бы его светлость прежде прислал мне подстреленную дичь или жирненький окорок для скорейшей поправки здоровья и укрепления сил. Посему я обязуюсь ежедневно посылать Джерри Батлеру, пока он не выздоровеет, вкусный и сытный обед и милосердно избавлю несчастного старика от своего присутствия и наставлений.
В иных обстоятельствах миледи была бы немало изумлена этой речью, как и многими речами мистера Маунтфорда. Но поскольку на него пал выбор милорда, она не могла поставить под сомнение мудрость покойного мужа. К тому же миледи знала, что обещанные обеды всегда отправляются по назначению, нередко с одной-двумя гинеями в придачу для оплаты докторских счетов; и что мистер Маунтфорд убежденный роялист – роялист до мозга костей, как говорится; и что он одинаково ненавидит раскольников и французов и даже за чаем готов поднять тост «за Церковь и Короля – долой Охвостье»[9]. Более того, однажды он удостоился чести произнести в Уэймуте[10] проповедь перед королевской четой и двумя принцессами и заслужил высочайшую похвалу (все слышали, как его величество одобрительно заметил: «Хорошо, очень хорошо»). В глазах миледи это было все равно что пробирное клеймо, удостоверяющее ценность мистера Маунтфорда.
К безусловным достоинствам мистера Маунтфорда относилось и то, что он помогал скоротать долгие зимние воскресные вечера в Хэнбери-Корте: сперва читал проповедь нам, молодым подопечным миледи, а после играл с ее светлостью в пикет[11]. В завершение миледи приглашала его отужинать вместе с нею на подиуме, но так как весь ее ужин неизменно состоял лишь из хлеба с молоком, мистер Маунтфорд предпочитал сидеть внизу, за общим столом с нами, не упуская случая ввернуть свою излюбленную шутку про вопиющую несуразицу предписания не есть вдоволь по воскресеньям, в праздник Дня Господня. Мы вежливо улыбались его остроумию – в двадцатый раз точно так же, как в первый, заранее предупрежденные о том, что́ сейчас воспоследует: прежде чем пошутить, преподобный смущенно откашливался, словно опасаясь вызвать недовольство миледи. Судя по всему, ни он, ни она не помнили, что его «оригинальная» мысль уже не нова.
Умер мистер Маунтфорд для всех неожиданно, и мы искренне сожалели об этой утрате. Часть своего имущества (у него было небольшое имение) он оставил в пользу нуждающихся прихожан, дабы в Рождество они не чувствовали себя обделенными и получили на обед ростбиф и пудинг: превосходный рецепт рождественского пудинга обнаружился в приложении к его завещанию.
Другое распоряжение мистера Маунтфорда содержало просьбу к душеприказчикам тщательно проветрить усыпальницу настоятелей хэнберийского храма, прежде чем внести туда его гроб: всю свою земную жизнь преподобный страшно боялся сырости, и в последние месяцы температура в его жилище держалась на столь высокой отметке, что, возможно (как думали некоторые), это ускорило его конец.
После смерти мистера Маунтфорда второй попечитель приходской церкви представил осиротевшей пастве его преемника мистера Грея, обладателя ученой степени оксфордского Линкольн-колледжа[12]. Естественно, все мы, принадлежа в той или иной мере к семейству Хэнбери, не одобряли выбора второго попечителя. Но когда кто-то из злоязычников пустил слух, будто бы мистер Грей – моравский методист, миледи сказала (и я тому свидетель), что не поверит столь чудовищным обвинениям без неопровержимых доказательств.
Глава вторая
Прежде чем перейти к рассказу о мистере Грее, думаю, надо ближе познакомить вас с особенностями нашей повседневной жизни в Хэнбери. В то время на попечении миледи нас было всего пять душ – пять девиц из хороших семей, связанных родственными узами (хотя бы и дальними) с представителями титулованной знати. Если мы не находились в обществе миледи, нами занималась миссис Медликотт, кроткая маленькая женщина, многолетняя компаньонка миледи и, как мне сказывали, ее отдаленная родня. Родители миссис Медликотт жили в Германии, и по-английски она говорила с сильнейшим акцентом. Другим следствием ее германского воспитания было виртуозное владение всеми видами вышивки и шитья, о которых нынешние мастерицы даже не слыхивали. Она так незаметно умела починить и кружево, и скатерть, и тончайший индийский муслин, и вязаные чулки, что никто не нашел бы места недавней прорехи. Добрая протестантка, миссис Медликотт никогда не пропускала праздничного богослужения в День Гая Фокса[13], хотя искусством рукоделия владела не хуже монашки из какой-нибудь папистской обители. Вот она берет в руки кусок французского батиста – тут несколько нитей вытянет, там вошьет, и в считаные часы гладкая материя превращается в ажурное белое шитье. Так же ловко она управлялась с тяжелым, плотным голландским льном, украшая его простым и крепким кружевом – им были отделаны все салфетки и скатерти в доме миледи. Значительную часть дня мы трудились под ее руководством либо в просторной подсобной комнате-кладовой при кухне, либо (когда корпели над рукоделием) в примыкающей к холлу светлой комнате. Миледи не признавала изделий «с претензией», полагая, что использовать в вышивке цветную нить или гарус позволительно только в качестве детской забавы, но взрослой женщине не пристало увлекаться синим и красным, так как главное удовольствие в работе белошвейки – аккуратные, мелкие, ровные стежки. Со слов миледи мы знали, что старинный гобелен в холле соткан ее прародительницами, жившими еще до Реформации[14] и потому не ведавшими о высокой чистоте вкуса ни в ремесле, ни в религии. Впрочем, современную моду миледи также отвергала. Что это за мода, если высокородные леди берутся шить себе туфли, как повелось с начала нынешнего века? По ее убеждению, подобные причуды были следствием французской революции, которая весьма преуспела в попытках стереть все сословные различия, и вот вам результат: молодые леди благородного происхождения и воспитания возятся с обувными колодками, шилом и воском для нити, будто дочки простого башмачника!
То и дело одну из нас вызывали к миледи в ее маленькую «тихую» комнату, своего рода кабинет, – почитать ей вслух что-нибудь поучительное, как правило из Аддисонова «Зрителя»[15]. Но в какой-то год нам велено было читать рекомендованные миссис Медликотт «Размышления» Штурма[16] в переводе с немецкого. Господин Штурм учил нас, о чем надобно думать в каждый день года, и это было невыразимо скучно; но книга его очень нравилась королеве Шарлотте, и, разумеется, мысль о похвале ее величества не давала миледи сомкнуть глаза во время чтения. «Письма» миссис Шапон[17] и «Наставление дочерям» доктора Грегори[18] замыкали список книг для нашего чтения по будням. Не знаю, как другие, а я с радостью отрывалась от шитья и даже от чтения вслух (хотя последнее позволяло побыть наедине с незабвенной миледи), если могла отправиться в кладовую, где с любопытством разглядывала всевозможные припасы и снадобья. На много миль вокруг не было ни одного доктора, и мы, следуя указаниям миссис Медликотт и прописям доктора Бьюкена, рассылали больным пузырьки с нашим домашним лекарством, которое, на мой взгляд, ничем не уступало купленному в лавке аптекаря. Не думаю, чтобы мы кому-то навредили своим лечением. Если иной из наших настоев выходил крепковат, на вкус миссис Медликотт, она просила развести его кошенильным раствором – от греха подальше, так сказать. Таким образом, собственно лекарства содержалось в наших пузырьках совсем немного, но аккуратно надписанные этикетки придавали им в глазах неграмотных пациентов ученый и загадочный вид, что несомненно способствовало исцелению. Не счесть, сколько склянок с подсоленной и подкрашенной водицей я отправила хворым! А когда в кладовой не было дел поважнее, миссис Медликотт поручала нам заготавливать хлебные катыши, или «пилюли», и, насколько я могу судить, они отлично действовали, не в последнюю очередь благодаря тому, что миссис Медликотт всегда предупреждала больного, каких симптомов выздоровления ему следует ожидать; поэтому на вопрос, помогли ли пилюльки, я неизменно слышала утвердительный ответ. Помню, один старик всегда принимал в качестве снотворного на ночь шесть хлебных пилюль – независимо от их размера и вида, подсказанных нашей фантазией; и если его дочь случайно забывала вовремя уведомить нас, что лекарство подошло к концу, он маялся без сна и терпел такие муки, «прямо хоть в гроб ложись», по его собственному выражению. Вероятно, наша метода был в чем-то сродни нынешней гомеопатии. В той же кладовой, или подсобной комнате, мы учились готовить сообразные времени года кушанья и печения: сытный праздничный пудинг и сладкие пирожки на Рождество, блины и жаренные в масле ломтики овощей и фруктов на Покаянный вторник[19], наваристую пшеничную кашу на День Матери Церкви[20], фиалковые кексы на Страстную, пижмовый пудинг на Пасху, треугольные слойки на Троицу – и так в течение всего года, по испытанным церковным рецептам, передававшимся из поколения в поколение от одной из первых прародительниц-протестанток в роду миледи.
Некоторую часть дня каждая из нас проводила в обществе леди Ладлоу и время от времени сопровождала ее в экипаже, запряженном четверкой лошадей. Миледи всегда предпочитала паре лошадей четверку, как куда более подобающий ее титулу выезд; честно говоря, с парой лошадок ее тяжелая карета могла по дороге надолго увязнуть в грязи. Вообще, для узких уорикширских проселков этот громоздкий экипаж был малопригоден, и я часто благодарила судьбу за то, что графини в тех краях большая редкость, иначе мы раньше или позже столкнулись бы на пути с другой знатной дамой – с другой каретой, запряженной четверкой, – и оказались бы в безвыходном положении: ни вбок свернуть, ни разъехаться, а уж о том, чтобы пятиться задом, ни одна из дам, полагаю, не стала бы и помышлять. Однажды страх повстречаться на узкой разбитой дороге с другой знатной леди настолько завладел моими мыслями, что я рискнула спросить миссис Медликотт, как следовало бы поступить в подобном случае, и в ответ услышала: «Тшей род титулован посше, тот и должен здать назад, это ясно». В то давнее время ее слова немало изумили меня, хотя теперь мне понятен их смысл. Постепенно я приохотилась пользоваться «Пэрством»[21] – книгой, которая прежде навевала на меня скуку. Из-за своих трусливых опасений, связанных с поездками в экипаже, я на всякий случай изучила историю титулований всех трех уорикских графов и, к своей радости, выяснила, что лорд Ладлоу стоит вторым в этом ряду, тогда как обладатель еще более древнего титула – вдовец и любитель охоты, а посему вероятность повстречать на дороге его карету была крайне мала.
Но я опять ушла в сторону от мистера Грея. Разумеется, впервые мы увидели его в церкви, в день рукоположения в пресвитерский сан. Он стоял красный как рак – так краснеют только блондины с очень светлой тонкой кожей – и казался щуплым и малорослым; его вьющиеся рыжеватые волосы были лишь слегка припорошены пудрой. Помнится, миледи тотчас отметила непорядок и сокрушенно вздохнула. Несмотря на то что после голодных тысяча семьсот девяносто девятого и тысяча восьмисотого годов пудру для волос и париков обложили налогом[22], появляться в публичном месте без толстого слоя пудры на голове считалось предосудительным: в этом усматривали революционное вольнодумство – якобинство![23] Миледи скептически относилась к воззрениям джентльмена, который отказывался носить парик, хотя сама признавала, что в ней говорит предрассудок. Во времена ее молодости без париков расхаживали только простолюдины, и парик всю жизнь ассоциировался у нее с голубой кровью и соответствующим воспитанием, а свои волосы на голове – с классом людей, творивших бесчинства в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда лорд Джордж Гордон[24] навсегда превратился для миледи в безобразное чудовище. И муж ее, и его братья, рассказывала нам миледи, должны были в свой седьмой день рождения надеть короткие панталоны и чулки и распрощаться с волосами – головы мальчикам обривали наголо; в подарок от матери, прежней леди Ладлоу, каждый из сыновей получал в свой черед красивый, завитой по последней моде паричок; и до конца своих дней они не видели собственных волос. По понятиям того времени, отказ от пудры (впоследствии подхваченный дурно воспитанными людьми) был таким же нарушением приличий, как отказ от одежды: то же санкюлотство[25], только на английский манер. Однако мистер Грей слегка пудрил волосы – достаточно, чтобы не пасть безнадежно в глазах миледи, но явно недостаточно для ее безоговорочного одобрения.
В следующий раз я увидела мистера Грея уже в нашем парадном холле, когда мы с Мэри Мейсон, готовясь сопровождать миледи в экипаже, надели свои лучшие накидки и шляпки, спустились по лестнице и лицом к лицу столкнулись с ним, ожидавшим появления ее светлости. Не сомневаюсь, что мистер Грей не впервые пришел выразить ей свое почтение, но прежде мы его здесь не видели; к тому же он отклонил приглашение миледи проводить воскресный вечер в Хэнбери-Корте (невольно вспомнишь мистера Маунтфорда, почти еженедельного нашего гостя и партнера миледи по игре в пикет…), чем отнюдь не порадовал ее светлость, как сообщила нам миссис Медликотт.
Встретившись с нами в холле, он покраснел, особенно когда мы обе сделали ему книксен. Потом слегка откашлялся, словно намереваясь заговорить, да, видно, не придумал, что сказать, – с каждым следующим покашливанием он только сильнее краснел. Стыдно признаться, но мы едва сдерживали смех, отчасти потому, что сами ужасно смутились и слишком хорошо понимали его смущение.
На наше счастье, в холл уверенной быстрой походкой вошла миледи (позабыв про трость, она всегда двигалась быстро), как бы самой своей стремительностью извиняясь за то, что заставила нас ждать, и приветствовала всех одним из тех изящных, коротких, с легким поворотом приседаний, искусство которых, боюсь, умерло вместе с нею. В ее поклонах было столько непринужденной учтивости!.. Каждое движение яснее всяких слов говорило: «Мне жаль, что я заставила вас ждать… прошу меня простить».
Она сразу направилась к камину, возле которого стоял мистер Грей, и вновь присела перед ним, на сей раз глубже, во-первых, из уважения к его сану, а во-вторых, сознавая свой долг хозяйки перед гостем, который еще не освоился в ее доме. Она спросила, не угодно ли ему пройти для разговора в ее приватную гостиную, всем своим видом показывая, что готова тотчас препроводить его туда. Но у него, что называется, накипело, и он принялся говорить взахлеб, задыхаясь, чуть ли не со слезами, все более входя в раж и выкатывая большие голубые глаза:
– Миледи, я хочу просить вас… призываю вас употребить свое благое влияние на мистера Лейтема… судью Лейтема… владельца Хатауэя.
– Вы имеете в виду Гарри Лейтема? – переспросила миледи, как только мистер Грей сделал паузу для вдоха в своей сбивчивой речи. – Я не знала, что он в комиссии[26].
– Его совсем недавно назначили, еще и месяца не прошло, как он принял присягу… Тем прискорбнее!
– Не понимаю, о чем тут сожалеть. Лейтемы владеют Хатауэем со времен Эдуарда Первого, и мистер Лейтем – добропорядочный молодой человек, хотя излишне порывист…
– Миледи! Он признал Джоба Грегсона виновным в воровстве… с таковым же успехом могли бы назвать вором меня… вопреки всем свидетельствам, которые говорят об обратном… теперь, когда дело заслушано магистратским судом, это всем очевидно. Но сквайрам важнее выступать единым фронтом, нежели судить по справедливости. Они готовы отправить Джоба в тюрьму, лишь бы потрафить мистеру Лейтему. Ведь это его первое судебное решение, говорят они; и с их стороны было бы просто невежливо заявить, что нет никаких доказательств вины осужденного. Ради бога, миледи, поговорите с джентльменами, вас они послушают, не отмахнутся, как от меня, – мол, не ваша забота!..
Надо сказать, миледи всегда горой стояла за своих, а Лейтемов из Хатауэя с семейством Хэнбери связывали родственные узы. К тому же в те времена считалось, что честь обязывает поддержать молодого судью, если по своему первому делу он вынес суровый приговор; и потом, дочь этого Джоба Грегсона недавно была уволена с должности судомойки за то, что посмела дерзить миссис Адамс, горничной миледи; и, кроме того, мистер Грей не привел ни одного довода в пользу невиновности Грегсона – он слишком спешил и, кажется, будь его воля, сейчас же погнал бы миледи в Хэнли, где находился суд. Таким образом, все складывалось против обвиняемого, тогда как за него было только голословное утверждение мистера Грея. Строго взглянув на него, миледи произнесла:
– Мистер Грей! Я не вижу, по какой причине мне или вам необходимо вмешиваться в ход событий. Мистер Гарри Лейтем весьма разумный молодой человек, он способен установить истину без нашей помощи…
– Но теперь есть новое доказательство! – перебил ее мистер Грей.
В лице миледи прибавилось строгости, и она холоднее, чем прежде, сказала:
– Полагаю, это доказательство представлено судейской коллегии, куда входят люди, дорожащие своей честью, репутацией и добрым именем своей семьи, люди, хорошо известные всему графству. Вполне естественно, что мнение одного из них имеет в глазах остальных больше веса, чем слова какого-то Джоба Грегсона – человека совсем иного свойства… его небеспочвенно подозревают в браконьерстве, и никто не знает, откуда он взялся, и живет он здесь на птичьих правах… на Хэрмановой пустоши, то бишь на общинной земле… которая, к слову сказать, не относится к нашему приходу, и следовательно, вы, как приходский священник, не в ответе за то, что там происходит. Возможно, судьи отчасти правы, когда говорят вам… к сожалению, не вполне дипломатично… что дела судейские не ваша забота, – с улыбкой прибавила миледи. – Возможно, они захотят и мне указать на мое место, если я стану вмешиваться. Вы этого не допускаете, мистер Грей?
Судя по его виду, он был крайне разочарован и, пожалуй, рассержен ее ответом. Раз или два он порывался что-то возразить, но останавливал себя на полуслове, опасаясь, должно быть, высказаться неосмотрительно; в конце концов он промолвил:
– Вероятно, я слишком много на себя беру… я человек пришлый, всего несколько недель как поселился здесь… и не мне учить местных старожилов, кто заслуживает доверия, а кто нет. – (Леди Ладлоу слегка кивнула в знак согласия – невольно, думаю я, и ее собеседник вряд ли обратил на это внимание.) – Но я абсолютно убежден в невиновности осужденного… Да и судьи не могут привести ни одного резона, кроме смехотворного обычая всенепременно соглашаться с решением вновь назначенного собрата.
Напрасно мистер Грей употребил слово «смехотворный»! Оно затмило все благоприятное впечатление, которое миледи вынесла из скромного начала его речи. Я знала, как если бы услышала из ее собственных уст, что для нее это подлинный афронт: такие эпитеты применительно к действиям тех, кто стоит рангом выше тебя, просто недопустимы, не говоря уже о вопиющей бестактности столь резких выражений, учитывая, с кем он сейчас говорил.
Леди Ладлоу ответила ему вкрадчиво и неторопливо – как и всегда в приступе сильного раздражения: для нас, хорошо изучивших ее, то была верная примета.
– Нам лучше оставить этот предмет, мистер Грей. Тут мы едва ли придем к согласию.
Лицо мистера Грея побагровело, потом краска отхлынула от щек, и он сделался страшно бледен. Казалось, они с миледи забыли о нашем присутствии, а мы испытывали такую неловкость, что боялись напомнить о себе. Все это ничуть не мешало нам с превеликим интересом следить за происходящим.
Мистер Грей выпрямил спину и расправил плечи, вмиг преисполнившись достоинства. Несмотря на тщедушную наружность, несмотря на то что еще несколько минут назад он смущался и терялся, теперь в его облике вдруг проступило величие, почти как в облике миледи.
– Да будет известно вашей светлости, что мой долг – говорить с прихожанами на любые темы, в том числе на такие, относительно которых наши мнения расходятся. Я не вправе молчать лишь потому, что другие со мной не согласны.
Большие синие глаза леди Ладлоу расширились от удивления и – о ужас! – от гнева, что кто-то смеет говорить с ней подобным образом. Боюсь, мистер Грей поступил не слишком благоразумно. Он и сам, по-видимому, опасался последствий, но твердо решил не отступать, а там будь что будет. На минуту воцарилась тишина. Затем миледи сказала ему:
– Мистер Грей, при всем уважении к вашей прямоте, я не вполне понимаю, на каком основании молодой человек вашего возраста и положения считает себя лучшим судией, нежели его многоопытный визави. Я сужу с высоты своей долгой жизни и определенного веса в обществе.
– Ежели я, мадам, будучи главой прихода, должен иметь мужество говорить правду – как я ее разумею – простым и бедным людям, я тем более не должен молчать, когда передо мной особа титулованная и богатая.
Лицо мистера Грея свидетельствовало о той крайней степени возбуждения, которая у детей всегда заканчивается слезами. В своем взвинченном состоянии он мог сказать и сделать то, что было противно его натуре и чего он никогда не сказал и не сделал бы, если бы этого не требовал от него священный долг пастора. В такие мгновения любая мелочь обретает преувеличенное значение, усугубляя душевную муку. Внезапно до его сознания дошел факт моего с Мэри присутствия, и он окончательно смешался.
Миледи вспылила:
– Не кажется ли вам, милостивый государь, что вы сильно уклонились от исходного предмета разговора? Но коли вы все твердите о вверенном вам приходе, позвольте еще раз напомнить вам, что Хэрманова пустошь лежит за его пределами и вы вовсе не в ответе за нравы и обычаи безродных пришлых людей, поселившихся на этом несчастном клочке земли!
– Мадам, как видно, я только навредил Грегсону, затеяв с вами разговор о его деле. Прошу меня простить, и на сем позвольте мне откланяться.
Он поклонился, и было видно, что он чрезвычайно расстроен. Леди Ладлоу заметила выражение его лица.
– Прощайте! – громко сказала она. – И помните: Джоб Грегсон – известный браконьер и мошенник, но вы не обязаны отвечать за все, что творится на Хэрмановой пустоши!
Ее слова настигли его уже возле дверей, и он что-то пробормотал: мы с Мэри расслышали (находясь ближе к нему), миледи – нет.
– Что он сказал? – спросила она, едва за ним закрылась дверь. – Я не услышала.
Мы с Мэри переглянулись, и я ответила:
– Он сказал, миледи: «Боже, помоги мне! Ибо я в ответе за все зло, которое не смог предотвратить».
Миледи резко повернулась к нам спиной. Впоследствии Мэри Мейсон говорила, будто бы ее светлость рассердилась на нас обеих за то, что мы присутствовали при ее разговоре с мистером Греем, а на меня еще и за то, что я передала ей его слова. Но я не чувствовала за собой вины.
Через несколько минут миледи позвала нас в экипаж.
Леди Ладлоу всегда сидела одна на сиденье, лицом по ходу движения, а мы, ее молодые компаньонки, – спиной. Таково было негласное правило, которое никому не приходило в голову оспаривать, хотя некоторым нежным барышням от такой езды иногда делалось дурно до обморока. Во избежание подобных казусов миледи в любую погоду держала окна кареты открытыми и потому временами страдала ревматизмом, но от заведенного порядка не отступала. В тот день она не следила за дорогой и кучер сам выбирал путь. В карете было непривычно тихо – миледи сидела молча, с видом серьезным и строгим. Обычно поездки с ней доставляли большое удовольствие (тем, кто не ждал неприятностей от езды спиной вперед): миледи очаровательно беседовала с нами и рассказывала о разных случаях, которые происходили с ней в тех или иных местах – в Париже и Версале во дни ее молодости; в Виндзоре, Кью и Уэймуте[27] в бытность ее фрейлиной королевы; и так далее. Но в тот день она точно воды в рот набрала. И вдруг ни с того ни с сего высунула голову в окно:
– Джон Футмен, где это мы? На Хэрмановой пустоши?
– На ней, ваша светлость, – ответил кучер-лакей в ожидании новых вопросов или распоряжений.
Миледи немного подумала и объявила, что хочет здесь сойти.
Она вышла из кареты, а мы молча посмотрели друг на друга и стали глядеть ей вослед. С присущим миледи изяществом она легко переступала маленькими ножками в туфлях на высоких каблуках (по моде времен ее молодости) с одного сухого пятна земли на другое, легко лавируя между лужами желтой застойной воды, которая вечно скапливается на поверхности глинистой почвы. Джон Футмен отправился за ней. Он очень старался сохранить важность поступи и при этом не забрызгать грязью свои безупречно белые чулки. Внезапно миледи обернулась и что-то сказала ему, после чего он возвратился к карете, весьма обрадованный и вместе с тем озадаченный.
Миледи же пошла дальше, к скоплению глинобитных хижин под дерновыми крышами у дальнего края пустоши. Издали, имея возможность видеть, но не слышать, мы с интересом наблюдали за этой пантомимой. Вероятно, леди Ладлоу была достаточно хорошо знакома с внутренним устройством подобных жилищ, чтобы замешкаться у входа и даже обратиться к кому-то из детей, игравших посреди грязных луж. Потом она все-таки скрылась в одной из лачуг. Нам показалось, что прошло немало времени, прежде чем она вышла оттуда; на самом деле, думаю, ее не было видно всего минут восемь-десять. Назад она шла, низко склонив голову, словно бы непрерывно глядя себе под ноги, чтобы не ступить в грязь, однако ее беспокоило вовсе не это, а тяжелые мысли и сомнения.
Она уселась на свое место в карете, еще не решив, куда ехать дальше. Джон Футмен стоял у окошка с непокрытой головой и ждал приказа.
– В Хатауэй! А вы, голубушки, если устали или должны выполнять задание миссис Медликотт, можете вернуться домой. Я довезу вас до поворота на Барфорд, оттуда быстрым шагом всего четверть часа.
К счастью, мы не кривя душой могли сказать ей, что миссис Медликотт в нас не нуждается. Пока мы с Мэри сидели одни и перешептывались, мы обе пришли к выводу, что миледи наверняка отправилась в дом Джоба Грегсона, и теперь сгорали от любопытства узнать, чем все закончится. Какая уж тут усталость! Короче говоря, мы поехали с ней в Хатауэй. Хозяин поместья, мистер Гарри Лейтем, холостяк лет тридцати – тридцати пяти, лучше чувствовал себя на приволье, нежели в светской гостиной и обществу дам предпочитал компанию таких же, как он, любителей охоты.
Миледи, разумеется, не вышла из кареты: мистер Лейтем обязан был выказать свое почтение и предстать перед ней. Она лишь велела его дворецкому (который сильно смахивал на егеря и этим разительно отличался от нашего напудренного, почтенного, безупречного джентльмена-дворецкого в Хэнбери) передать от нее поклон своему господину и сказать, что она желала бы переговорить с ним. Вообразите, как мы обрадовались и навострили уши, дабы ничего не упустить из предстоявшего разговора, хотя очень скоро радость сменилась сожалением – когда мы увидели, насколько смутило наше присутствие бедного сквайра. Ему и без того было бы неприятно отвечать на вопросы миледи, а тут пришлось держать речь перед зрителями в лице двух любопытных барышень!
– Помилуйте, мистер Лейтем, – без предисловий начала миледи, слишком взволнованная своими мыслями, чтобы соблюдать политес, – что это за история с Джобом Грегсоном?
Вопрос рассердил мистера Лейтема, но он не посмел выразить недовольство в словах.
– Я выписал ордер на взятие его под стражу, миледи, – за воровство. Только и всего. Вам, несомненно, известна его гнилая натура. Он без зазрения совести расставляет силки и сети на дичь и ловит рыбу, где ему вздумается. От браконьерства до воровства один шаг!
– Верно, верно, – согласилась леди Ладлоу: именно по этой причине браконьерство наводило на нее ужас. – Но я полагаю, человека сажают в тюрьму не за дурную натуру.
– А как же бродяги и нищие? – напомнил мистер Лейтем. – Человека можно отправить в тюрьму за бродяжничество – не за какой-то особый проступок, заметьте, а за образ жизни[28].
Казалось, он сумел взять верх над миледи, но после недолгой паузы она парировала:
– В данном случае вы отправили человека в тюрьму, признав его виновным в воровстве. А жена его уверяет, что в тот день он находился за несколько миль от Хоумвуда, где произошла кража, и может это доказать. Она говорит, что у вас есть доказательство его невиновности…
Мистер Лейтем, насупившись, перебил ее:
– Ничего подобного у меня не было, когда я выписал ордер на арест. А если у моих коллег появились новые доказательства, они могли принять их во внимание и вынести то решение, какое считали нужным. С них и спрашивайте. В конце концов, это они отправили его в тюрьму. Я не обязан за них отвечать.
Миледи редко выказывала нетерпение, но в тот раз мы видели, как в ней нарастает досада: ее туфелька на высоком каблуке беспрестанно постукивала по полу кареты. И тут мы с Мэри со своего сиденья напротив миледи увидели сквозь открытую дверь усадьбы фигуру мистера Грея в полумраке прихожей. Очевидно, приезд леди Ладлоу прервал его разговор с мистером Лейтемом, но он должен был хорошо слышать каждое ее слово. Ни в коей мере не подозревая об этом, миледи возразила мистеру Лейтему, пытавшемуся снять с себя всякую ответственность, почти теми же словами, которые услышала от мистера Грея (в нашей передаче) каких-нибудь два часа назад:
– Уж не хотите ли вы сказать, мистер Лейтем, что не считаете себя ответственным за всякую несправедливость или беззаконие, каковые вы могли бы предотвратить, но не предотвратили? А в этом деле первоисточником неправедного суда стала ваша собственная ошибка. Жаль, вас не было со мной, когда по пути к вам я зашла в дом этого несчастного, и вы не видели, в каком бедственном положении находится его семья.
Она понизила голос, и мистер Грей, чтобы лучше слышать ее, сделал несколько шагов вперед, скорее всего безотчетно. Теперь мы с Мэри ясно видели его, а мистер Лейтем наверняка услыхал за спиной его шаги и понял, что священник слышит и одобряет каждое слово миледи. Мистер Лейтем еще больше насупился, однако деваться некуда – миледи есть миледи! – и он не смел говорить с ней так, как говорил бы с мистером Греем. Леди Ладлоу заметила на его лице выражение угрюмого упрямства, и это вывело ее из себя, я никогда еще не видела ее в таком раздражении.
– Уверена, сэр, что вы не откажетесь принять от меня залог. Предлагаю отпустить осужденного под залог и мое поручительство: я обязуюсь, что он явится в суд на последующие слушания. Что вы на это скажете, мистер Лейтем?
– Миледи, по закону осужденный за воровство не может быть отпущен под залог.
– Полагаю, закон писан для обычных случаев. Мы же говорим о случае необычном. Исключительно вам в угоду, как я узнала, и вопреки всем доказательствам человека посадили за решетку. Через два месяца он сгниет в тюрьме, а его жена и дети умрут с голоду. Я, леди Ладлоу, беру его на поруки и обязуюсь обеспечить его явку на слушания в ходе ближайшей квартальной сессии[29].
– Но это будет нарушение закона, миледи!
– Ба-ба-ба! Кто составляет законы? Такие, как я, – в палате лордов; такие, как вы, – в палате общин. И мы, принимающие законы в часовне Святого Стефана[30], можем позволить себе иногда пренебречь их формальной стороной, ежели твердо знаем, что за нами правда, что мы творим справедливость в своем отечестве, среди своего народа.
– Да за такие вольности лорд-лейтенант[31], как только ему донесут, лишит меня судейской должности!
– Это было бы на благо графству, Гарри Лейтем, да и вам тоже… если вы собираетесь продолжать в том же духе. Хороши жрецы правосудия – что вы, что ваши собратья-магистраты! Я всегда говорила, что честный деспотизм – наилучшая форма правления, а теперь и подавно так считаю, глядя на ваш судейский кворум. Милые мои! – внезапно обратилась она к нам. – Если вас не слишком утомит пешая прогулка до дому, я попрошу мистера Лейтема сесть ко мне в карету и мы сейчас же поедем в Хэнли вызволять беднягу из тюрьмы.
– Молодым леди не подобает в такой час одним идти по полям, – неуклюже возразил мистер Лейтем, пытаясь уклониться от поездки с миледи и вовсе не горя желанием прибегнуть к противозаконным мерам, на которые она его толкала.
И тогда вперед смело выступил мистер Грей. Он готов был на все, лишь бы устранить препятствие, способное помешать освобождению узника. Видели бы вы лицо леди Ладлоу, когда она внезапно поняла, что он все это время, затаив дыхание, следил за ее беседой с мистером Лейтемом! На наших глазах разыгралась поистине театральная сцена. Ведь все, что она говорила, было зеркальным отражением того, что час или два назад, к ее великому неудовольствию, говорил мистер Грей. Она распекала мистера Лейтема в присутствии человека, которому сама же отрекомендовала сквайра истинным джентльменом, столь благоразумным и столь уважаемым в графстве, что нельзя было сомневаться в добропорядочности его поступков. Итак, мистер Грей вызвался проводить нас в Хэнбери-Корт. И еще прежде чем он успел закончить фразу, к миледи вернулось ее обычное самообладание. В тоне ее ответа ему не сквозило ни удивления, ни досады.
– Благодарю вас, мистер Грей. Я не знала, что вы здесь, но, кажется, я догадываюсь, зачем вы здесь. Наша нечаянная встреча напомнила мне о том, что я должна повиниться перед мистером Лейтемом. Мистер Лейтем, я говорила с вами довольно резко… совсем позабыв – пока не увидела мистера Грея, – что не далее как сегодня мы с ним решительно разошлись во мнениях по поводу дела Грегсона: я придерживалась точно такого же, как у вас, взгляда на всю эту историю, полагая, что для нашего графства будет лучше избавиться от Джоба Грегсона или любого другого вроде него, виновен он в краже или нет. Мы не вполне дружески расстались с мистером Греем, – прибавила она, слегка поклонившись священнику, – но потом я случайно оказалась возле дома Джоба Грегсона и увидела его жену… И тогда поняла, что мистер Грей прав, а я заблуждалась. Поэтому с непоследовательностью, свойственной, как известно, нашему полу, я приехала сюда выговаривать вам, – с улыбкой сказала миледи мистеру Лейтему, все еще насупленному, даже после ее улыбки, – за то, что вы упорствуете в своем мнении, которое я разделяла еще час назад. Мистер Грей, – завершила она с поклоном, – молодые леди премного благодарны вам за любезное предложение; примите также и мою благодарность. Мистер Лейтем, вы не откажете съездить со мной в Хэнли?
Мистер Грей низко поклонился и густо покраснел. Мистер Лейтем что-то пробормотал – слов мы не разобрали; по всей видимости, в них выразилось вялое сопротивление. Пропустив его ропот мимо ушей, леди Ладлоу невозмутимо ждала, когда он займет свое место. И едва мы сошли с проезжей дороги, я краем глаза заметила, как мистер Лейтем с видом побитой собаки полез в карету. Признаться, я ему не завидовала: миледи была настроена очень решительно. Но я и теперь думаю, что он справедливо считал цель их поездки противозаконной.
В нашей пешей прогулке до дому не было ничего, кроме скуки. Честно говоря, мы совсем не боялись ходить одни и нам было бы куда веселее без такого провожатого, как мистер Грей, который наедине с нами тотчас превратился в неловкого, беспрестанно краснеющего молодого человека. Возле каждого перелаза в изгороди он впадал в суетливое замешательство – то первый лез наверх, желая оттуда помочь нам взобраться, то вдруг вспоминал, что полагается пропустить дам вперед, и торопливо возвращался вниз. Он был напрочь лишен светской непринужденности, как заметила однажды миледи, но, когда дело касалось пасторского служения, в нем просыпалось необычайное достоинство.
Глава третья
Если мне не изменяет память, почти сразу после описанных выше событий я впервые почувствовала боль в бедре, а кончилось тем, что я на всю жизнь осталась калекой. После нашей прогулки в сопровождении мистера Грея я, кажется, еще только раз ходила пешком и тогда уже заподозрила (хотя никому ничего не сказала), что для меня не прошел даром смелый соскок с верхней ступеньки перелаза, который я по неосторожности совершила во время путешествия от усадьбы мистера Лейтема до Хэнбери-Корта.
С тех пор много воды утекло, и на все воля Божья… Я не стану утомлять вас рассказом о том, какие мысли и чувства овладели мной, когда я поняла, что за жизнь ожидает меня… о том, как часто я поддавалась отчаянию и хотела скорей умереть. Вы сами можете представить, каково это для здоровой, подвижной, деятельной семнадцатилетней девушки, жаждавшей преуспеть в жизни, чтобы, используя свое новое положение, помогать своим братьям и сестрам, – каково в одночасье превратиться в беспомощного инвалида без всякой надежды на исцеление и чувствовать себя лишь обузой. Скажу только одно: даже это великое, беспросветное горе подчас оборачивалось благословением, и главным подарком судьбы была доброта леди Ладлоу, взявшей меня на свое особое попечение. Теперь, на склоне лет, когда я целыми днями лежу совсем одна, прикованная к постели, мысли о ней согревают мне душу!
Миссис Медликотт оказалась превосходной сиделкой, и я навеки благодарна ее светлой памяти. Однако там, где требовался не просто уход, ей бывало нелегко со мной. Я подолгу не могла унять горькие слезы – боялась, что мне придется уехать домой, и спрашивала себя, что же будет, ведь моим домашним и без калеки несладко живется… К этому страху примешивались другие, от них гудела голова, но далеко не все свои тревоги я могла откровенно высказать миссис Медликотт. Она не знала иного способа утешить меня, кроме как незамедлительно принести мне что-нибудь «вкусненькое» или «питательное», искренне полагая, что чашка подогретого желе из телячьих копыт есть наилучшее средство от любых невзгод.
– Вот, милая, покушайте, – приговаривала она. – Полно вам горевать по тому, чего уже не исправишь.
Вероятно, убедившись наконец в бесполезности самого расчудесного съестного, она признала свое поражение. Однажды я, хромая, сошла вниз, чтобы увидеться с доктором, которого провели в гостиную миссис Медликотт – комнату, сплошь уставленную буфетами со всевозможными припасами и сластями (благодаря ее неустанным трудам в доме всегда были лакомства, хотя сама она к ним не притрагивалась), – а когда возвращалась к себе, сославшись на необходимость разобрать свои вещи, но с тайным намерением проплакать остаток дня, меня на полпути перехватил Джон Футмен, посланный миледи сообщить мне, что я должна сейчас же явиться в ее «будуар» – приватную гостиную, расположенную, как я уже говорила, описывая свой приезд в Хэнбери, в самом конце длинной анфилады. С того дня я туда больше не заходила. Когда миледи звала нас почитать ей вслух, она садилась в своей «тихой» комнатке, или кабинете, позади которого и находился ее будуар. Должно быть, лица высокого звания не чувствуют потребности в том, что столь ценится нами, нижестоящими, – я говорю о возможности уединиться. Мне кажется, в личных покоях миледи не было помещения с одной-единственной дверью – каждое имело по меньшей мере две, а некоторые три или четыре. Отчасти это объяснялось необходимостью держать под рукой прислужниц: при спальне – горничную Адамс, а при будуаре и кабинете – миссис Медликотт, которой предписано было сидеть в боковой комнате, примыкавшей к будуару миледи (с противоположной стороны к нему примыкала общая гостиная), и являться к госпоже по первому ее зову.
Чтобы яснее представить себе устройство дома, нарисуйте мысленно большой квадрат и разделите его чертой пополам. На одном конце черты будет парадный вход с главным холлом; на другом – задний вход с террасы, торцом упирающейся в старую крепостную стену из серого камня с низкой массивной дверью, некогда служившей потайным ходом; за стеной располагаются службы и хозяйственный двор. Люди, приходившие к миледи по делам, обыкновенно пользовались задним входом. Для самой миледи это был кратчайший путь в сад из ее личных покоев: ей всего только нужно было пройти через комнату миссис Медликотт в малый холл, выйти на террасу, протянувшуюся до угла дома, повернуть направо и по широкой лестнице с низкими ступенями спуститься в прелестный сад с убегавшими вдаль лужайками, веселыми цветниками, торжественными лаврами и прочими декоративными кустами, пышно-зелеными или усыпанными соцветиями; еще дальше высились деревья – тут раскидистые вязы, там ажурные лиственницы, чьи нижние ветви почти касались земли. Все это великолепие было оправлено, так сказать, в темную раму лесов. В годы правления королевы Анны[32] старый замок хотели перестроить, но на полную модернизацию денег не хватило, поэтому новыми высокими окнами обзавелись только парадные покои, включая анфиладу гостиных и комнаты с видом на террасу и сад; ко времени моего приезда в Хэнбери даже новые окна успели состариться – летом и зимой их обвивали одревесневшие побеги ползучей розы, жимолости и пираканты.
Но вернемся к тому дню, когда я с трудом доковыляла до покоев миледи, изо всех сил стараясь скрыть, что чуть не плачу от боли. Не знаю, догадалась ли она о моих мучениях. По ее словам, она послала за мной, желая навести порядок в ящиках своего бюро, для чего ей нужна помощница. Миледи попросила меня – словно я делала ей одолжение – поудобнее устроиться в глубоком мягком кресле возле окна. (К моему приходу все было уже приготовлено – и скамейка под ноги, и столик у подлокотника.) Возможно, вы удивитесь, отчего она не предложила мне сесть или лечь на диван. Ответ очень прост: дивана в ее комнате не было, хотя через день или два он там появился. Мне кажется, что и большое мягкое кресло принесли туда нарочно для меня – при нашем первом свидании миледи сидела в другом, я его отлично запомнила: резное, с позолотой, увенчанное графской короной кресло. Однажды, когда миледи не было в комнате, я решила из любопытства посидеть на нем – проверить, сильно ли оно стесняет движения, – и нашла его страшно неудобным. Мое же кресло (которое я позже не только называла, но и считала своим) было до того мягкое и уютное, что тело поистине блаженствовало в нем.
Несмотря на удобство моего кресла, в тот первый день (да и в последующие, пока все было внове для меня) я чувствовала себя довольно скованно. Однако надоедливая боль, из-за которой я постоянно пребывала в унынии, сама собой утихла, как только мы принялись извлекать из ящиков старинного бюро разные курьезные вещицы. Многие из них вызывали у меня немое изумление: зачем нужно было их сохранять? Скажем, какой-нибудь клочок бумаги с десятком написанных на нем обычных, незначительных слов, или обломок хлыстика для верховой езды, или невзрачный камень – таких камней я могла бы набрать целый кулек во время любой прогулки. Теперь я понимаю, что во мне говорило невежество. Ведь то были куски драгоценного мрамора, объяснила миледи, из которого выкладывались полы во дворцах римских императоров. Давным-давно, когда она была еще молоденькой девушкой и совершала большое путешествие по континентальной Европе, ее родственник, сэр Хорас Манн, тогдашний не то посол, не то посланник во Флоренции[33], советовал ей сходить на поля, где крестьяне расчищали почву под посадку лука, и собрать все, какие попадутся, кусочки мрамора. Она послушалась его и собранный мрамор хотела отдать в работу, чтобы ей сделали столешницу, да так и не отдала – камни, облепленные грязью с луковых полей, многие годы лежали в ящиках бюро. Однажды я предложила вымыть их с мылом, но миледи сказала: ни в коем случае, ведь это «земля Рима», хотя, по-моему, грязь – она и есть грязь.
А вот ценность других реликвий мне не нужно было объяснять. Я имею в виду локоны волос (при каждом имелась аккуратная памятная записочка), на которые миледи всегда смотрела с великой печалью; или же медальоны и браслеты с миниатюрными портретами – действительно крошечными в сравнении с теми, какие делают в наши дни, оттого их по праву называли миниатюрами: иногда, чтобы разглядеть выражение лица или отдать должное искусству живописца, требовалось вооружиться микроскопом. Мне кажется, маленькие эмалевые портреты не отзывались в душе миледи такой неизбывной болью, как упомянутые локоны волос. Оно и понятно, ведь волосы – частичка настоящей материи, оставшаяся от некогда живых и горячо любимых существ, к которым более уже не прикоснешься, которых нельзя ни обнять, ни приласкать, ибо они давно лежат в земле, обезображенные, неузнаваемые, – за исключением, может быть, волос, тех же самых, что в ее скорбной коллекции. В конце концов, портреты – всего лишь картинки, и люди на них ненастоящие, при всем внешнем сходстве с оригиналом. Спешу оговориться, что это мои собственные домыслы: миледи редко высказывала свои чувства. Во-первых, она принадлежала к титулованной знати, а люди ее круга, по ее же словам, говорят о своих чувствах только с равными себе, да и то лишь в особых случаях. Во-вторых (и здесь я вновь хочу поделиться с вами собственными размышлениями), она была единственным ребенком в семье, наследницей солидного состояния, и потому приучила себя больше думать, нежели говорить, как и подобает всякой хорошо воспитанной наследнице. В-третьих, она намного пережила своего мужа, и в годы ее вдовства рядом с ней не было близкого человека одних с нею лет, с которым ее связывали бы общие воспоминания, минувшие радости и печали. Дольше других при ней состояла миссис Медликотт, в некотором роде ее подруга; к миссис Медликотт миледи обращалась почти по-родственному и чаще, чем ко всем прочим домочадцам, вместе взятым. Но та была по природе молчалива и не расположена к пространным ответам. В итоге больше других с леди Ладлоу разговаривала горничная Адамс.
Проведя со мной около часа за разбором вещей в бюро, миледи объявила, что на сегодня наша работа окончена; к тому же подошло время ее ежедневной прогулки в карете. Она оставила меня одну, а чтобы я не скучала, возле моего кресла по одну руку лежал том гравюр с картин мистера Хогарта[34] (не рискну приводить их названия, хотя миледи определенно не видела в них ничего зазорного), а по другую, на аналое, – ее огромный молитвенник, раскрытый на вечерних псалмах для чтения в тот день. Мельком взглянув на приготовленные для меня книги, я нашла себе иное развлечение и начала с любопытством осматривать комнату. Стена с камином была вся обшита дубовыми панелями, уцелевшими от старого убранства дома, тогда как другие стены были оклеены расписными индийскими обоями с изображениями птиц, зверей и насекомых. На панелях и даже на потолке теснились гербы различных семейств, с которыми Хэнбери породнились через брак. Интересно, что в комнате почти не видно было зеркал, а между тем прапрадед миледи, служивший послом в Венеции, привез оттуда множество зеркальных пластин, и одна из парадных гостиных, богато отделанная зеркалами, так и называлась – Зеркальная зала. Зато в изобилии имелись фарфоровые вазы всех форм и размеров, как и фарфоровые чудища, или божки, на которых я не могла смотреть без содрогания, хотя миледи, кажется, чрезвычайно ими дорожила. Срединная часть узорного паркета, набранного из дерева редких пород, была покрыта толстым ковром; двери располагались одна против другой и состояли из двух тяжелых створок, разъезжавшихся в стороны по вделанным в пол медным желобам (ковер не позволял установить обычные распашные двери). В комнате было два высоких, почти под потолок, но очень узких окна, и под каждым имелась глубокая ниша с сиденьем. В воздухе разливалось благоухание – частично от цветов за окнами, частично от стоявших внутри огромных ваз-ароматниц, называемых «попурри». Миледи очень гордилась своим умением подбирать ароматы. Ничто так не выдает породу, как тонкое обоняние, уверяла она. При ней мы никогда не упоминали о мускусе: все в доме знали о ее отвращении к этому запаху и о том, что за неприязнью к нему скрывалась целая теория, будто бы всякий аромат животного происхождения не обладает изысканной чистотой и не может доставить удовольствие человеку благородной крови, потому что в его семье из поколения в поколение прививалась тонкость чувств. Посмотрите, говорила она, как охотники выводят породу собак с особо острым нюхом и как эта способность передается от одного поколения животных к другому; не станем же мы подозревать собак с чутким носом в фамильной спеси и похвальбе потомственными привилегиями: наследственный дар – не фантазия! Так вот, в Хэнбери-Корте о мускусе никто не заикался. Под запретом были также бергамот[35] и полынь, несмотря на свою несомненно растительную природу. Два этих запаха миледи считала вульгарными. Если она приглядывалась к молодому человеку – скажем, узнав, что тот сватается к ее служанке, – и видела, как он в воскресенье выходит из церкви с веточкой одного из упомянутых растений в петлице[36], лицо ее омрачалось. Ей уже чудился любитель грубых удовольствий; я даже не исключаю, что из любви к острым ароматам миледи делала вывод о наклонности к пьянству. Однако вульгарные запахи не следовало путать с банальными. К банальным ею относились фиалка, гвоздика, шиповник, а также роза и резеда (в саду на клумбе) или жимолость (в тенистых аллеях). Украсить свое платье любым из этих цветков вовсе не означало проявить дурновкусие; сама королева, восседая на троне, возможно, не отказалась бы приколоть себе на грудь душистый букетик. В пору цветения гвоздик и роз каждое утро на стол миледи ставили вазу со свежими цветами. Среди наиболее стойких запахов миледи отдавала предпочтение лаванде и медовнику – в виде натуральных сухих смесей, а не готовых экстрактов. Лаванда напоминала ей о старых обычаях, о скромных деревенских палисадниках и их хозяевах, которые с поклоном подносили ей синие пучки лаванды. Медовник же рос в дикой природе, на лесистых склонах с легкой почвой и чистым воздухом. Дети бедняков ходили собирать для миледи это растение и за свои труды всегда получали от нее блестящие новенькие пенни; каждый год в феврале милорд, ее сын, присылал ей мешочек пенни, только что отчеканенных на лондонском монетном дворе.
Розовое масло миледи с трудом выносила: оно ассоциировалось у нее с лондонским Сити и купчихами – чересчур приторный, навязчивый, тяжелый запах. По той же причине она не жаловала ландыши. С виду ландыш бесспорно прекрасен (миледи никогда не скрывала своего восхищения), в нем все изысканно – цвет, форма… все, кроме запаха. Слишком крепок! Великая наследственная способность, которой так гордилась миледи – и гордилась не зря, ибо я ни у кого больше не наблюдала столь тонко развитого обоняния, – наглядно обнаруживалась в том, что миледи могла своим чутким носом уловить нежнейшую ноту аромата, поднимавшегося от грядки садовой земляники поздней осенью, когда листья сохнут и отмирают. Одной из немногих книг в комнате миледи был томик Бэконовых «Опытов»; и если бы вам вздумалось взять его в руки и раскрыть наугад, вы непременно попали бы на эссе о садах[37].
– Послушайте, – говорила, бывало, миледи, – что пишет великий философ и государственный муж. «За ней, – (чуть выше он упоминает фиалку, моя милая), – можно назвать розу моховую…» Помните тот большой куст на углу южной стены, под окнами Голубой гостиной? Это и есть моховая, или мускусная, роза, прозванная еще розой Шекспира[38]; ныне она почти перевелась в нашем королевстве. Но вернемся к лорду Бэкону: «…и земляничный лист, который пахнет особенно сладко, когда увядает»[39]. Так вот, представители рода Хэнбери всегда умеют распознать этот упоительный, нежный, сладостно свежий земляничный дух. Видите ли, во времена лорда Бэкона не заключалось столько браков между королевским двором и Сити, как в последующие, начиная с правления его величества Карла Второго, который вечно страдал от нехватки денег. Но в эпоху королевы Елизаветы[40] родовая английская знать была еще совершенно отдельной людской породой; никто ведь не спорит, что ломовые лошади (пусть и очень полезные на своем месте) – не то же самое, что чистокровные Чилдерс или Эклипс[41], хотя все они принадлежат к одному виду животных. Точно так же те из нас, в ком течет славная древняя кровь, отличаются от прочих людей. Следующей осенью, моя милая, непременно испытайте себя – сможете ли вы услышать дивный аромат засыхающих листьев садовой земляники. Как-никак в ваших жилах есть толика крови Урсулы Хэнбери, и это дает вам надежду.
Но в октябре, сколько бы я ни принюхивалась, все было впустую, и миледи, не без волнения ожидавшая, чем закончится наш маленький опыт, отбраковала меня как негодный гибрид. Не скрою, я тяжело переживала свою неудачу, особенно когда миледи, словно для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство, приказала садовнику посадить земляничную грядку у той стороны террасы, куда смотрели ее окна.
Но я опять перескакиваю с места на место, нарушая последовательность событий, по мере того как мне вспоминается то одно, то другое. Остается надеяться, что на старости лет я все же не уподобилась небезызвестной миссис Никльби с ее бессвязными речами![42] (Книжку про похождения мистера Никльби мне в детстве читали вслух.)
Мало-помалу я стала все дни проводить в будуаре миледи – иногда подолгу сидела в своем покойном кресле с каким-нибудь тонким шитьем для нее, или расставляла по вазам цветы, или раскладывала старые письма по разным стопкам в соответствии с почерком, чтобы затем миледи легче было навести в них порядок – какие уничтожить, а какие сохранить, – ввиду ее неминуемой смерти. Когда в комнате поставили диван, миледи нередко приказывала мне лечь и отдохнуть, если видела, что я внезапно побледнела. Еще я каждый день, превозмогая боль, совершала короткую прогулку по террасе – на этом настаивал доктор, и я подчинилась в угоду миледи.
Пока я своими глазами не увидела изнанку повседневной жизни гранд-дамы, жизнь эта рисовалась мне нескончаемой чередой забав и удовольствий. Не знаю, как другие титулованные особы, но миледи не терпела праздности. Начать с того, что она должна была постоянно вмешиваться в управление обширной вотчиной Хэнбери. В свое время имение было заложено, а вырученные за него деньги пошли на улучшение шотландских владений покойного милорда; однако миледи непременно желала выплатить долг по закладной, дабы после ее смерти Хэнбери-Корт без каких-либо обременений унаследовал ее сын, тогда уже носивший титул графа Хэнбери. Полагаю, в ее глазах сей титул (хотя и доставшийся ему по женской линии) весил больше, чем титул лорда Ладлоу вкупе с еще пятью или шестью другими, менее значимыми.
Для того чтобы освободить имение из залога, требовалось вести хозяйство умно и осмотрительно, и миледи, не жалея сил, старалась во все вникать сама. У нее имелся гроссбух с вертикально расчерченными страницами – на каждой по три столбца. В первый заносились дата и имя арендатора, обратившегося к ней с письмом по какому-то делу; во втором кратко излагалось содержание письма, которое обыкновенно сводилось к той или иной просьбе. Однако продираться к просьбе нужно было через такие дебри совершенно излишних слов, несусветных разъяснений и пустых оправданий, что управляющий мистер Хорнер недаром сравнивал это занятие с поиском иголки в стоге сена. Так вот, во втором столбце помещалась та самая «иголка», очищенная от словесной шелухи, и миледи, просматривая наутро свежие записи в гроссбухе, сразу могла ухватить суть обращения просителя. Иногда она требовала показать ей исходное письмо, иногда просто отвечала «да» или «нет»; нередко посылала за очками и документами, которые внимательно изучала вместе с мистером Хорнером на предмет соответствия некоторых просьб (к примеру, о разрешении вспахать пастбище) условиям договора аренды. По четвергам с четырех до шести часов пополудни она принимала арендаторов лично. Утренние часы больше устроили бы миледи, если говорить о ее персональном удобстве, и, насколько мне известно, в былые времена эти приемы (аудиенции на языке миледи) всегда происходили до полудня. На призывы мистера Хорнера вернуться к прежней практике миледи отвечала, что для фермера это означало бы потерять целый день, ведь ему нужно было бы прилично одеться и до обеда забыть про работу (у себя дома миледи желала видеть своих арендаторов одетыми как на праздник; возможно, она не проронила бы ни слова, просто медленно вынула бы очки, молча водрузила их на нос и смерила бедолагу в грязных обносках таким строгим, осуждающим взглядом, что надо было обладать поистине крепкими нервами, чтобы не вздрогнуть и не уразуметь в тот же миг: как ты ни беден, прежде чем в следующий раз показаться в приемной ее светлости, научись пользоваться водой и мылом, иголкой и ниткой). По четвергам для арендаторов из дальних мест в столовой для прислуги накрывали ужин, к которому приглашались и все иные приходящие. Хотя время дорого, говаривала миледи, и после беседы с ней у них остается не так уж много часов для работы, люди нуждаются в пище и отдыхе, и она сгорела бы со стыда, если бы за тем и другим они отправились в трактир «Атакующий лев» (ныне переименованный в «Герб Хэнбери»). За ужином арендаторы могли вдоволь пить пиво, а когда еда была убрана, перед каждым из сидевших за столом ставили кружку доброго эля и старший из них, встав с места, провозглашал тост за здоровье мадам. После эля гостям полагалось разойтись по домам; во всяком случае, других бодрящих напитков не подавали. Арендаторы называли миледи не иначе как «мадам»: для них она была в первую голову замужняя наследница владений и титула Хэнбери и только потом вдова лорда Ладлоу, о коем ни сами они, ни их предки ничего не знали; более того, имя покойного лорда вызывало у них глухое неодобрение, истинную причину которого сознавали лишь те немногие, кто понимал, что означало взять ссуду под залог имения и потратить деньги мадам на обогащение худых шотландских угодий милорда.
Я совершенно уверена – постоянно находясь, так сказать, за кулисами и пользуясь возможностью многое видеть и слышать, пока сама неподвижно сидела или лежала в комнате миледи, связанной открытыми в течение дня дверями с соседней приемной, где леди Ладлоу обсуждала дела с управляющим и давала аудиенции своим арендаторам, – так вот, повторю, я уверена, что мистер Хорнер про себя тоже досадовал на злосчастный залог, съедавший уйму денег. И вероятно, когда-то он все же высказал свои мысли миледи: в ее обращении с ним ощущался легкий холодок обиды, а в его покорной почтительности – признание вины, хотя временами его несогласие вновь прорывалось наружу; это случалось каждый раз, когда нужно было платить процент по закладной или когда миледи снова и снова отказывалась тратить деньги на свои личные потребности, что мистер Хорнер считал абсолютно необходимым и приличествующим ей как наследнице Хэнбери. Ее допотопные громоздкие экипажи не шли ни в какое сравнение с усовершенствованными повозками окрестных аристократов. Мистер Хорнер мечтал бы заказать наконец для миледи новую карету. Под стать экипажам были и лошади, уже выслужившие свой срок, а между тем лучшие жеребцы из конюшни миледи продавались за наличные. Ну и так далее. Милорд, ее сын, возглавлял посольство в какой-то иностранной державе, и мы все гордились его блестящими успехами, однако высокое положение предполагает большие расходы, и миледи скорее согласилась бы сесть на хлеб и воду, чем просить сына помочь ей выкупить поместье из заклада, притом что это было бы только в его интересах.
Я замечала, что со своим верным и неизменно почтительным управляющим миледи говорила иногда строже, чем с другими, угадывая, вероятно, его молчаливое несогласие с распределением доходов от родового имения Хэнбери – слишком дорого, на его взгляд, обходилось ей поддержание земель и статуса графа Ладлоу.
Покойный лорд, супруг миледи, был моряк и любил жить широко, как многие моряки, если верить слухам (сама я моря даже близко не видала), однако же и о выгоде своей не забывал. Так или нет, теперь не важно, – миледи любила его и чтила его память, всегда с теплотой отзываясь о муже, которого, без сомнения, высоко ставила.
Мистер Хорнер, родившийся в имении Хэнбери, поначалу служил стряпчим у одного поверенного в Бирмингеме и за несколько лет городской жизни многое понял в современном устройстве общества. И хотя все свои знания он употреблял исключительно на благо миледи, она инстинктивно противилась любым новым веяниям, а в некоторых сентенциях управляющего ей чудился отвратительный привкус торгашества и корысти. Думаю, она охотно вернулась бы к первобытной системе хозяйствования без всякого участия денег – жила бы тем, что производится на ее земле, а излишки продукции обменивала бы на другие необходимые вещи.
По выражению миледи, мистер Хорнер заразился новомодными воззрениями (нынче их, правда, сочли бы безнадежно устаревшими). Так или иначе, некоторые идеи мистера Грея произвели на ум мистера Хорнера действие, сравнимое с действием искр, упавших на паклю, несмотря на то что упомянутые джентльмены в своих рассуждениях двигались, так сказать, из разных отправных точек. Мистер Хорнер хотел, чтобы каждый живущий на этом свете был человеком полезным и деятельным и чтобы как можно больше полезной деятельности способствовало процветанию земель и рода Хэнбери. Вот почему он подхватил модный призыв к образованию.
Мистера Грея не слишком заботило (заботило слишком мало, по мнению мистера Хорнера), как обстоят дела на этом свете и какое положение тот или иной человек или семейство занимает в нашем земном мире; он желал приуготовить каждого к миру грядущему, для чего необходимо понять и принять определенные доктрины веры, а значит, человек должен хоть что-то знать об этих доктринах. Вот почему мистер Грей ратовал за образование. Мистер Хорнер всегда с волнением ждал от ребенка ответа на следующий вопрос из катехизиса: «В чем заключается твой долг перед твоим ближним?»[43] Тогда как мистер Грей больше всего хотел бы услышать прочувствованный ответ на вопрос: «Что такое внутренняя и духовная благодать?»[44] А леди Ладлоу, проверяя по воскресеньям наше знание катехизиса, особенно низко склоняла голову, когда звучал ответ на вопрос: «В чем заключается твой долг перед Богом?»[45] В ту пору, о которой я вам рассказываю, вопросы мистера Хорнера и мистера Грея чаще всего оставались без ответа.
Тогда в Хэнбери еще не было воскресной школы, и мистер Грей страстно желал исправить этот недостаток. Мистер Хорнер смотрел дальше: он надеялся, что в недалеком будущем здесь откроют полноценную общеобразовательную школу, которая готовила бы толковых работников для пользы имения. Миледи и слышать не хотела ни о какой школе; в ее присутствии даже отчаянный смельчак не посмел бы обмолвиться о подобных планах.
И мистер Хорнер решил тайком научить какого-нибудь способного, смышленого мальчика чтению и письму, чтобы со временем воспитать себе помощника. Из всех деревенских мальчишек самым подходящим для этой цели показался ему сын Джоба Грегсона, хотя из всех он был самый грязный и оборванный. Однако именно на него пал выбор мистера Хорнера. О затее своего управляющего миледи не ведала ни сном ни духом (она никогда не слушала сплетен, да и как бы она их услышала, если никто не смел первым заговорить с нею и только ждал ее вопросов), пока не случилось одно происшествие, о котором я вам сейчас и поведаю.
Глава четвертая
Итак, миледи не подозревала о взглядах мистера Хорнера на образование как способ превратить людей в полезных членов общества и еще меньше – о воплощении его взглядов на практике через избрание Гарри Грегсона своим учеником и протеже; скорее всего, до упомянутого выше досадного происшествия она понятия не имела о существовании Гарри. Теперь расскажу по порядку, как было дело.
В приемной, служившей своего рода конторой, где миледи вела деловые разговоры с управляющим и арендаторами, все стены были уставлены полками. Я сознательно не называю их книжными, хотя на них размещалось множество книг – по большей части рукописных, с разными записями, касавшимися владений Хэнбери. Книг в полном смысле слова было совсем немного: один-два словаря, географические справочники, руководства по управлению имениями – все очень давнего года издания. (Помню, что видела там словарь Бейли[46]; у миледи, в ее комнате, имелся также огромный словарь Джонсона, но, если мнения лексикографов расходились, она чаще отдавала предпочтение Бейли.)
В этой приемной обычно сидел лакей, готовый тотчас исполнить распоряжение миледи. Ее светлость твердо держалась старинных обычаев и любые «звонки», кроме своего ручного колокольчика, считала никчемным изобретением; прислуга должна была находиться поблизости, чтобы всегда слышать ее серебряный колокольчик – или серебряный звук ее голоса. Но не думайте, будто должность лакея была синекурой. Ему полагалось следить за вторым, задним, входом в дом, который в усадьбе попроще назывался бы черным ходом. А так как парадным крыльцом пользовалась только миледи и те из ее соседей по графству, кого она сама удостаивала визитами – ближайшие жили миль за восемь по скверной дороге, – большинство посетителей стучались в тяжелую дверь с коваными гвоздями, которая вела в дом с террасы; стучались не для того, чтобы им открыли (по приказу миледи дверь держали открытой и летом, и зимой, когда в прихожую наметало кучи снега), а для того, чтобы вышедшему на стук лакею передать свое сообщение или просьбу увидеть миледи. Помнится, мистер Грей долго не мог понять, что парадную дверь отворяют только по особым случаям, и даже когда понял, ноги сами несли его к парадному фасаду. Я впервые переступила порог дома миледи с главного входа – как и все, кто впервые посещал Хэнбери-Корт; но после того все (за исключением избранных знакомцев миледи), словно бы по наитию, заходили с террасы. Внезапному наитию весьма способствовало присутствие на переднем дворе цепных псов устрашающего вида и размера – волкодавов хэнберийской породы, которая только здесь и сохранилась на всем нашем острове; их грозный лай раздавался днем и ночью, и всякий одушевленный или неодушевленный предмет они встречали свирепым рыком; на «свою» территорию церберы спокойно допускали лишь служителя, приносившего им корм, карету миледи вместе с четверкой лошадей и саму миледи. Надо было видеть, как ее миниатюрная фигурка приближалась к гигантским зверюгам, смиренно падавшим ниц; как эти монстры, заходясь от восторга, неотрывно следили за ее легкой поступью, били по земле тяжелыми хвостами и пускали слюни в предвкушении хозяйской ласки. Миледи совсем не боялась их, но ведь она происходила из рода Хэнбери, а согласно семейному преданию, у здешних волкодавов было врожденное чутье на всех носителей этой фамилии, чью власть над собой они безропотно признавали с тех давних пор, когда их предков, основоположников этой породы, привез с Востока достославный сэр Уриан Хэнбери, ныне лежавший в виде мраморного изваяния на своем высоком надгробии в приходской церкви. Мне говорили, что лет пятьдесят тому назад один из хэнберийских псов загрыз ребенка, по малости лет не сумевшего правильно оценить длину цепи и заступившего за опасную черту. Стоит ли удивляться, почему большинство посетителей предпочитало вход с террасы. Однако мистеру Грею все было нипочем. Конечно, он мог по рассеянности просто не замечать собак: рассказывали, что однажды, задумавшись, он проходил слишком близко и едва успел отскочить, когда они разом рванулись к нему. Но едва ли можно объяснить рассеянностью другой случай, который произошел на глазах у меня и моих подруг. В тот день мистер Грей направился к одному волкодаву и дружески потрепал его по загривку; страшный пес жмурился от удовольствия и благодарно вилял хвостом, словно приветствовал кого-то из Хэнбери. Представьте себе наше изумление! Честно говоря, я по сей день не знаю, как это объяснить.
Но вернемся к двери с террасы и лакею в приемной.
Однажды утром до нашего слуха – я сидела в комнате миледи – донесся какой-то спор. Постепенно он становился все жарче и продолжался так долго, что миледи дважды позвонила в колокольчик, прежде чем лакей наконец услышал и явился на зов.
– Что там за шум, Джон? – спросила его миледи.
– Какой-то мальчик, миледи, говорит, что его послал мистер Хорнер и ему нужно видеть вашу светлость. Дерзкий мальчишка! – прибавил он себе под нос.
– Для чего ему видеть меня?
– Я спрашивал, миледи, не извольте сомневаться, но он не хочет сказать мне.
– Вероятно, какое-то известие от мистера Хорнера, – предположила леди Ладлоу с легкой досадой: передавать ей что-либо на словах, да еще с таким нарочным, было бы вопиющим нарушением этикета.
– Нет, миледи. Я спрашивал, не приказано ли ему передать что-нибудь, так он говорит нет, ему нужно видеть вашу светлость, и все тут!
– В таком случае довольно разговоров, веди его сюда, – распорядилась миледи, не повышая голоса, в котором, как я упомянула, проскальзывало раздражение.
Как будто в насмешку над ничтожным визитером лакей широко раздвинул створки двери, явив хозяйскому взору худощавого, ладно скроенного мальчика с копной густых волос, которые топорщились во все стороны, словно бы под действием электрического тока; лицо у него было маленькое, круглое, загорелое, раскрасневшееся от испуга и волнения, с решительно сжатым ртом и блестящими, глубоко посаженными глазами. Он быстрым цепким взглядом окинул комнату, желая, по-видимому, хорошенько запомнить ее, чтобы потом на досуге вызвать в памяти эту диковинную обстановку. Вероятно, он знал, что невежливо заговаривать первым с теми, кто стоит выше тебя. Так или иначе, он молчал – может быть, просто со страху язык проглотил.
– Для чего ты хотел видеть меня? – спросила миледи.
Ее спокойный и ласковый тон окончательно сбил его с толку.
– Чего изволит ваша светлость? – проговорил он в ответ, точно глухой.
– Тебя прислал мистер Хорнер. Для чего ты хотел видеть меня? – громче повторила миледи.
– С позволения вашей светлости, нынче утром мистеру Хорнеру нужно было срочно ехать в Уорик.
Лицо его странно задергалось, и он плотно сжал губы.
– Ну?
– И он уехал… срочно.
– Ну так что?
– И он оставил мне записку для вашей светлости… ваша светлость.
– Только и всего? Ты мог отдать ее моему человеку.
– Простите меня, ваша светлость, я ее потерял.
Он не сводил глаз с лица миледи; если бы не смотрел так пристально, наверняка бы расплакался.
– Надо быть внимательнее, – снисходительно пожурила его миледи. – Но ты, конечно, очень огорчен, что так вышло. Постарайся отыскать записку, в ней может быть что-то важное.
– Простите, мэм… ваша светлость… я могу сказать, что там написано.
– Ты?! Как это понимать?
Мне стало по-настоящему страшно. Синие глаза миледи сверкали – она была поражена, ошеломлена! Но на мальчика ее пылающий взор произвел обратный эффект, словно бы придав ему смелости. От природы сообразительный, он не мог не почувствовать, что миледи разгневана, однако продолжил свои объяснения намного быстрее и тверже:
– Миледи, мистер Хорнер выучил меня читать, писать и считать. Он очень спешил, миледи, он просто сложил записку, но не запечатал, миледи, и я прочел ее и запомнил, мне кажется, наизусть, миледи!
И он высоким, звонким голосом по памяти воспроизвел подлинные, вне всякого сомнения, слова, написанные мистером Хорнером, включая дату, подпись и прочие мелкие подробности. Дело оказалось пустяшное: на каком-то документе требовалась подпись миледи.
Окончив свою речь, мальчик вытянулся в струнку – можно было подумать, что он ожидает похвалы.
Глаза миледи сузились, зрачки уменьшились до булавочного острия – того и гляди уколют! Так она смотрела только в минуты жестоких потрясений. Повернувшись ко мне, она промолвила:
– Куда катится мир, Маргарет Доусон. – И угрюмо смолкла.
До мальчика начало доходить, что его проступок оскорбил миледи, и он застыл перед ней в каком-то оцепенении – казалось, вся смелость и вся воля, которые привели его сюда, чтобы повиниться в своей неосмотрительности и постараться загладить вину, внезапно покинули его, улетучились, обездвижив его тело, и он обречен не шелохнувшись стоять здесь, пока кто-нибудь словом или действием не выпроводит его вон. Миледи снова перевела взгляд на мальчика и увидела, что тот уже ни жив ни мертв от ужаса за содеянное и от суровости, с какой было встречено его чистосердечное признание.
– Бедный ребенок, – сказала миледи, и гнев исчез с ее лица, – в чьи недобрые руки ты попал?
У мальчика задрожали губы.
– Разве ты не знаешь, о каком древе читаем мы в Книге Бытия?.. Хотя нет, надеюсь, ты не настолько преуспел в чтении. – После непродолжительной паузы она спросила: – Кто, говоришь, выучил тебя читать и писать?
– Простите, миледи, я не нарочно, миледи, я не думал… – лепетал он, глотая слезы, раздавленный ее очевидным недовольством, а нарочитая мягкость ее манеры пугала его намного больше, чем любые угрозы или брань.
– Я спрашиваю: кто выучил тебя?
– Писец мистера Хорнера, миледи.
– С ведома самого мистера Хорнера?
– Да, миледи. Он хотел, чтобы я учился.
– Вот оно что! Пожалуй, в этом виноват не столько ты, сколько… Я удивляюсь мистеру Хорнеру! Однако, мой мальчик, когда владеешь острым орудием, необходимо знать и правила, как с ним обращаться. Тебе не говорили, что нельзя открывать письма?
– Простите, миледи, оно было открыто. Мистер Хорнер очень спешил и забыл его запечатать.
– Но ты не должен читать письма, не для тебя писанные. Недопустимо заглядывать в письма, не тебе адресованные, даже если бы они лежали открытыми у тебя перед глазами.
– Простите, миледи, я думал, это хорошо – практиковаться в чтении, все равно как читать книгу.
Миледи смешалась, не находя нужных слов, чтобы растолковать ему законы чести касательно чужих писем.
– Скажи, когда люди говорят о чем-то, что не предназначено для твоих ушей, ты ведь не стал бы слушать?
Он медлил с ответом, частично потому, что не вполне понял вопрос. Миледи повторила. В его смышленых глазах блеснула догадка, но он колебался, сказать ли правду.
– Простите, миледи, я всегда подслушиваю, когда другие секретничают. Но я не думал, что это дурно.