Видеодром. Главные режиссеры мирового кино
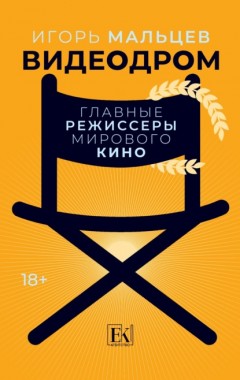
© И. Мальцев, 2024
© «Евразийское книжное агентство», 2024
© П. Лосев, оформление, 2024
Хаяо из Долины ветров
Сегодня я выбирал, с каким же удивительным режиссёром вас подробно познакомить. Причём выбором номер один был немец Йорг Буттгерайт, чьи фильмы стабильно запрещали как в самой Германии, так и в других странах – типа «Некромантика» и т. д. Но тогда пришлось бы разрушить вашу зону комфорта, потому что это даже не новая волна немецкого кино – это новая волна немецкого внутреннего ужаса. Так что в ход пошёл кандидат номер два, полная противоположность Буттгерайту, – солнечный Хаяо Миядзаки, которого любят, наверное, все, кто когда-либо видел его фильмы.
Вопреки мифам и легендам, советский зритель познакомился с японским аниме ещё в 1970 году, когда на экраны вышел «Корабль-призрак» режиссёра Хироси Икэды.
Посмотрите, если не видели.
Конечно, людям, которые живут в обстановке, когда каждую неделю выходят бесконечные километры аниме-сериалов, всё менее и менее осмысленных, но ярких и о-о-очень феминистических, сложно уже понять, какой бомбой был «Корабль-призрак» в СССР. Во-первых, совсем иная эстетика рисунка, нежели было принято на студии «Союзмультфильм», а во-вторых – сильнейший антикапиталистический посыл, который сегодня читается как рассказ о мировом правительстве, засевшем на дне морском и распространяющем по всему глобусу напиток, от которого люди просто исчезают…
Хироси Икэда делал этот фильм для компании Toei, которая тогда всего 14 лет присутствовала на рынке и была пионером японской анимации. Так что, считай, мы наблюдали становление аниме практически в режиме реального времени. Кстати, в 80-х Икэда перешёл в компанию Nintendo и разрабатывал такие игры, как Super Mario Bros. и The Legend of Zelda.
А первым фильмом студии Toei была «Легенда о Белой Змее» 1958 года, который рисовали восемь месяцев 13 590 сотрудников. Кстати, когда фильм показывали в США, как в случае с «Планетой бурь» Павла Клушанцева, американцы вырезали все фамилии японских авторов из титров. Похоже, там устойчивая традиция.
И вот этот фильм увидел школьник по имени Хаяо Миядзаки. И всё в его жизни изменилось. Как писал Алан Александр Милн по аналогичному поводу, «в эту ночь Пятачок твёрдо решил убежать из дому и стать моряком».
Естественно, Миядзаки, который с детства обожал мангу и даже сам пробовал рисовать, понял, что хочет стать художником аниме. Мультипликатором, как раньше называли представителей этого ремесла. Потом – аниматором.
Но для начала он всё-таки стал почти моряком – окончил факультет политики и экономики в токийском универе. Собственно, как отучился, так и пошёл в столь чтимую им студию Toei Animation работать. И ему даже дали ответственную работу, которую выполняют тысячи рабов мультипликации, – рисовать фазы движения. Так, фазовщиком, он и вошёл в первый мультсериал Японии «Космические приключения Гулливера», хотя его таланты уже начали примечать. Только после следующего сериала его назначили аниматором.
Но, конечно, Хаяо – очень непростой человек. Одна только история с созданием профсоюза на студии чего стоит. Он основал его со своим другом Исао Такахатой – они реально боролись за права трудящихся и за это получали все положенные активистам неприятности. Так, например, фильм, который сделал Такахата, а художником которого был Миядзаки, – «Принц Севера» (1968) – студия через десять дней сняла с проката и обвинила авторов в коммерческом провале. На самом деле профессионалы называют его одним из лучших в мировой анимации, а сам фильм до сих пор идёт на стриминговых платформах типа Amazon, Netflix и даже Hulu. Миядзаки понизили в должности, но он не отступился и продолжал работать. И что мы видим? Правильно – именно он среди создателей того самого «Корабля-призрака», который показывали в СССР в 1970 году. Вот в чём преимущество быть бумером – мы видели многие вещи, когда они ещё не вошли в моду.
Ещё одна деталь – в те годы, пока его прессовали из-за профсоюзного активизма, он участвовал в создании «Кота в сапогах». И именно мордочка кота, нарисованного Миядзаки, сегодня служит официальным логотипом студии и украшает здание.
Но всё-таки его выжили: в 1971-м он с другом Такахатой ушёл со студии и даже основал собственную студию, где они начали делать «Люпен III» – про потомка Арсена Люпена. Ключевое слово «начали»: своей славы сериал достиг уже при других режиссёрах на другой студии. В процессе работы становится ясно, что Хаяо очень сильно подвержен влиянию европейской литературы и вообще всего европейского. Кто знает, откуда весь этот Люпен, тот со мной согласится. А уж прямым подтверждением этой мысли стала попытка снять «Пеппи Длинныйчулок» по Астрид Линдгрен. Миядзаки с Такахатой даже поехали в Швецию и встретились с Линдгрен, но она им не дала разрешения рисовать сериал. Странная женщина.
А в 1983-м мечта стать художником комиксов всё-таки реализовалась – Миядзаки нарисовал собственный комикс под названием «Навсикая из Долины ветров». Естественно, это постапокалиптическая история без чёткой японской национальной краски. Более того, тут есть прямой отсыл к «Одиссее» Гомера: Навсикая – королева феаков, спасительница Одиссея. И в комиксе всё скорее напоминает Европу.
Если сейчас глянуть на отдельные кадры фильма, который потом снимет режиссёр по этой манге, сходство с работами француза Мёбиуса (Жана Жиро) удивительное. Хотя удивляться нечему: к этому моменту Хаяо не просто восхищался выдающимся французским комиксистом – они дружили. Картина отдаёт некоторым левачеством и экологическим активизмом, но тем не менее – можно сказать, что в ней собрался тот самый уникальный творческий коллектив, который потом будет называться Studio Ghibli. Более того, в ряде источников «Навсикаю» называют первым фильмом студии Ghibli.
Независимая студия Ghibli Миядзаки с товарищами сразу решила показать японской индустрии мультфильмов, что та устарела и заплесневела. У них даже слоган был такой: «Добавим свежее дыхание в мир японской анимации».
В 1986-м тут выходит «Небесный замок Лапута» – эдакий Джонатан Свифт в альтернативной реальности. По характеру рисунка видно, что Миядзаки развивается как художник, и развивается именно в русле европейского искусства.
Но эта его особенность – прямой выход на все внешние рынки: мастер не концентрируется на национальных особенностях и создаёт нечто сказочно-волшебное, не уводя зрителя далеко от общеевропейских реалий и деталей. Тем не менее, по опросу японского Минкульта, эта первая картина студии Ghibli входит в тройку лидеров среди аниме за всю историю жанра именно в Японии.
А в 1988-м выходят сразу два фильма – «Могила светлячков» (без участия Миядзаки) и «Мой друг Тоторо». С тех пор первое, что вспоминается при слове «Миядзаки», – это, конечно, Тоторо. Оба фильма, кстати, сразу очутились в японских школах в составе программы по историческому и эстетическому воспитанию школьников.
«Мой друг Тоторо» – фильм очень японский. Тут японское всё – и мифология, и амбиент, и настроение. Хотя, например, образ хранителя леса – гиганта-увальня Тоторо – Миядзаки придумал сам, такого в местной мифологии нет. Успех был таким громким, что существует даже национальное движение «Дом Тоторо», хотя оно, скорее, активистское и борется за сохранение каких-то земель.
И кто не помнит Котобус?
«Ведьмина служба доставки» (1989) по книге «Служба доставки Кики» японской писательницы Эйко Кадоно сделана в универсально-европейском стиле. Собственно, Миядзаки это готовил специально – он просчитал, как в представлении японцев может (должен) выглядеть европейский город.
Что-то шведское, а может быть, итальянское. Когда он ездил на переговоры с Астрид Линдгрен, члены его команды ещё немножко прокатились по городам вокруг Стокгольма и сделали зарисовки.
Студия Ghibli практически сразу заключила контракт на дистрибуцию с Disney, и поэтому прокатная судьба фильма в США сложилась очень удачно.
Отдельно уточню, что мы сейчас говорим о мультфильмах, которые созданы до появления компьютеров и цифровой графики. Этот фильм тоже сделан по классической целлулоидной технологии. Тут было использовано 465 цветов. Рядом с рекламой компьютерных мониторов про миллионы цветов это, конечно, звучит несколько скромно. Но я неслучайно вспомнил про целлулоид. Однажды я пошёл на выставку работ Хаяо Миядзаки в Монетном дворе в Париже. Там не было каких-то рисунков из его манги. Все экземпляры – именно целлулоиды, расписанные самим художником. Кадры из его фильмов до того, как их сняла камера. И это производит потрясающее впечатление – он поистине выдающийся мастер. Каждый кадр – самостоятельная картина, прописанная до мелочей. Такие вещи надо хранить и показывать современным детям, потому что слова про тёплую аналоговую картинку – вовсе не шутка.
«Ещё вчера» / «Капельки воспоминаний» (1991) – не самая известная картина Миядзаки. Она идёт по разряду «романтическая драма», да ещё и очень японская. Но рука мастера видна. И видно, что рисунок художника продолжает развиваться: и линия, и пятно. И, чтобы было понятно, фильм стал самой кассовой лентой Японии 1991 года.
Одновременно росло профессиональное признание Миядзаки, он потихоньку становился классиком. Со смешным и одновременно политически заряженным «Порко Россо» (1992) про пилота, который после Первой мировой превратился в свинью (буквально), он получил премии Японской киноакадемии, получил Гран-при на главном анимационном фестивале мира в Анси (Франция).
Следующая картина – очень японская: фэнтези-драма «Принцесса Мононоке» (1997) про самураев, монахов и диких вепрей, одержимых демонами. Она так выстрелила в Японии, что на какое-то время по кассе обошла даже «Титаник». Тем не менее Миядзаки утверждает, что он частично вдохновлялся вестернами Джона Форда.
И совсем золотой статус культурного достояния Миядзаки завоевал «Унесёнными призраками» (2001). С одной стороны, он близок японскому фольклору, но с другой – универсально философичен. И он совсем не для детей, девочек и прочих подростков. Один только образ Безликого, бога Каонаси, чего стоит. Путешествие в мир духов – что может быть более философским?
Мир оценил творение Миядзаки: Берлинский фестиваль, Европейская киноакадемия, Японская киноакадемия – все кинулись давать ему премии. А ещё и «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм. Можно считать «Унесённых» вершиной творчества художника.
«Ходячий замок» 2004 года – это экранизация книги Дианы Уинн Джонс, которая писала фантастические романы и для детей, и для взрослых. Опять Миядзаки возвращается к европейскому условному стилю: он даже ездил в Эльзас – землю, которая время от времени переходила от немцев к французам и наоборот, поэтому тут чувствуется смесь стилей в архитектуре. Его впечатления от Эльзаса легли в основу пейзажей фильма. Ну а преданность Миядзаки идеологии пацифизма также в фильме налицо. Он был номинирован на «Оскар» в 2006 году, но уступил победу.
«Рыбка Поньо на утёсе» (2008) – десятый фильм мастера – про пятилетнего мальчика и рыбку (дочку колдуна) растрогал пожилых кинокритиков, и картину закидали наградами, начали с Венецианского фестиваля.
«Ветер крепчает» (2014) – очень мощное политическое заявление мастера. История (которую в виде манги издал Миядзаки) реального японского авиаконструктора Дзиро Хорикоси, спроектировавшего два основных японских истребителя Mitsubishi А5М и A6M Zero. Он воспринимал свою работу как создание прекрасных машин вне контекста войны. Он даже ездил в нацистскую Германию на стажировку, но и это его никак не сдвинуло с позиций чистой инженерной эстетики. Только увидев Токио, разрушенный авианалётами 1945 года, он начинает о чём-то догадываться. Судя по кадрам проплывающей в окне поезда России, когда главный герой едет в Германию, образ России Миядзаки черпает из творчества Исаака Левитана.
После этого мастер объявил, что он удаляется на пенсию. Но не тут-то было.
В январе 2024 года великий японский мастер был удостоен «Золотого глобуса» за великолепный фильм «Мальчик и птица». В марте эта же лента получила абсолютно заслуженный «Оскар» в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм», что лишний раз подтвердило: Хаяо если и собирается на заслуженный отдых, то явно нескоро. Никаким компьютером для создания своих картин Миядзаки до сих пор не пользуется. Ну, разве что почту проверить…
Путешественник во времени, ушедший в вечность
Эдуард Николаевич Артемьев оказался путешественником во времени. Он двигался вперёд, пока мир уверенно шёл назад. И даже сейчас, когда всё известно детально, люди, которые про него что-то слышали, а может, даже писали, всё время путаются в эпохах, в сталкерских маршрутах первопроходца, в бесконечной Сибириаде и прочей «аде» автора. Потому что ну невозможно современникам, затюканным блогерской пропагандой «ужас-ужас, мы отстали, бла-бла-бла», осознать, что Артемьев в 1960-м уже изучал возможности электронной музыки и вместе с Е. Мурзиным делал оптический синтезатор АНС. Надо ли уточнять, что инженер Мурзин прежде всего изобретал оптические системы для советской артиллерии и огневой системы наших истребителей? Именно когда на другой стороне тоже русский инженер строил первые синтезаторы в Лондоне.
Оставьте сказки про «отставание на 20, 30, 50 лет», не говоря про навсегда. Мы шли в рядах авангарда. Как когда-то шла русская живопись.
Артемьев вам может спутать хронологические карты. Когда вы слышите «Сибириаду» и вам кажется, что вы слышали это у Вангелиса, приведите мозг в порядок: Вангелис был лет на восемь позже. Что для современной музыки – вечность. А у Михалкова в саундтреке 1978 года звучит мамонтостический АНС с гитарой под управлением сына офицера-пограничника с Курильских островов Юры Богданова. Удивительных людей собирал вокруг себя Эдуард Николаевич, и это тоже – талант. Когда вы слышите у Артемьева Сакамото – знайте, что Сакамото был лет на десять позже всего того, что Артемьев уже обозначил. А в случае с Найманом – на все пятнадцать. Это вы не у Артемьева слышите всех этих лучших представителей синтезаторной и прочей киномузыки – это вы у них слышите Артемьева. Вот так.
А ещё это история про то, как пишется за железным занавесом, который тоже должен был изолировать русскую культуру в обе стороны.
Артемьев, если ему было надо, легко адаптировал любые мировые стили, начиная с музыки к вестернам того же самого Морриконе, что ощущается в потрясающей теме «Свой среди чужих». И у кого не брызгали слёзы на верхних нотах трубы, у того нет сердца.
Вестерны как не были тут нужны, так и сейчас – по нулям. А без артемьевского «истерна» жизнь была бы просто другой. И традиция отечественной киномузыки – тоже.
Но он всё время выходил за рамки жанра. Просто как кудесник, а может быть, бунтарь и даже где-то панк. Иногда его музыка в кино не только делала это кино. Она была выше, объёмней и уж точно более заслуживала вечности. Что и произошло. Абсолютно универсальный автор: надо детский мультфильм – пожалуйста. Надо вестерн, «истерн» или даже фантастику – сколько угодно, вплоть до Тарковского. Единственное, чего он никогда не делал, – это так называемой «эстрады», не проживая при этом в башне из слоновой кости. Никогда не отрываясь от традиций великой русской классики – вот просто ни на ноту. Просто где он и где попса…
Насколько я помню, ему не нравились The Beatles, но «Иисуса Христа – суперзвезду» он считал выдающимся произведением. И очень жаль, что он так и не сделал свою «Солярис» (это женское имя, поэтому «свою») в виде рок-оперы. Тогда модно было оперировать понятием «рок-опера». Но зато мы слышим его «Солярис» в фильме Тарковского. Рядом с прелюдией фа минор Баха – и Артемьев в контексте, в непроизвольном сравнении достоин мирового классика.
Это был человек, с которым надо было говорить, говорить и говорить, чтобы его знания и мысли точно и широко вливались в сегодняшний культурный мир России.
Как говорил сам мастер, «быть довольным своей музыкой – это конец. Всё, на печку – и до свидания. Всегда думаешь даже после выхода фильма: вот тут я лажанул». И вот это музыкантское словечко «лажанул» ценнее иных самовлюблённых речей современных культурных деятелей без саморефлексии и самоиронии.
Пойдём поставим пару дисков удивительного человека Эдуарда Артемьева.
В невесомости
В киношной тусовке бродит апокрифическая история. Якобы Джордж Лукас в годы перестройки приезжал в Москву. И попросил кинематографическое руководство устроить ему встречу с Павлом Владимировичем Клушанцевым, чей фильм «Планета бурь» (1962) американский продюсер Роджер Корман перемонтировал в два американских фильма безо всякого упоминания имени советского режиссёра, лишив имён актёров Георгия Жжёнова, Владимира Емельянова, Георгия Тейха, Юрия Саранцева и других. Руководство столь же якобы даже не смогло вспомнить, кто такой еси этот Клушанцев, не говоря уж про организацию встречи с ним. Пришлось великому создателю самой кассовой на тот момент кинофраншизы в истории распрощаться со своей мечтой – увидеться и поговорить с человеком, без которого саги «Звёздные войны» просто могло не быть.
Никого из советских авторов фильма уже нет в живых, мало кто помнит «Планету бурь», и уж тем более никто не понимает, насколько велик был Павел Клушанцев, без которого действительно не было бы «Звёздных войн» или «Чужого». Но вот насчёт того, что кто-то из руководства Госкино в 80-е годы мог не знать, кто таков Клушанцев… Нет, ребята, это ненаучная фантастика. Не настолько плохи были наши чиновники.
Вне зависимости от того, почему эпическая встреча не состоялась, предлагаю отчасти восстановить справедливость и поговорить про Павла Владимировича. И даже не потому, что я в 1966 году пять раз смотрел «Планету бурь» и больше всего расстраивался из-за гибели робота Джона, а потому, что жизнь и работа Клушанцева – это ещё и история всей страны, история практически всех визионеров этой страны.
Павел Клушанцев прошёл большой и логичный путь от документалиста в блокадном Ленинграде до создателя научно-популярного кино, которое и привело его к первой космической фантастике. В то же время довольно плохо задокументированная его жизнь до сих пор оценивается различными авторами по-разному.
Например, часто пишут, что Павел Владимирович «родился в дворянской семье». Ну да, особенно если учесть, что его отец Владимир всю жизнь после окончания Петербургского университета работал земским врачом и получил персональное дворянство за год до рождения сына. «Персональное» – значит не наследуемое, и Павел никакого отношения к отцовскому титулу не имел, хотя исправно получал неприятности из-за этого при Советской власти.
Говорят, мать его была дворянкой, но в основном домохозяйкой. Его отец умер в 1919-м, будучи контролёром на железной дороге. Мать пошла работать делопроизводителем в школу Карла Мая. Об этой институции на самом деле надо писать отдельный материал, потому что школа Карла Мая была невероятным поставщиком выдающихся русских инженеров и художников. Феноменальная питерская школа. От всех членов семьи художников и архитекторов Бенуа до Фасмера, чей словарь был раньше в каждой интеллектуальной семье – они все выпускники Карла Мая.
Но это всё скорее в порядке иллюстрации того, что судьба Павла Владимировича не была выстлана красными ковровыми дорожками от самого рождения до самой смерти.
Мальчик Павел читал и писал с четырёх лет. Много читал. Но они жили с мамой в коммуналке, и, чтобы как-то пытаться выжить, Павел занимался ремонтом мебели и обуви. То есть он с детства был не только рукастым, но и инженерно-продвинутым – довольно быстро собрал токарный станок, чтобы обрабатывать части деревянных конструкций. Ещё и шахматы точил – на продажу. Занимался репетиторством, черчением, делал макеты для Военно-медицинского музея. Сейчас, кстати, это один из самых больших музеев мира, он в Лазаретном переулке в Питере: заходите, вход со стороны Введенского канала, который уже давно не канал, а улица.
Парень явно собирался быть инженером и даже попытался поступить в Техноложку, но его не взяли. Считается, хоть и не доказано, что причина в том, будто он указал в анкете дворянское происхождение матери. Так или иначе, но Павел пошёл в Ленинградский фотокинотехникум на операторский факультет. Техникум был, конечно, никакой не техникум в нашем значении слова, потому что основан как Высший институт фотографии и фототехники. Именно там создавались первые советские фотоматериалы, конструировались фото- и киноаппараты.
Например, А. Шориным были сконструированы первые советские усилители и громкоговорители для озвучивания улиц – то, что теперь в саунд-индустрии называется PA Systems.
Это всё происходило во время обучения Павла Клушанцева. То есть он попал в обстановку максимального инженерного креатива и расцвета. Сейчас этот образовательный кластер мы знаем под именем Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Интересно, помнят ли в нём такого выпускника?
Распределили Клушанцева в «Белгоскино». Это было специально созданное в Белорусской ССР управление, которое занималось съёмками документальных фильмов и построило кинолабораторию в Минске специально для этого. Художественные фильмы снимали в Москве и в бывшем театре «Кривое зеркало» на канале Грибоедова, д. 90, в Ленинграде – нынче концертный зал в здании Екатерининского собрания (СПб ГБУК «Петербург-концерт»). Потом была создана студия «Беларусьфильм». В 1932-м Павел стал там оператором.
Относительно того, что он снимал в качестве оператора, особых данных нет. Зато Соня Вестерхольт, бывшая ленинградка, в своём фильме про Клушанцева 2002 года рассказывает про сталинскую кинопропаганду. Кстати, удивительное кино – антисоветская агитка, где датская подданная на протяжении всего рассказа про выдающегося режиссёра занимается натягиванием совы кино на глобус собственной ненависти к Сталину – да так, что Клушанцеву едва остаётся местечко в углу. Видимо, к сталинской пропаганде Клушанцева она относит его документальные съёмки ленинградской блокады.
Но ещё до войны он перешёл в новую студию «Техфильм», где собственными руками построил цех для спецэффектов. И да: раньше это называлось комбинированные съёмки. Это тот самый «Техфильм», который ленинградская кинофабрика научно-учебных и технических фильмов «Лентехфильм» и «Леннаучфильм», чьи здания были проданы в 2018 году с аукциона. Здесь он попробовал силы в режиссуре – вместе с Лазарем Анци-Половским он снял фильм «Семь барьеров» в 1935 году. Про что фильм – не очень понятно, не звонить же в Белые Столбы… Вдруг их уже тоже выставили на аукцион? Анци-Половский известен также фильмом «Если завтра война» 1938 года – про то, как СССР будет отбиваться от агрессии.
Когда началась война, оказалось, что Клушанцева определили в запас, потому что у него с подросткового возраста обнаружили костный туберкулёз. На самом деле этот диагноз – просто какая-то жуть, и не очень понятно, как он с ним жил и работал. Тем не менее он снимал в блокадном Ленинграде до конца февраля 1942 года, когда умерла его мать, а сам он с дистрофией третьей степени рухнул в стационар.
Клушанцева вывезли в Новосибирск, где он работал на студии «Сибтехфильм», снимая военно-учебные фильмы. Потом он вернулся на «Лентехфильм», где конкретно занялся развитием технической базы комбинированных и трюковых съёмок. Как и все русские кулибины, во многом он действовал без оглядки на то, что происходило в этой индустрии за границей, и все вещи выдумывал с нуля. Поэтому иногда можно прочесть – дескать, «а за границей эта техника уже использовалась раньше». Об этом хорошо говорить, когда у тебя под рукой есть Интернет. А вот живя в 1948 году, поди узнай, в какой студии кто чего придумал.
Тем не менее есть вещи, которые Клушанцев придумал и применил первым, и именно эти его приёмы потом использовали другие, хорошо известные теперь нам режиссёры фантастического кино.
А пока Клушанцев идёт в сторону популяризации науки. Его живой аналитический ум обратился к космическим исследованиям и их перспективам. Сначала он снимает научпоп «Полярное сияние» (1946), «Метеориты» (1947). Второй фильм получил диплом на 9-м Международном кинофестивале в Венеции, где именно тщательно сконструированные комбинированные съёмки позволили показать публике удивительный мир космоса. А потом он снял «Вселенную» (1951) – 37-минутную картину, где в рамках научно-популярного кино уже сделал прорыв в пока неизведанное, то есть в сторону научной фантазии-предположения. Отсюда уже оставался один шаг к созданию чистой научной фантастики. За «Вселенную» он получил премии в Карловых Варах и в Париже на кинофестивалях. Соавтор сценария А. Сазонов через несколько лет написал сценарий научно-фантастического фильма «Небо зовёт» (1959) – того самого, который Ф. Коппола в 1965 году перемонтировал и выпустил под названием «Битва за пределами Солнца».
Когда Клушанцев сделал «Дорогу к звёздам», он вплотную вторгся на территорию научной фантастики, которая буквально на глазах переставала быть фантастикой. Эта картина 1957 года рассказывает о Циолковском, о пионерах ракетостроения. Причём сюжеты с актёрами режиссёр снимает, придерживаясь исторических фактов, а потом вдруг щёлк – и показывает первый пилотируемый полёт в космос, предварительно рассказав всё про законы космических скоростей. То есть чистая фантастика, причём сделанная на удивительно высоком уровне – в мелочах и в принципе.
Ракета на стартовой площадке в сочетании с мобильной фермой (которая ещё и телескопическая), три космонавта, которых называют чуть ли не «пустоходами», потому что вот уже семь лет идёт дискуссия, стоит ли использовать слово «космонавт». Космонавты в кожаных комбинезонах, в высоких блестящих сапогах, в кожаных шлемах – сегодня это выглядит, словно они собрались в гей-клуб, а не в космос. Но дело не в этом: как они устраиваются в лежаках, как начинается отсчёт, как их начинает давить ускорение – всё так, как будет потом в реальности. Авторы показывают, как отделяются ступени, всё это в подробностях. И на орбите начинается невесомость.
И Клушанцев был первым в кино, кто снял людей в невесомости. Он это сделал, сконструировав в павильоне специальный барабан, где можно было подвешивать актёров, ставить камеры на бок и т. д. И то, что Кубрик в фильме «Космическая одиссея» (1968) использует конструкционные решения Клушанцева, – задокументированный факт. В «Дороге к звёздам» он придумывает, как будет садиться пилотируемая ракета. Спойлер: на морскую поверхность. Так потом будут сажать американцы. А русские – на землю. Он показывает, как может выглядеть Международная космическая орбитальная станция (самое смешное – котик в каюте и телевизор, по которому показывают «Лебединое озеро»). Это был 1957 год – год, когда полетел «Спутник»: фильм вышел аккурат в то время. Как утверждает датский режиссёр фильма про Клушанцева, «так совпало». Ага, а мы поверим.
По всему миру гуляли самые дикие слухи про то, что там сделали эти русские. В конце концов этот не слабеющий интерес привёл к тому, что американский супертелеведущий Уолтер Кронкайт в программе «Двадцатый век» показал фильм «Дорога к звёздам». И половина зрителей решила, что это документальные съёмки. А наиболее восприимчивая часть – дети и подростки – немедля пожелала стать космонавтами.
Или как минимум – кинематографистами и фантастами. Например, специалист по спецэффектам Роберт Скотак увидел «Дорогу к звёздам», когда ему было 12 лет, и сделал выбор, определивший всю его жизнь.
В интервью к фильму «Звёздный мечтатель» он говорит: «В 1958 году фильм „Дорога к звёздам“ был на голову выше тех картин, которые выпускались в США. Работа по созданию спецэффектов была превосходной и произвела на меня такое впечатление, что я не мог забыть её многие годы». Скотак стал кинематографистом и делал спецэффекты к фильмам «Чужие», «Титаник» и т. д.
Судя по всему, видел фильм и швейцарский художник Руди Гигер, который перевоплотил единственный кадр Клушанцева – космонавт с космическим телескопом в открытом космосе – в образ пилота/инженера на инопланетном корабле в фильме «Чужой». Образ, который теперь никто не может выкинуть из головы, если увидел.
Кстати, Скотак был очень последователен в своём стремлении найти Павла Клушанцева и познакомиться с ним. И Клушанцев таки ответил ему на письмо в 1990-м, и Роберт приезжал в Питер в 1992 году – в ту самую квартиру на бульваре Красных Зорь, дом 5, адрес которой высвечивается на конверте в фильме «Звёздный мечтатель». Кто-то говорит, что Клушанцев «отдал ему свой архив изобретений», кто-то говорит, что Скотаку в 1992 году вряд ли пригодились бы изобретения Клушанцева по причине наступающей эры CG, но, скорее всего, Роберт просто хотел сохранить какую-то часть памяти кумира. К тому же он всегда собирал информацию по истории комбинированных съёмок и спецэффектов. Он увёз с собой несколько ветхих папок, в то время как архив Клушанцева состоит из сотен единиц.
Чистый в своём жанре научной фантастики фильм «Планета бурь» вышел в 1962-м. Это, конечно, была чисто советская фантастика – с обилием довольно пафосных бессмысленных диалогов, с медленно разворачивающимся сюжетом. Но того, что происходило, когда начинался экшен, нам – первым зрителям, сбежавшим с уроков, – вполне хватило, чтобы идти на него ещё и ещё. Там был суровый красавец Георгий Жжёнов, который только в 1955 году вернулся из сталинских лагерей, так как был он «американский шпион». О боже, кто мог предполагать, что он ещё и тайный американский актёр!
Когда продюсер Роджер Корман в первый раз перемонтировал «Планету бурь» в «Путешествие на доисторическую планету» в 1965 году, он отнял у советских актёров их имена. Так, Георгий Жжёнов стал, например, Куртом Боденом. Ну а имени Клушанцева там нет вообще. Равно как нет его и в следующем копипасте от Кормана «Путешествие на планету доисторических женщин» 1968-го. Тут Питер Богданович доснял сильно раздетых венерианок на потребу публике. И вот она, разница между русским подходом и окологолливудским: в оригинальном фильме Клушанцева тема далёкой женщины с Венеры проходит тенью, звуком и финальным кадром, но тем не менее впечатывается. Мы видим в отражении в озере фигуру женщины в белых одеждах, протягивающую руки вслед улетевшему кораблю. Ну а американским пошлякам надо было вывести табун полуголых блондинок.
Говорят, что Клушанцев знал про фокусы Кормана и отреагировал сдержанно-негативно: «Как так… ну как так можно? Ну это же бессовестно!» Во всяком случае, так это звучит со слов сотрудника «Леннаучфильма» Харкевича, который работал в те годы на студии.
В 1965-м он снял научпоп «Луна», где шёл своим любимым приёмом – от научных фактов к визуальным предсказаниям-фантазиям. 1965 год – ещё четыре года до реализации амбициозных планов штурмбаннфюрера СС Вернера фон Брауна, а ныне руководителя космической программы США. Клушанцев в фильме показывает различные варианты полёта на Луну, и один из них – полёт с разделением на два модуля, один из которых командный, остаётся на лунной орбите, а второй садится на поверхность и с неё же взлетает. То есть то, что американцы осуществили в 1969-м. Вряд ли NASA всем рассказывало, как именно оно будет осуществлять высадку на Луну. И уж тем паче стране-конкуренту по лунной гонке. Но тем не менее даже форму посадочного модуля Клушанцев описал невероятно похоже. Более того, он говорит в фильме, что космонавтов будет трое. Из них одна девушка. Аплодисменты от феминисток всего мира. В фильме показаны три ролика, снятых советскими космонавтами на Луне. В общем, если Стенли Кубрик и автор знаменитых роликов о высадке американцев на Луну, то он точно учился у Клушанцева.
В 1968-м он выпускает фильм «Марс» – тоже научпоп с элементами фантастики. Меня фильм, конечно, купил с первых кадров: «Всё началось с той памятной ночи 1877 года, почти столетие назад. Итальянский астроном Джованни Скиапарелли, как обычно, пришёл в свою лабораторию» – актёр в кадре заходит в обсерваторию… которую построил для себя брат моего прапрадеда Николай Сергеевич Мальцев в Крыму и которую потом подарил Пулковской обсерватории. Спасибо, Павел Владимирович, порадовали.
В 1970-м он снял картину «Вижу Землю», а уже в 1971-м вступил в конфликт с новым директором студии В. Аксёновым, который потом, после перестройки, будет снимать «Улицы разбитых фонарей». Ну то есть вы понимаете разницу в масштабах личности. И Клушанцев ушёл со студии. В 1972-м вышел его последний фильм «Веление времени».
В первой короткометражке про Клушанцева, вышедшей в 2000 году, автор спрашивает режиссёра: «Павел Владимирович, а если сделать фильм о вас?» – и тот отвечает: «Слушайте, ну кому интересно? Я принадлежу к тем людям, которые принесли пользу и умерли. А потом люди сказали: „Ах, это изобрёл и применил Иван Иваныч! А Иван Иваныч вчера уже умер“».
Павел Клушанцев умер в 1999 году в возрасте 89 лет. Его фильмы можно найти сегодня в Интернете. Современному зрителю, пресыщенному компьютерной графикой и спецэффектами, они могут показаться наивными и примитивными. Но вспомните, в какие годы это сделано. И на какой технике. А ещё не забывайте, что без этого «примитива», скорее всего, вы бы не увидели «Космической одиссеи» и «Звёздных войн». Одного этого более чем достаточно, чтобы имя Павел Клушанцев в истории кинематографа оставалось, пока кинематограф жив.
The Last Picture Show
Однажды Питер Богданович ворвался в советское кино. С ножницами и ацетатным клеем. Его шеф – легендарный киноавантюрист Роджер Корман, воспитавший практически всех кинематографистов Америки, – взял копию советского фантастического фильма «Планета бурь» (1962) и сделал из нее два американских фильма – «Путешествие на доисторическую планету» (1965) и «Путешествие на планету доисторических женщин» (1968). Конечно, очень странно видеть актёров типа Георгия Жжёнова, которых в титрах лишили реальных имён и фамилий, дав выдуманные американские, в таком странном кино. Ещё более странным кажется легальное обоснование для подобного творчества, потому что его просто нет.
Питер Богданович потом рассказывал про эту работу так: «Ко мне пришёл Роджер Корман и спросил: „Не мог бы ты снять несколько кадров с женщинами? AIP не купит фильм, если мы не вставим в него женщин“. И я придумал, как впихнуть туда женщин, снимал пять дней, и мы это смонтировали. Я читал закадровый текст, потому что никто не мог понять, что к чему. Это была просто маленькая дешёвая вещь, которую мы сделали, и люди думают, что я был режиссёром, хотя на самом деле я снял всего десять минут».
Вот так, с жульнического превращения потрясающего по тем временам фильма Клушанцева в низкопробное фуфло, можно сказать, началась карьера режиссёра Питера Богдановича, чьё имя необходимо теперь произносить с придыханием. Впрочем, в титрах к этому произведению искусства Богданович значится неким Дереком Томасом.
Питер Богданович вообще любопытный человек. Большой любитель кино (тут обычно его жизнеописатели восторгаются тем, что он смотрел по 400 фильмов в год). Единственное образование, которое он получил, – актёрское. Судя по всему, семья его вовсе не бедствовала, оставшись по туристической визе в Америке (папа – сербский пианист, мама из богатой еврейской семьи), так что некоторые вопросы относительно его противоречивых финансовых приключений можно объяснить привычкой с детства жить на широкую ногу.
На самом деле его первый фильм «Мишени» (Targets, 1968) с продюсером Роджером Корманом. Тут снялся в последний раз Борис Карлофф, которого в американском кино также принято глубоко почитать. Это был триллер, который был даже включён в книгу «100 фильмов, которые надо посмотреть, пока вы живы». В фильме методом ножниц и клея (как сейчас сказали бы, копипасты) были использованы куски из фильма Кормана «Террор». Так на экране появился молодой Джек Николсон, который также считается учеником Кормана, как и многие другие актёры и режиссёры, которые потом составят костяк так называемого нового голливудского кино.
Молодого режиссёра заметили прежде всего студии – не знаю, как там насчёт зрителя. И именно это потом помогло Богдановичу получить работу над первым «нормальным» фильмом в его фильмографии.
На самом деле с фильмом «Последний киносеанс» (The Last Picture Show) и его бешеным успехом всё как-то необычно. Ну посудите сами: молодой человек до столкновения с Корманом, который за 22 недели научил его снимать, монтировать, озвучивать и бегать за кофе, занимался в основном киножурналистикой, обожал критиков из французского журнала Cahiers du Cinéma, Трюффо и писал про кино для журнала Esquire. Да, был насмотрен и начитан. Более того, работа киножурналистом позволила ему познакомиться с Орсоном Уэллсом и даже подружиться с ним. А Орсона Уэллса в Америке принято уважать.
Более того, есть термин «уэллсовские парни» – это те мастера, которые попали под влияние масштаба личности Орсона Уэллса.
Но в Голливуд его затянул совсем другой человек – режиссёр Фрэнк Тэшлин, который известен своей работой над мультфильмами Looney Tunes. Он понял, что у парня мечта превратиться из журналиста в режиссёра на манер кумиров Питера – Годара, Шаброля и того же Трюффо. В Голливуд Питер отправился со своей женой Полли Платт, которая была девушкой гораздо более образованной, нежели сам Богданович, – во всяком случае, она окончила Технологический университет Карнеги и понимала всё в театральных костюмах. И да, она потом стала первой женщиной – художником по костюмам, которую приняли в Гильдию художников кино. Более того, она, например, была человеком, который заставил Грёйнинга нарисовать, наконец, «Симпсонов» и открыл Уэса Андерсона. Но это будет позже, гораздо позже.
А пока она посоветовала мужу на первую картину взять дебютантку Сибилл Шепард, с которой её муж самым банальным, клишированным образом закрутит роман, что приведёт к концу брак Богдановича и Платт.
В «Последнем киносеансе» (The Last Picture Show) хороши все – совсем молодые Шепард, Тимоти Боттомс и Джефф Бриджес. И да, Джефф Бриджес тоже когда-то был мальчиком, хотя многие и не поверят. Фильм про американскую глубинку сделан на удивление глубоко и смело. И дело даже не в обилии (по тем временам) наготы, а в ощущении того, что все урюпински мира – это отдельная вселенная, где обитают одни и те же подростки, одни и те же Женщины Трудной Судьбы, одни и те же мужчины. С поправкой на климат, марки автомобиля, пива и имя учителя физкультуры. Это очень зрелый, очень хорошо сделанный фильм. Как бы даже не по годам и не по выслуге в профессии.
Но последующий ажиотаж, возникший после выхода фильма, вообще меня обескураживает. Можно сказать, дебютанту, выходцу не из этого бизнеса накидали восемь номинаций на «Оскар» и вручили два. Это просто фантастика. Кассовый сбор тоже очень неплох – при расходах 1,3 млн фильм собрал 29,1 млн.
Наверное, деньги с этой картины позволили Богдановичу купить особняк в модном лос-анджелесском районе Бель-Эйр.
Тот самый особняк, в котором он позволил жить Орсону Уэллсу, когда великому и почитаемому в Америке Уэллсу просто тупо негде и не на что было жить.
«Последний киносеанс» был экранизацией книги писателя Ларри Макмёртри, он же написал «Техасвилль», по которому Богданович позже, в 1990-м, снимет сиквел «Последнего киносеанса». И да, это тот же писатель, который по чужому рассказу напишет сценарий «Горбатой горы».
Следующий фильм «В чём дело, док?» (What's Up, Doc? 1972) – полная противоположность «Последнему киносеансу». Если вы помните, то фраза «What's Up, Doc?» – из мультфильма про Багза Банни. И всё это кино, если не рассматривать его как трибьют на Багза Банни, выглядит бесконечной профессиональной катастрофой. Он к тому же весь разваливается на отдельные сцены и вообще, на мой взгляд, довольно идиотский. Видали комедии и посмешнее. Тут играет Барбра Стрейзанд, которой даже дали спеть одну песенку, и Райан О'Нил, исключительный красавчик с придурью… В общем, у итальянцев такие вещи получаются гораздо лучше и органичнее. Тем не менее картина оказалась сверхуспешной – при бюджете 4 млн она собрала 66 млн. Это был третий по сборам фильм года в Америке. Первым стал «Крёстный отец».
Я иногда думаю: зачем я так навязчиво цитирую бюджеты, сборы разных фильмов разных режиссёров? А вот зачем.
Американское кино так устроено, что если есть реальная касса – ты суперрежиссёр, герой и кумир. Но если ты снял гениальное кино, которое провалилось в прокате, ты становишься довольно быстро никем в буквальном смысле слова.
Ну разве что если ты не Вуди Аллен.
Так вот, с довольно дурацким фильмом Питер Богданович становится супергероем и красавчиком, которого любят все: Фрэнсис Форд Коппола подаёт ручку, а Уильям Фридкин открывает пиво. Он вошёл в так называемый A-list индустрии – в список топовых. Более того, он именно с Копполой и Фридкиным затевает компанию, которая незатейливо называется «Компания режиссёров». Это такая продакшен-контора при Paramount. При этом Paramount даёт парням полный творческий карт-бланш и не вмешивается в работу гениев.
С ходу три режиссёра делают три фильма: Коппола снимает политический триллер «Разговор», Фридкин должен сделать «Парни из академии Блу-Хилл», а Богданович – «Бумажную луну». На деле получилось, что Фридкин не смог вообще ничего, «Разговор» стал отличным, но не шибко коммерческим, и только Богданович собрал кассу со своей «Луной». И тут выяснилось, что по договору Богданович должен делиться своими деньгами с остальными «компанейцами». Ему это так не понравилось, что компания быстро закрылась. Но, может, это и к лучшему. Мы, конечно, можем говорить сколько угодно, насколько круто Богданович разбирается в истории кино и в его теории, но когда им принесли сценарий «Звёздных войн», Богданович был первым, кто высказался против того, чтобы «Компания режиссёров» выпускала этот фильм. А ведь всё могло сложиться совсем по-другому. «Звёздные войны» до сих пор золотят ручку каждому, кто вписался в эту вселенную. Подвело чутьё эксперта.
Но зато он снял «Бумажную луну» (Paper Moon, 1973). На самом деле грустно осознавать, что вершина карьеры Богдановича как режиссёра – именно эта удивительная лента эпохи большой депрессии. Лёгкая комедия, разыгранная, по сути, между актёром-папой Райном О'Нилом и дочкой Татум О'Нил (сложно сказать про девятилетнего ребёнка «актриса» хотя бы потому, что, как известно, в кино лучше всех играют дети и собаки). Два мелких симпатичных жулика. Кино снято с прекрасным чувством времени, стиля и меры. Пусть сегодняшние зожники бьются головой об стену при виде курящего девятилетнего ребёнка – кого волнует их мнение, когда речь идёт о произведении искусства? Фильм, снятый по повести «Молитва Адди» Джо Дэвида Брауна, обошёлся в 2,5 млн, а принёс 30,9 млн. Этот успех только укрепил позиции Богдановича в списке суперрежиссёров Америки.
Но следующая картина, «Дейзи Миллер» (Daisy Miller, 1974), снятая по новелле Генри Джеймса 1878 года с новой музой Богдановича Сибилл Шепард, похоронила независимую «Компанию режиссёров» окончательно. Богданович потом оправдывался: «Это хорошая картина, в ней нет ничего плохого»… «Я знал, когда мы её снимали, что она некоммерческая»… «Если бы я был умнее, я бы не стал делать что-то настолько некоммерческое». Он говорит, что финансовый провал фильма «подорвал доверие студии» к нему. То есть ты можешь заработать для студий сколько угодно денег, но стоит чуть-чуть снизить планку заработков, как ты тут же теряешь доверие. Тем не менее кто-то заметил, что картина сделана весьма тщательно, и её даже выдвинули на «Оскар» в категории «Лучшие костюмы», но победил «Великий Гэтсби».
А потом новая муза Сибилл Шепард подарила Богдановичу сборник песен Коула Портера. Ну кто ж из нас не любит слабать на ночь глядя на рояле или гитарке I've Got You Under My Skin. Даже Боно из U2 любит. Портер – реально выдающийся композитор, но лучше бы она подарила ему пистолет или массажёр Magic Wand фирмы Hitachi – они как раз вошли тогда в моду среди девушек, потому что фильм «Наконец-то любовь» (At Long Last Love, 1975), основанный на 18 песнях Коула Портера, провалился уже с оглушительным треском. Он был стильный, он был прямо трибьютом на выдающиеся музыкальные картины 30-х годов типа «Весёлой вдовы», но рецензенты сразу заявили, что худшего исполнения песен Коула никто ещё не слышал. Ну да – пели-то Сибилл Шепард и Берт Рейнолдс, кому ещё петь? Богданович потратил 5 млн, а собрал 2. Это было совсем не вовремя.
А вот с критикой следующего фильма, «Торговцы грёзами» (Nickelodeon), я не согласен. Фильм о ранних киноделах Штатов не просто стильный и проникнутый любовью к профессии, которая тогда не отличалась от балагана. Он совершенно точный в каждой своей детали. Хотелось бы, кстати, остановиться на одном: в фильме всё время боятся, а также дерутся, борются и стреляются с некими агентами патентного агентства. При чём тут кино и какие-то патентные агенты?
А дело в том, что вся интрига основана на том, что мосье Эдисон, великий, так сказать, изобретатель, считал, что все решения относительно кинопроцесса принадлежат ему. И запрещал тем, кто ему не платит, снимать кино. Показывать, впрочем, тоже. И он натравил на новых киношников армию агентов патентного ведомства, которые в конце концов начали действовать совершенно как бандиты – врывались на площадки, громили аппаратуру, били людей. На каких-то территориях у них были более сильные позиции, на других – почти никаких. Именно поэтому новые независимые перебрались в Калифорнию, а точнее, в ЛА – они все бежали от патентных бандитов Эдисона и правительства. Так родился Голливуд. И, собственно, в фильме Богдановича показан тонкий переход от почти бутлегерской тусовки к большой профессии, которая вот-вот должна родиться.
В общем, независимо от качества фильма он провалился в прокате. Богданович винил в этом студию, которая провалила маркетинг. Но это был уже третий провал подряд, и от его авторитета в глазах студии не осталось и следа.
Богданович перестал снимать кино на три года, и в это время опять занялся писательством – он собирал свои интервью и статьи в сборники. Потом снял «Святого Джека» (Saint Jack).
Права на экранизацию буквально заработала своей грудью Сибилл Шепард – она подала на журнал Playboy в суд за то, что он опубликовал её обнажённые кадры из фильма «Последний киносеанс». Частью судебного соглашения была передача прав на экранизацию романа Пола Теру «Святой Джек». Продюсером фильма выступил Роджер Корман, так что широкого размаха трудно было ожидать. В ролях – Бен Газзара и Джордж Лэзенби (самый отвратительный Джеймс Бонд). Жанр – криминальная комедия, и он совсем неплох. Сам Богданович считает его одним из лучших своих фильмов, но понимает, что его толком никто не увидел.
Второй его самый любимый собственный фильм – это «Они все смеялись» (They All Laughed, 1981), романтическая комедия с Одри Хепбёрн и Дороти Стрэттен.
Cо звездой журнала Playboy Дороти Стрэттен получилось нехорошо. Это целая история, которая описана в том числе и в фильме Боба Фосса «Звезда-80». Её познакомил с Богдановичем Хью Хефнер, и Сибилл Шепард оказалась слита. Питер и Дороти стали парой, он её тут же взял в новую картину. Но пока шло производство, бывший муж Стрэттен приехал и просто убил её.
Роль Богдановича во всём этом скандале в прессе, в книгах и даже в кино оценивается крайне негативно. Раздавались крики о том, что они с Хефнером гнусные сексуальные эксплуататоры. Хотя при чём тут Богданович, вообще непонятно. Он даже эпитафию ей на могилку выбрал самолично – из Хемингуэя. Любопытная деталь: в фильме Боба Фосса роль Дороти Стрэттен играет Мэриэл Хемингуэй.
А Питер – человек последовательный, так что через некоторое время он стал встречаться с родной сестрой покойной Дороти Стрэттен, двадцатилетней Луизой, и даже на ней ненадолго женился.
Дистрибуцией фильма «Они все смеялись» Богданович занимался сам. В 1985-м подал на банкротство, в чём винит ту самую дистрибуцию 1981 года. Тут я вижу какие-то странности. В заявлении он указывает, что дошёл до крайности и получает в месяц всего 75 тыс. долларов, в то время как расходы у него – 200 тыс. долларов. При этом один доллар в 1981 году – порядка трёх сегодня. На что он тратил 600 тыс. современных долларов? Вопрос ценой в сюжет для авантюрной комедии или полицейского боевика.
Однако фильм «Маска» 1985 года с Шер заметили в Каннах и даже что-то дали Шер в награду. Ну кто бы не дал Шер, если она уже приехала? А фильм – история реального парня с редким заболеванием под названием «краниодиафизарная дисплазия». Но «Маске» сопутствовал не только успех среди критиков: при бюджете 7,5 млн фильм собрал 48,2 млн и «Оскар» за грим.
Казалось бы, чёрная полоса прошла для режиссёра, и он пытается подтвердить коммерческий успех комедией «Незаконно твой» (Illegally Yours, 1988) c Робом Лоу в главной роли. Но это оказался не просто провал. При бюджете 13 млн сбор составил… 259 тыс. Как такое может случиться без сильнейших ошибок в дистрибуции и маркетинге – непонятно. Но факт.
Сиквел «Последнего киносеанса», «Техасвилль» 1990 года, тоже провалился. И критики его не оценили. Прокатиться на собственной ранней славе не получилось.
Фильм «Безумные подмостки» (Noises Off, 1992) мне кажется очень даже недурным. Наверное, потому, что он поставлен по английской пьесе 1982 года (автор – Майкл Фрейн). Более того, вы тоже знаете эту пьесу – в России она идёт под названием «Шум за сценой», и впервые её показал Театр им. Моссовета в постановке Инны Данкман аж в 1987 году. Прекрасно, что тут даже такие, казалось бы, совсем голливудские актёры в плохом смысле слова типа Кристофера Рива («Супермен») играют от корней – по-театральному. Автору пьесы, Фрейну, фильм понравился. Но он тоже провалился – при бюджете 12 млн собрал всего 2 млн. Вот тут прямо-таки обидно. Хороший же фильм – в строгих жанровых рамках, с отличной игрой актёров.
В 1993-м Питер снял «То, что называют любовью» (The Thing Called Love) про мечту о карьере в Нэшвилле – столице кантри-музыки. Ривер Феникс, Саманта Мэтис. Это последняя роль Ривера Феникса в кино. Более того, из-за смерти Ривера часть проката, особенно в южных штатах, пошла побоку, и фильм стал наименее прибыльной картиной 1993 года.
Потом Питер был занят книгами и банкротством (уже вторым по счёту) и появился только в 2001 году в Локарно с фильмом «Смерть в Голливуде» (The Cat's Meow), прекрасно и скромно поставленной историей смерти кинорежиссёра Инса на борту яхты магната Уильяма Хёрста в 1924 году. Тут хорошо выглядит Кирстен Данст, всё очень ар-деко.
Только при расходах 7 млн фильм собрал вдвое меньше. Похоже, Богданович пошёл по пути Вуди Аллена, не имея такой поддержки, как Вуди.
Но он не сильно скучал – всё-таки профессиональный актёр, поэтому снимался в «Клане Сопрано», да и большой поклонник его творчества Тарантино снял его в обоих «киллбиллах». Плюс занимался преподаванием в университете, и вот это всё.
В 2014-м вышел его последний фильм – эксцентрическая комедия «Мисс Переполох» (She's Funny That Way). В сценаристах значится не только Питер Богданович, но и Луиза Стрэттен, с которой он давно развёлся. Просто сценарий 2005 года – про проститутку, которая собирается стать голливудской актрисой. Фильм прокатали на Венецианском фестивале.
Стабильность – признак мастерства: при бюджете 10 млн фильм собрал 6. Но кого это уже волнует, не так ли?
Настроиться на чудо
Новогоднее – оно же в остальных странах, кроме стран Залива, рождественское кино – отдельный жанр. С точки зрения героя Билла Мюррея в фильме Scrooged, это то, что заставит людей сидеть у телевизора и повышать магнатам рекламные расценки. А ещё, с нормальной, человеческой точки зрения, – нечто, что объединит семью на праздники, утешит одиноких, развеселит компанию и так или иначе пройдёт через всю жизнь, как добрая память и даже привычка.
Собственно, то, что мы только что описали, вполне укладывается в концепцию непрекращающейся народной любви к вечнозелёной картине «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Интересно, конечно, как она воспринимается уже новыми поколениями, – думаю, всё больше и больше шуточек проходит мимо ушей, и она потихоньку переходит в разряд «фильмов для бабушек». Не знаю, я с внуками обычно смотрю на Новый год что-нибудь из «Квартирников у Евгения Маргулиса»: рок-н-ролл объединяет поколения лучше, чем кино. Хотя…
Понятно, что про «Карнавальную ночь» уже мало кто вспоминает, но это тоже один из немногих реально новогодних фильмов made in USSR. Однако свято место пусто не бывает, поэтому мы получили «Иронию судьбы 2» (2007) с прекрасными артистами и странным исполнением. Зато Тимур Бекмамбетов стал основным поставщиком новогоднего контента в русском кино, потому что «Ёлки» – это тоже его. А потом уже «Ёлки 2» (2011), «Ёлки 3» (2013), «Ёлки 1914» (2014) и так далее. Раньше у актёров была нехилая прибавка к жалованью – «ёлки», то есть работа на праздниках: «Алё, какой Голливуд, у меня ёлки!» Теперь это не просто «ёлки», а «Ёлки». С чем и поздравляем Ивана Андреевича Урганта. И ведь реально русский кинематограф старательно отрабатывает «дату»: на самом деле новогодних фильмов много и они разного качества. А уж запомнили вы их или нет – это вопросы к производителям.
Традиционная международная продукция тоже недурно укрепилась в локальном сознании. При этом рождественско-новогоднее кино давно уже отрабатывает очень разные сюжеты – от романтической комедии до боевиков и хоррора.
Скажем, «Крепкий орешек» 1988 года режиссёра Джона МакТирнана с Брюсом Уиллисом – это классический боевик-блокбастер или рождественское кино? И то, и то одновременно. А для тех, кто не понял, – на титрах вам древний певец Вон Монро со своим оркестром споёт Let it snow, Let it snow, Let it snow…
Главное, чтобы действие позволяло поставить ёлку в кадре и чтобы прозвучали хотя бы отдалённо Jingle Bells и прочая классика. А за время развития поп-культуры специальных рождественских хитов написано и записано тоннами. От тех самых «Колокольчиков» до «Знают ли они, что уже Рождество?» сборного коллектива британских рок-звёзд и «Хорошего Рождества всем» группы Slade (наверное, самая прикольная рождественская песенка).
И в рождественском кино не факт, что лидируют американцы. Потому что, например, есть «Настоящая любовь» (Love Actually, 2003) британца Ричарда Кёртиса – настоящая современная сказка про премьер-министра (Хью Грант), который влюбился в обычную простую девушку, и про писателя (Колин Фёрт), который переживает трагедию на любовном фронте. Это довольно мило, если не задумываться о классовом характере британского общества, который сквозит там изо всех щелей. А ещё главное – не путать его с другим фильмом, где играет Хью Грант, – «Четыре свадьбы и одни похороны». Спойлер: в «Настоящей любви» есть ёлочки в кадре.
Не знаю, стоит ли в этом признаваться, но мне очень нравились рождественские specials сериала «Доктор Кто» (Dr Who) – это маленькие телевизионные шедевры независимо от того, кто играл Доктора. И даже наиболее свежие specials хороши, несмотря на полную катастрофу с Доктором-женщиной и навязчивую левацкую пропаганду внутри сериала.
Британский фильм «Миллионы» (Millions, 2004) с Джеймсом Несбиттом мало кто знает, но тем не менее он считается одним из лучших праздничных фильмов. И пусть вас не сбивает с толку, что он начинается летними пейзажами. Из самых новых – «Дед Мороз вернулся» (Father Christmas is Back, 2021) c Элизабет Хёрли и «монтипайтоном» Джоном Клизом. Собственно, с британцев отдельный спрос, потому что именно Чарльз Диккенс, можно сказать, основоположник жанра с его «Рождественской песней» 1843 года. И по Диккенсу полно прямых экранизаций – это и мини-сериал режиссёра Ника Мёрфи (2019), и фильмы Роберта Земекиса (2009), Клайва Доннера (1984) и т. д. И не все они милые, потому что Эбенезер Скрудж – трагическая фигура, да и события в повествовании довольно страшные. Но образ Скруджа и даже его имя, которое стало нарицательным, присутствуют в совсем других картинах, отсылая нас к Диккенсу, или просто живут сами по себе, как у «Диснея». Но мой выбор – «Рождественская песнь Чёрной Гадюки» (Blackadder's Christmas Carol, 1988) c Роуэном Эткинсоном, которого публика знает как Мистера Бина. Ну и, конечно, «Рождественская песнь Маппетов».
Диккенсовская тема живёт даже в фильме «Новая рождественская сказка» (Scrooged, 1988) Ричарда Доннера, который постоянно отсылает нас к истории Эбенезера Скруджа. Только про корпоративную культуру на телевидении. Билл Мюррей, как всегда, прекрасен, а сцена, где великий Майлс Дэвис играет на улице за «донаты», длится буквально минуту, но она делает мой вечер. Герой Мюррея бросает ему злобно: «Вы там в ноты хоть попадать научитесь сначала». Сцены корпоративных вечеринок могут сейчас довести до инфаркта членов отвратительного woke-комсомола.
На удивление, но «Гремлины» (Gremlins, 1984) – это тоже рождественское кино. И руку к нему приложил Джо Данте, который с Ричардом Доннером прославился и «Полицейским взводом», и «Байками из склепа». И даже Стивен Спилберг. Сценарий Криса Коламбуса, который уже в качестве режиссёра принёс нам ещё один рождественский фильм – «Один дома» (Home Alone, 1990). Вечно юный Маколей Калкин так и остался исполнителем роли мальчика. Многие критики даже успели его обругать – ровно до того момента, пока не стало понятно, что при бюджете 18 млн он собрал почти полмиллиарда. Вот это я понимаю – рождественская история.
Выдающийся сказочник нашего времени Тим Бёртон сделал три рождественских фильма. Один – «Эдвард руки-ножницы» (Edward Scissorhands, 1990). Главного персонажа придумала писательница Кэролайн Томпсон, на чём её вклад в мировую культуру и завершился. Джонни Депп, видимо, из-за тяжёлого грима, тут выглядит приличным актёром. А весь образ главного героя Бёртон слепил с образа лидера группы The Cure Роберта Смита, снабдив его ножницами вместо пальцев. Трогательная история, которую бабушка рассказывает внучке на вопрос, откуда берётся снег. Особый визуальный талант режиссёра каждый фильм превращает в арт-манифест. Возможно, во втором рождественском фильме Бёртона, «Бэтмен возвращается» (Batman Returns, 1992), он был немного ограничен оригинальной стилистикой комиксов, но готическая атмосфера не мешает фильму быть именно рождественским. Плюс Дэнни ДеВито и Мишель Пфайффер.
Полнометражный анимационный фильм Бёртона «Кошмар перед Рождеством» (Nightmare Before Christmas, 1993) тоже носит отпечаток готичности. Но он парадоксален, прекрасно нарисован и вообще – классика жанра. И да, это мюзикл.
Из классических сказок, которые для нас классикой не успели стать, с картиной «Как Гринч украл Рождество» (How the Grinch Stole Christmas, 2000) можно получить свою дозу рождественского настроения. Хотя Джим Керри может перевернуть с ног на голову наше представление о празднике. Но, конечно, Арни Шварценеггер в «Подарке на Рождество» (Jingle All the Way, 1996) ещё страшнее. Если вы ещё не придумали, какую модную – самую модную – игрушку подарить своему ребёнку на НГ, лучше этот фильм не смотреть всей семьёй, а то могут возникнуть вопросы типа «Папа, а подаришь PlayStation 5?» (или что там у нас в моде в этом сезоне).
Для парадоксальных и неконвенциональных тоже найдутся рождественские фильмы. Один из них – «Поцелуй навылет» (Kiss Kiss Bang Bang, 2005) с Робертом Дауни – младшим и Вэлом Килмером. Он мог бы понравиться и небинарным, но тут чётко говорится о том, что когда мужчины целуются – это противоестественно. Да, были времена в Голливуде. По-моему, это единственный рождественский фильм в стиле нуар.
Но есть и рождественское кино в жанре хоррор – «Анна и апокалипсис» (Anna and the Apocalipse, 2017). Это британская картина, снятая по очень удачной короткометражке «Зомби», которой к тому же дали премию BAFTA. Правда, самое хоррорное в ней – это то, что она мюзикл.
Конечно, картина неполная, но как минимум неделю перед Новым годом вам будет что посмотреть. Настроиться на чудо. А чудо, как учит нас этот жанр, может случиться всегда. И, как говорил один травмированный чёрный пацан из Scrooged, – «благослови нас Бог».
Режиссёр в белых штанах
Шестиминутный фильм «Злоключения французского джентльмена без штанов на пляже Зандворта» (1905) считается самым старым сохранившимся кинопроизведением страны Нидерланды. С тех пор вклада в кино бывшей великой страны, которая подарила миру капитализм, колониализм, краски для живописи и добрую часть самой живописи, никакого особого и не наблюдается.
Русские критики ещё могут смешно по-американски назвать Пауля Верхувена, Йеруна Краббе, Рутгера Хауэра, Фамке Янссен, но до Менно Мейеса уже не дойдут. А всё потому, что таких людей давным-давно в голландском кино не существует – они все в Америке. Про единственного оскароносца, послевоенного Фонса Радемакерса, или Йориса Ивенса с «пальмовой веткой» сейчас уже никто и не вспомнит. Ну и Майк ван Дим, конечно.
Всё очень просто: не бедна талантами страна Нидерландия, просто рынок для местного кино – микроскопический. И когда в головах отечественных кинодеятелей бродят громкие мысли, как было бы здорово, если бы Россия разделилась на много прекрасных стран типа Голландии (у некоторых ещё пример – Швейцария, но никто не говорит про Албанию), они не в состоянии понять, что и кино вашему тогда точно хана. Но пока живёшь на государственные деньги, можно и помечтать, не правда ли? Можно ещё помечтать о Голливуде, куда тебя заберут на голубом вертолёте, но много ли вас таких в Голливуде? Ноль без палочки.
Кстати, пример Верхувена с Хауэром тоже мало кому помог в Голландии – целое поколение 1980-2000-х возвращалось из Америки пачками, потому что так и не смогло пробиться. Кому в Америке нужен актёр по имени Антони Виллем Константин Гнеомар (Антони) Камерлинг? То-то и оно.
Зато сегодня всё кинопроизводство в Нидерландах производится при помощи государственного фонда кино, что позволяет хоть как-то присутствовать на собственных же экранах, где теперь примерно в год 30 местных фильмов, европейских – 70, а американских – 115. Сто пятнадцать. Так и запишем. При этом «свои» стабильно проваливаются в прокате. И это тенденция десятков лет.
Местные режиссёры во многом выходцы (и обратно ушедшие) из театральной среды. Тут большое количество государственных театров и небольших театральных трупп – в них как раз и имеют более стабильную работу и режиссёры, и актёры страны. Это не может не накладывать отпечаток на характер кинематографа. Как по мне, так в лучшую сторону.
Прекрасный пример такого выходца – Алекс ван Вармердам, второй голландский режиссёр, который за всю историю местного кино номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля (2013).
Первый театральный проект Алекса с друзьями назывался Hauser Orkater и функционировал с 1974 года. Там много внимания было уделено музыке – песни писал сам Алекс (текст), а музыку – его брат Винсент. Они даже сами выпускали альбомы (Op Avontuur, 1974), которые продавали исключительно на гастролях театра. В составе играл ещё один брат – Марк ван Вармердам. Почему я вдруг перечисляю всех родственников Кролика, как говорил Милн? Потому что когда вы будете смотреть его фильмы, вас первым делом удивит количество ван Вармердамов в титрах.
Тесный семейный круг, занятый в творческом процессе и кинопроизводстве у этого режиссёра, – натуральная фишка. И что удивительно – она приносит свои плоды. И даже отражается на эстетике его картин.
Кстати, в 2005 году на мейджор-лейбле EMI вышел диск Hauser Orkater – Zie De Mannen Vallen. Их выступления были несколько похожи на то, что делали наши «Авиа»… Естественно, за счёт театра Антона Адасинского. Но в 1980-м Алекс уже организовал собственную (с братом Марком) театральную труппу De Mexicaanse Hond («Мексиканский пёс» – видимо, трибьют «Андалузскому псу»), и это вполне активный до сих пор театр. Как-то, совершенно случайно, я посмотрел их спектакль «Помилуй нас» (Wees ons Genadig) по сценарию Алекса в 2007 году. Но я даже и не думал, что Вармердам – известный голландский кинорежиссёр. Не знать – не зазорно, стыдно не хотеть знать.
Собственно, в перерывах между фильмами – а они у него реально большие – он занимается театром и так кормит своих актёров, которые снимаются у него практически во всех фильмах, примерно как у Аки Каурисмяки. Только Аки вписывает актёров в работу своих гастрономических предприятий, а Алекс – в театр.
Поначалу Вармердам снимал короткий метр, и это понятно: короткометражки и документальное кино в Голландии – более практичный вариант. Снявшись в качестве актёра в Adelbert (1977), он уверовал в силу кино и уже в 1978-м написал сценарий Entrée Brussels, основанный на выступлениях театра Hauser Orkater. Потом – местное телевидение. И в 1986-м – первый полнометражный фильм «Авель» (Abel).
По-моему, Вармердам предвосхитил всё, что случится в двухгодичный локдаун с европейской молодежью. Время действия – условные 50-е. Место – условные Нидерланды. Главный герой, которого играет он сам, не выходит из дома, ни с кем не общается, живёт в глухом вакууме с бесконечным контролем со стороны родителей, хотя ему уже 31 годик стукнул. Вот всё, что есть в этом фильме, – атмосфера кукольного существования, она так и останется характерной для всех его фильмов. Плюс немного фрейдизма. (Одна сцена, как мать вылизывает ему лицо на манер собаки, чего стоит.) Естественно, музыку к нему написал брат Винсент. Девушку из стриптиза играет Аннет Мальэрб, жена Вармердама, которая потом снимется практически во всех его фильмах.
В первой же картине он заявил ещё один личный принцип, который его также роднит с Каурисмяки, – это постоянный баланс между ужасным и комичным. Зритель катается на этих американских горках всю картину. При этом никаких нарочных «шуточек» и прочего комикования у него и в помине нет. Он просто рассказывает истории. «Я иногда не понимаю, почему народ в зале смеётся», – говорит сам режиссёр. Премьерный показ посетило более 300 тыс. зрителей, а денег на производство дал общественный вещатель VPRO – бывшее Либеральное протестантское радио.
Второй его фильм «Северяне» (De Noorderlingen, 1992) легко можно обозвать артхаусом (самый бессмысленный термин, столь распространённый в РФ, – в Германии, например, вместо него используют «национальное кино»). А можно назвать символом голландской жизни. Да чем угодно. На самом деле в 1990-м это был спектакль театра Вармердама. Он и выглядит, как спектакль, и выстроен точно так же. А декорации – городок из нескольких домов и одной улочки в дюнах на краю леса – именно театральные. Тут есть все типажи, герои, хор (обычно это молчаливые тётушки, толпой пялящиеся в чужие окна). Символический лес, где происходит половина местных трагедий. Обезумевший без секса мясник. Негр, сбежавший из человеческого зоопарка. Жена в депрессии, ставшая официально святой. Мальчик с блэкфейсом, думающий только про то, как там сейчас в Африке поживает Лумумба. И, несмотря на изрядное количество трупов, это опять смешно. И очень живописно.
Продюсером картины выступил Дик Мас, режиссёр, который раньше снимал видео для местной группы Golden Earring, а потом получил «Оскар» за фильм «Характер» в 1998-м. Удивительно, что на таком материале какой-нибудь российский режиссёр на государственные деньги снял бы чернуху, от которой повесились бы даже мухи на потолке. А у Вармердама – покой и внутренний свет. Хотя, может быть, просто кто-то забыл выключить лампочку.
Фильм пытались протолкнуть на «Оскар», но его зарезали уже на стадии национальной номинации. А потом зарезали режиссёра Тео ван Гога, который снялся в этой картине.
Следующая картина у него вышла только в 1996-м – «Платье» (De Jurk). И по ней видно, как удивительно тонко Алекс составляет все детали своих повествований. По сути, это история платья от хлопковой коробочки до полного уничтожения, и оно, это платье, проходит через судьбы совершенно разных людей. Приём простой, но очень свежий. При этом Вармердам утверждает, что, садясь за сценарий, он не представляет, куда вырулит повествование, и об этом у него есть ещё один смешной фильм – «Официант» (2006). Но выпускникам недельных курсов сценаристов в Интернете со всеми этими «арками» это будет вряд ли понятно.
Все картины режиссёра вневременные. Он умудряется сделать так, что любой его фильм не выглядит снятым когда-то, десятилетия назад. Притом что кино – один из самых скоропортящихся продуктов.
«Маленький Тони» (Kleine Teun, 1998) показывали в Каннах в секции «Особый взгляд». Но это опять жизненная история и, конечно, совершенно доведённая до крайности. И опять зал смеётся. Ну, потому что у режиссёра есть внутренняя мощная витальность, которая просто не даёт зрителю впасть в уныние.
«Новые сказки братьев Гримм» (Grimm, 2003) – это некое подобие road movie c вкраплениями вполне современных городских легенд. А начинается всё, как у настоящих братьев Гримм: отец бросает детей в лесу, потому что не может их прокормить. А далее уже – путешествие в Испанию и ужасные приключения по дороге. По-моему, не самый лучший фильм Алекса, но за картины леса в традициях нидерландской живописи ему можно всё простить.
«Официант» (Ober, 2006) – прекрасный рассказ о природе писательского труда, но вот без вудиалленовского нытья. Более того, это чистая фантасмагория, когда в повествование начинают вмешиваться герои повествования. Естественно, главную роль играет сам режиссёр. По поводу того, что он сам играет в своих фильмах, он обычно отвечает так: «Я не смог найти актёра на эту роль». И, несмотря на свою глубину, фильм опять смешной.
Вот что ни снимает Алекс – у него всё получается комедия.
В картине «Последние дни Эммы Бланк» (De laatste dagen van Emma Blank, 2009) режиссёр играет собаку. Ну или человека, которого заставили быть собакой. В этом фильме, который легко мог бы быть русской классической пьесой а-ля Антуан Чекхофф, все играют навязанные роли в ожидании наследства. И это тоже и смешно, и жалко, и страшновато. Но, скорее всего, вы будете опять смеяться почти всю картину. Фильму иногда пытаются клеить лейбл «сюрреалистическое кино». Но оно ровно настолько сюрреалистическое, насколько сюрреально выглядит «Вишнёвый сад» или «Большая жратва» Марко Феррери.
«Боргман» (Borgman, 2013) – фильм, по которому Вармердама узнали даже обитатели смузечных и коворкингов. Тут режиссёр выходит на какой-то иной уровень – и по качеству кинематографии, и по мощи взбаламученного безумия. И да – к сожалению, тут смеяться особо не над чем. Сюжет нет смысла даже пересказывать не потому, что это будет спойлер. Просто тут необъяснимо всё, а стало быть, всё поддаётся максимально вольному прочтению. Фильм номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Его выдвигали от Нидерландов на «Оскар», но фильм так и не был номинирован.
А вот со «Шнайдером против Бакса» (Schneider vs. Bax, 2015) режиссёр возвращается к самому себе в лучшие годы. Солнечная Голландия (уже смешно), все в белых штанах (чтобы более солнечно выглядело), кругом болота и каналы, и в них хорошо прятать трупы. Дуэль двух киллеров, растянутая на весь хронометраж, и, как всегда, – панорама голландской жизни и, может быть, даже общества. Одного из киллеров играет сам режиссёр. Ничего удивительного.
Пока мы ждём выхода его следующего фильма, который называется просто Nr. 10, хочется порадоваться, что есть ещё режиссёры, для которых нет границ и есть постоянство – признак мастерства.
Вуди Калининградский с Манхэттена
Терпеть не могу манхэттенских. Они суетливые, громкие, зациклены на себе, психотерапии, сексе и деньгах. А ещё они убеждены, что правят миром. Частично это действительно так – ты никогда не сможешь продать кучу конского навоза с табличкой art в музей Пегги Гуггенхайм, если тебя не выставит манхэттенская кураторша, которая ещё помнит объятья Дали и Поллока.
Во многом многолетний успех Вуди Кёнигсберга, который вдруг стал Алленом, основан на поддержке именно таких манхэттенских старушек. Потому что остальному миру и остальным народам не очень интересно и не очень понятно, о чём порой довольно плоско и злобно шутит Аллен, называя всё это «интеллектуальной комедией». Но многолетняя поддержка из уст в уста так или иначе сделала своё дело, и в европоподобной части мира принято считать Аллена великим режиссёром. Так-то это дело вкуса – многие называют Аллу Пугачёву «великой певицей», при живой-то Барбре Стрейзанд. Впрочем, Барбра – тоже манхэттенская.
Собственно, уже в своём режиссёрском дебюте «Хватай деньги и беги» (Take Money and Run, 1969) он определил всё своё творчество на годы вперёд. Это образ «другого» – рыжего, очкастого, нелепого, которому вечно топчут очки. Это может быть ирландец, еврей, итальянец – любой «другой» в «правильном» американском обществе. Даже если это общество – уличные бандиты-мексиканцы. Ну или манхэттенские кураторши и психотерпевтки с раввинами. Собственно, поэтому его будут клеймить словами self hating Jew, которые он так же впрямую высмеивает практически во всех своих фильмах. «Медикам нужны добровольцы для апробирования новой вакцины. Взамен можно получить досрочное освобождение. Вергилий согласился. У вакцины есть одна побочная реакция – на несколько часов он стал раввином». Фильм в жанре мокьюментари сильно отличается от обычной американской кинопродукции того времени. Он гораздо ближе к британцам. Да и Вуди Аллен, который тут играет главную роль, сильно отдаёт Питером Селлерсом. И общая ориентация на европейское кино будет с тех пор только расти и углубляться.
До этого был фильм «Что случилось, тигровая лилия?» (What's Up, Tiger Lily? 1966), но не позволяет монтаж из японских шпионских картин с новым звуком называть это «режиссёрским дебютом».
Собственно, разговор о Вуди Кёнигсберге-Аллене можно было бы начинать сразу с «Хватай деньги и беги», опустив предыдущую историю его становления. Одно то, что его выперли из Нью-Йоркского универа с факультета коммуникаций и кинематографии за то, что он провалил собственно кинематографию, – это и есть история про нелепого пацана, которому все окружающие норовят разбить очки. Да и кличка у него была Рыжий, и он уже сменил фамилию с Кёнигсберг на Аллен. Просто с тех пор он снял такое количество фильмов, что его начальная карьера комика и сценариста затерялась в глубине веков.
Хотя, конечно, вспомнив какие-то моменты его тогдашней жизни, можно на сто процентов быть уверенным: грань, отделяющая личность автора и его лирического героя, в случае с Алленом удивительно тонка. «Они поженились 15 марта 1956 года в Голливуде, после чего переехали в Нью-Йорк, где Аллен работал над шутками для различных шоу, а его жена изучала философию. Этот брак продлился пять лет; последующие упоминания Аллена о нём всегда отличались большой едкостью. Уже после развода Розен подавала на Аллена в суд за некоторые из таких высказываний, оценивая свои претензии в $1 млн». По-моему, в одном этом абзаце содержится половина сценариев Аллена.
Тут необходимо заметить, что Аллен пришёл в кинематограф не сам по себе, мощью своего таланта. У него были свои «манхэттенские тётушки-галеристки» в лице бруклинского продюсера Джека Роллинса (бывший Яша Рабинович). Бруклинские – они покруче манхэттенских, на самом деле. А ещё Якова Рабиновича отличал нюх на таланты, и он решил сделать из нерешительного юноши Вуди второго Орсона Уэллса. Он работал в паре с Чарли Йоффе и часто даже не ставил своего имени в картинах. Но он был продюсером всех фильмов Вуди Аллена вплоть до 2015 года, когда только смерть разлучила их.
Второй фильм Аллена – «Бананы/Чокнутые» (Bananas, 1971). Достаточно абсурдная комедия, но вполне социальная: «Кем бы ты стал, закончив университет?» – «Не знаю. Меня учили по программе для чёрных, сейчас уже стал бы негром».
Все политические тренды того времени он включил в сценарий, основанный на книге Ричарда П. Пауэлла «Дон Кихот, США» 1966 года. А именно – перевороты в банановых республиках, становление американского левачества и так далее. Главную роль играет сам Аллен. Похоже, он сразу понял, что легче самому сыграть, чем работать с актёром. Кто-то в русской Википедии налепил на фильм тег «ЛГБТ-тематика в кино». Больные люди. Тег «Деятельность ЦРУ по дестабилизации Латинской Америки» выглядел бы логичнее.
Тем временем Аллен цементирует образ невротика из креативного класса, с которого он будет зарабатывать на жизнь с разными жёнами ближайшие десятилетия: «Сыграй это снова, Сэм» (Play It Again, Sam, 1971). На самом деле образ был уже заготовлен в 1969-м, когда Аллен сделал сценарий пьесы для Бродвея. Фильм на самом деле срежиссировал Герберт Росс, но Вуди Аллен сыграл там главную роль. Роль, где маска уже начала приклеиваться к лицу творца модным клеем «Момент».
А дальше идёт фильм, название которого покажется знакомым даже тем, кто ничего не видел в жизни, кроме «Вечернего Урганта». Потому что от названия стараниями бесчисленных журналистов без фантазии уже тошнит. За последние годы вам наверняка встречалась эта конструкция – «Всё, что вы хотели знать о… но боялись спросить» – в заголовках раз пятьсот. Вместо многоточия подставляют всё что угодно, погружая нас в пучину пошлости. Так что увидели заголовок «Всё, что вы хотели знать о…» – можно дальше не читать, КГАМ.
«Всё, что выхотели знать о сексе, но боялись спросить» (Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask, 1972). На самом деле сначала это была книга сексолога Дэвида Рубена, в 1969-м – одна из первых книг для широкой публики по сексу, бестселлер, который спровоцировал так называемую сексуальную революцию. Автор в понятном американской публике форме катехизиса излагал свои взгляды на секс. ЛГБТ-тусу потом аж порвало от того, что он написал про геев, будто они «пытаются решить проблему, имея только половину набора на руках», а про лесбиянок только в контексте проституции. Книга была бестселлером номер один в 50 странах, и её прочитало более 100 млн читателей.
Фильм Аллена если и основан на книге Рубена, то только как тотальная пародия на неё. Режиссёр вывернул наизнанку книжку. Но то, что получилось, сегодня бы уже порвало «новых этиков», хотя мы знаем, что никакой такой «новой этики» не бывает, а бывает только старая, применяемая для достижения политических выгод. Что-то вроде комсомола. Действительно, у Аллена тут армянин, который познал любовь овцы под небом Армении (бац, в обморок упали защитники этносов). Хотя, впрочем, манхэттенский терапевт тоже потом полюбил овцу Дейзи (новелла «Что такое содомия?»).
Прочие неокомсомольцы тоже найдут от чего впасть в истерику в остальных новеллах: «Почему некоторые женщины не испытывают оргазм?», «Гомосексуальны ли трансвеститы?», «Каковы сексуальные извращения?», «Точны ли открытия врачей и клиник, которые занимаются сексуальными опытами и исследованиями?», «Что происходит при эякуляции?». Хотя вряд ли они поймут, что это пародии на телеигры, итальянское кино, на американские фильмы ужасов типа «Капля» и т. д. Для этого надо хоть что-то смотреть, кроме Ксении Ратушной («Аутло»), и читать что-то, кроме партийных сайтиков. И знаете что? Именно на этих сайтиках так любят заголовки «Всё, что вы хотели знать о…» Словом, фильм – прекрасная коллекция абсурда.
Ностальгический взгляд в будущее «Спящий» (Sleeper, 1973) обернулся ещё одной порцией пародийного абсурда, начиная с канвы Герберта Уэллса («Когда спящий проснётся») и заканчивая разными фильмами типа «Последнее танго в Париже». Всякие научно-фантастические штуки консультировал фантаст Бен Бова, и фильм стал 30-м в рейтинге самых великих комедий в истории кино. Ну и премия Hugo от фантастов за 1973 год. Саундтрек в стиле диксиленд (как по мне, так один из самых неприятных стилей в джазе, хуже только биг-бэнды).
С джазом в фильмах Аллена всё и так понятно – он сам играет на саксе и кларнете. Но вместо того, чтобы играть манхэттенский клезмер и фрейлехс, он играет новоорлеанский джаз. Не знаю, как сейчас, но раньше он долгие годы с друзьями Ragtime Rascals играл раз в неделю в баре Michael's на Манхэттене. Там пицца $ 24 и без Вуди. Я лично предпочёл пойти послушать Леса Пола в Fat's Thuesday по $24 за весь ужин.
Но если на «Всё, что вы хотели знать» (вдруг увидят, хотя, надеюсь, так и останутся серыми) напрягутся всякие woke-активистки, то «Любовь и Смерть» (Love and Death, 1975) должна уже напрягать профессиональных русских патриотов. Потому что под великую музыку великого Сергея Прокофьева весь фильм издеваются над великой русской литературой. В общем, было у отца три сына: два богатыря, а третий вовсе был еврей. Да, присядочка герою Вуди Аллена не задалась. В рамках алленовского трибьюта европейской и русской культуре, которой он обязан практически всем, это гомерически смешно. И я думаю, что русскому зрителю процентов на девяносто смешней. Потому что мы слишком хорошо знаем эту литературу, а главное – экранизации её. «Я наполовину святая, наполовину шлюха…» – «Я надеюсь, мне достанется верхняя половина».
Но, похоже, уже к 1977 году у Вуди Аллена закончились списки объектов, подлежащих прямому пародированию, и он полностью меняет стиль, остановившись на неврозах обитателей Манхэттена. Хотя, конечно, это был Бруклин – в «Энни Холл» (Annie Hall, 1977) заявлены все темы, которые дают основание считать местным пожилым обитателям его исключительно великим режиссёром. Существование от депрессии к депрессии, беспорядочная половая жизнь, попытки творчества – и всё это быстро заканчивается, потому что жизнь – как плохое меню в отеле: блюда не только дурные, но и кладут мало. В «Энни Холл» главный герой уже в детстве впал в депрессию от того, что прочёл, как Вселенная расширяется, и поэтому совершено бессмысленно делать уроки. Ну а дальше – сплошные рассуждения по поводу антисемитизма окружающих (в основном выдуманного). И конечно, любовные отношения, в которых все герои Аллена как режиссёра умеют достигать удивительной степени запутанности и противоречивости. «Мы только титры пропустим, а они на шведском!» – герои ссорятся в кино, где дают Face To Face Ингмара Бергмана. О большой любви Аллена к Бергману мы и так уже наслышаны. Вот титры. Титры – это важно.
Начиная с «Энни Холл» 1977 года во всех его фильмах титры выполнены одним и тем же шрифтом – белым Windsor Light Condensed. Этим же шрифтом набраны сборник его эссе «Чистая анархия» и мемуары «Кстати ни о чём». Так что мы сразу видим, зайдя случайно в кинозал, что дают Вуди Аллена. В кинематографе не так много режиссёров, которые разбираются в фонтах и придают им особое значение. Я знаю ещё двоих – Джона Карпентера и Финчера. Да и рабочее название фильма было «Я и мой гой».
Надо сказать, что именно в «Энни Холл» Аллен отточил ещё одно искусство – искусство дикого темпа мысли и реплик. Половину из которых точно можно написать на стене на память.
Но в следующей картине он вдруг обращается к драме без смеха. Более того, он опять вспомнил, что его любимый режиссёр – Бергман. И вот эти 93 минуты на $10 млн мы получили бесконечные разговоры.
«Интерьеры» (Interiors, 1978) так возбудили критиков, что они вспомнили, что тоже когда-то видели Бергмана. Поэтому – номинации на «Оскар» и на BAFTA. Но смотреть это невозможно по причине того, что есть ещё множество дел, которые можно сделать.
«Манхэттен» (Manhattan, 1979) называют лучшим фильмом Вуди Аллена. На самом деле это лучший фильм оператора Гордона Уиллиса, человека, который снимал «Крёстного отца» и «Всю президентскую рать». Чёрно-белый для пущей красивости, Манхэттен становится ареной бесконечных разборок главного героя с его женщинами. 17-летнюю подругу главного героя играет Мюриэль Хемингуэй, образ списан с другой актрисы, Кристины Энгельгардт, которая на тот момент была 16-летней подругой 44-летнего Вуди Аллена. Тут Аллен постулировал свою любовь к малолеткам в реальной жизни, что будет моментом постоянно тянущегося за ним шлейфа сексуальных скандалов и прочих перверсий. Но вот странно: что-то до него так и не добрались всякие #metoo.
Сам Аллен вполне резонно считал эту картину слабой. Но, как и следовало ожидать, публике фильм понравился до невозможности. При бюджете $9 млн он собрал $40 млн. И конечно, всегда находится сотня манхэттенских старушек по всему миру, которые с придыханием пишут про «реальную душу Манхэттена в этом фильме».
Думается, что главный урок, который Вуди получил от этой работы, – что найдётся теперь масса городов в мире, которые захотят отдать ему все бюджетные деньги, лишь бы он снял какую-нибудь историю в их экстерьерах. Это проявится со всей мощью в его поздних работах «Вики Кристина Барселона» 2008 года, «Полночь в Париже» 2011-го, «Римские приключения» 2012-го, «Фестиваль Рифкина» 2020-го – фильмах, в которых даже рука мастера не сильно тушует рекламный посыл. Ни для кого не секрет, что его продюсеры пылесосят городские пиар-бюджеты в индустриальном масштабе.
Но если режиссёр считает своим худшим фильмом «Манхэттен», что же он считает лучшим (или лучшими)? Так вот он – «Воспоминания о звёздной пыли» (Stardust Memories, 1980). Опять очень креативный: на этот раз не писатель, а режиссёр всё никак не может разобраться со своими женщинами и не хочет больше снимать комедии. Чёрно-белый, он полностью сделан в рамках итальянской традиции. Типа «Восемь с половиной». Вот интересно, как это у него происходит? Это уже звучит как анекдот. Вот приходит Вуди Аллен к продюсеру и говорит: «Я написал новый сценарий, там писатель или режиссёр никак не может разобраться со своими бабами». Вот хочется увидеть лицо продюсера при этом. Немудрено, что фильм сколько потратил ($10 млн), столько и собрал.
Иногда разочарованных в сексуальном партнёре творцов не один и не два – они мультиплицируются прямо на экране. Это принцип, который Вуди Аллен ухватил за рога и начал штамповать картины, которые трудно обвинить в копипасте только из-за величия самого Аллена. Вот, например, фильм на музычку Мендельсона «Сексуальная комедия в летнюю ночь» (A Midsummer Night's Sex Comedy, 1982). Разговоры о метафизике, похотливый доктор, похотливая медсестра, фрустрация интеллигенции и так далее. Свой вариант легенды об Агасфере (кстати, кто-нибудь в курсе, уже забанили название «Легенда о Вечном жиде» или нет?) он назвал «Зелиг» (Zelig, 1983). Он тут возвращается к жанру мокьюментари и на самом деле впервые делает нечто, что может быть оценено как прорыв в кинотехнологиях. Задолго до появления компьютеров Silicon Graphics. Необычный еврей в начале прошлого века, который может перевоплощаться в тех людей, с которыми он общается, – это сам Вуди Аллен. В смысле, его играет актёр Вуди Аллен. Есть в этом что-то от грядущего «Форреста Гампа», но по касательной.
«Бродвей Дэнни Роуз» (Broadway Danny Rose, 1984). Очень креативный, но очень невезучий продюсер Дэнни Роуз почему-то собирает вокруг себя таких же неудачников, да ещё и вляпывается в неприятности с гангстерами. Исполнитель роли Лу Кановы Ник Аполло Форте в реальности – музыкант, композитор и певец. А на песенке Agita вы наконец поймёте, откуда в России весь этот «шансон». Некоторые особенности сюжета дают основания полагать, что «Пули над Бродвеем», который вышел через десять лет, зародились уже тогда. Касса фильма опять сошлась в ноль. При такой кассовой успешности, похоже, Вуди Аллену надо было выпускать по одному фильму в год, как на конвейере, что, собственно, он и делал. Хотя у продюсеров всегда есть свои хитрости, и никто реальной бухгалтерии никогда не узнает.
Ещё один фильм, который сам Аллен считает своим лучшим, – это «Пурпурная роза Каира» (The Purple Rose of Cairo, 1985). На самом деле прекрасная идея: герой-любовник сходит с экрана к простой девушке в зрительном зале и какая начинается паника и хаос («Том, немедленно вернись, нам работать надо!» – кричат люди с экрана). В конце концов каждый возвращается на своё место в обоих мирах – реальном и киношном. Довольно мило.
«Ханна и её сёстры» (HannahandHerSisters, 1986). Опять манхэттенская тусовка креаклов, которые хотят кто открыть поварское агентство, кто стать актрисой. А ещё, конечно, они пестуют свои болячки, ипохондрию и прочую депрессию. Разумеется, они не понимают, с кем из тусовки теперь хотят спать. И мучаются по этому поводу. Мой совет – идите в свингеры, заодно и руки будет чем занять. Проблема с этой картиной только в том, что она – словно остальные фильмы Аллена про аналогичную, как теперь принято говорить, «страту». Обычно пожилые девушки, которые черпают всю мудрость жизни из телесериала «Секс в большом городе», в приличном обществе говорят, что любят «Ханну и её сестёр» (и прочего Вуди Аллена, так как другие названия все равно не помнят).
Аллен уже вошёл в сок к этому фильму, и поэтому ему уже начали давать «Оскаров» на автомате. У этого фильма – три статуэтки.
Отвлёкшись наконец от своих манхэттенских недосвингеров, в 1987-м он снимает автобиографические и очень ностальгические «Дни радио» (Radio Days) – картину про 1930-е и 1940-е годы, когда телевидения ещё не было. Вуди Аллен тут рассказчик всяких милых историй про то время, намертво связанное именно с радио. Естественно, фильм в прокате провалился с треском.
И опять Аллен вперил взгляд в русскую классику, в частности в «Дядю Ваню» Чехова, сделав на ее основе банальность под названием «Сентябрь» (September, 1987). Это был ещё больший провал, чем «Дни радио»: при бюджете $10 млн удалось собрать только $400 тыс.
Опять психотерапевты, несостоятельная и фальшивая жизнь обеспеченного upper-middle класса – это «Другая женщина» (Another Woman, 1988). Уже не в виде фарса, а в благородном облачении драмы. Неслучайно Аллен пригласил оператора Свена Нюквиста, который снимал картины Ингмара Бергмана, – для пущей важности и придания европейского класса. И слава богу, сам Аллен тут не снимается. Естественно, картина провалилась в прокате – $10 млн бюджета и $1 млн сборов.
«Преступления и проступки» (Crimes and Misdemeanors, 1989) также продолжают сливаться в один ряд «фильмов-вуди-аллена». Всё-таки человек не может работать в таком темпе – по одному фильму в год. Добавив к сюжету криминал, режиссёру удалось смягчить очередной финансовый фейл. Хотя бы в минус – $1 млн.
Примерно туда же попадает «Элис» (Alice, 1990) – картина про «прекрасно обеспеченную американку, не знающую, куда девать уйму свободного времени после шопинга». Бюджет $12 млн, сбор $7,3 млн. Я что-то не понимаю экономику творчества Вуди Аллена и его продюсера. Не может такое тянуться годами. В бессребреничество денежных мешков я тоже не верю.
Тут Аллен опять обращается напрямую к европейскому наследию и, в частности, – к немецкому киноэкспрессионизму. Его фильм по собственной пьесе «Тени и туман» (Shadows and Fog, 1991) имеет отношение и к Кафке, и к Фрицу Лангу. Картину выпустили только в 1992 году, потратив на неё $14 млн и собрав только $2 млн.
«Мужья и жены» (Husbands and Wives, 1992) – опять про психопата-писателя, неудачный брак, разводы. И даже то, что именно на этой картине увлечение малолетками в жизни накрыло частное лицо (Вуди Аллена) в виде обвинений в совращении приёмной дочери, не смогло сделать фильму кассу: потрачено $20 млн, собрано 10. Хотя впервые под его фильм в Америке дали аж 800 с чем-то залов. Две номинации на «Оскар».
«Загадочное убийство на Манхэттене» (Manhattan Murder Mystery, 1993). Манхэттен – такая вещь вроде Украины: некоторые говорят «в Манхэттене», некоторые «на», но тема стареющего брака и таких же соседей усугубляется тем, что лица за манхэттенским столом всё те же. Когда Вуди Аллен сидит в очередной раз за столом с Дайаной Китон, никто не может сказать, из какого именно фильма Вуди эта сцена. Спойлер: практически из любого. Результат – $2 млн убытка.
Может быть, даже Аллену в 1993 году стало понятно, что эту корову доить – с писателем-невротиком и его беспорядочными связями или даже браками – бесконечно уже просто невозможно, и он снял самый мой любимый из всего огромного списка фильм «Пули над Бродвеем» (Bullets Over Broadway, 1994).
Это совсем не тот Аллен, который уже начал доставать. Возможно, это оттого, что сценарий написан двумя людьми – Алленом и Дугласом Макгратом. По сути, это пьеса про то, как ставят пьесу, и этим он хорош – камерностью, но вне душного мирка сексуально озабоченных психопатов манхэттенского среднего класса. Естественно, мы его смотрели в том же 1994 году, когда на дворе были те самые 1990-е, про которые теперь нам обожают рассказывать на YouTube люди, которых по возрасту тогда и в кино-то не пускали, разве что на утренник. И история о том, как гангстер угрозами и деньгами навязывает продюсеру свою бездарную подружку, тогда была очень актуальна для Москвы. И твист сюжета – когда «смотрящий» гангстер активно внедряется в процесс постановки и оказывается гораздо более талантливым драматургом. Смешно, но гангстера сыграл Чезз Палминтери, сам по себе отличный писатель, драматург и актёр. И именно его номинировали за «Пули» на «Оскар». Обидно, что картина принесла $7 млн убытка.
Хотя что я про 1990-е ворчу! У нас же вон в 2021 году случилась Оля Бузова во МХАТе…
На «Великой Афродите» (Mighty Aphrodite, 1995) режиссёр опять погружается в мир хаотичной половой жизни хомячков. Но вдруг на пустом месте получает кассу в $26 млн, потратив 15.
«Все говорят, что я люблю тебя» (Everyone Says I Love You, 1996). Большая семья upper-middle класса (c Манхэттена, кто бы мог подумать!) и музыкальные номера, спетые самими актёрами. Видимо, в благодарность за то, что там хотя бы нет поющего психотерапевта и поющего психопата-писателя, критики захвалили картину. Но она собрала только $9,8 млн при затратах в $20 млн. Несмотря даже на то, что в дистрибуцию картину взял ныне известный даже читательницам «Татлера» Харви Вайнштейн.
Последний всплеск манхэттенско-писательско-иудейских страданий случился у Аллена с картиной «Разбирая Гарри» (Deconstructing Harry, 1997), и это очень достойная точка в теме. Фантастический темп, плотность мысли и напряжённость диалогов – вообще всё как надо. Практически каждая реплика достойна написания. Эпштейн, который женился уже на третьем своём психотерапевте. Аллен издевается над фанатичными религиозными новообращёнными (в лице Деми Мур), а «Рауль Валленберг хотел трахнуть всех официанток Европы» (цитата, если что). «Самые лучшие слова в мире – это не „я люблю тебя“, а „у вас доброкачественная опухоль“». Ну и Робин Уильямс, актёр, который потерял на площадке фокус. В смысле – оптический фокус.
Далее пошли картины «Знаменитость», «Сладкий и гадкий», «Мелкие мошенники», «Проклятье нефритового скорпиона» (третий любимый фильм самого Аллена), «Голливудский финал», «Кое-что ещё», «Мелинда и Мелинда» и, наверное, самый кассовый его фильм – «Матч Пойнт». А потом целый пакет ежегодных картин, с которыми уже совсем неинтересно, несмотря на хайп «Ах, это новая картина Вуди Аллена!».
Ну, новая. Спасибо, мы уже видели несколько старых.
Назад в будущее
Перо порхает в воздухе над городом. Нормальный кадр, ничего особенного. Потом оно спускается, спускается. Ну хорошо, с нормальным краном можно снять. Когда оно ложится на плечо прохожего, слетает под колёса автомобиля, ты уже подозреваешь, что существующими инструментами это всё одним кадром невозможно снять. И тут оно падает на кроссовки Форреста Гампа. Одним кадром. И тут ты понимаешь, что тебя надули. Но как?
Не знаю, как у вас, а у меня в любом виде искусства очень важная составляющая даже не то, что именно делает художник, а как он это делает. Когда от непонимания чего-то совершенно нового и, скорее всего, прикладного сносит башню: как? Как Харрисон играет с Ленноном в две гитары абсолютно бесшовный дуэт, который формирует звук The Beatles? Как Малевич умудрился намалевать свой чёрный квадрат, от которого шибает энергией, способной свалить с ног? Как Роберт Плант пропевает миллиардную по счёту Baby-baby-baby, от которой брызжет из глаз солёная вода? Ну и так далее. Если вы ещё не совсем очерствели, как верблюжья пятка, вы вспомните свои приходы на этот счёт. Они у всех разные.
Но в тот венецианский день 1994 года Роберт Земекис, собственно, перевернул представление и моё, и многих сидевших в зале Mostra di Venezia о том, что можно сделать в кино. Ох уж эти фокусники! Да, это было триумфальное пришествие в кино компьютеров фирмы Silicon Graphics, ныне уже покойной. И Роберт Земекис был их самым серьёзным рекламистом. До «Форреста Гампа» я не шибко присматривался к творчеству данного персонажа. Но пришлось пересмотреть своё отношение.
Последним в перечне просмотренного оказался самый первый фильм «Я хочу взять тебя за руку» (I Wanna Hold Your Hand) – как вы понимаете из названия, про The Beatles. А точнее, про американских девочек, которые пытаются попасть на то самое первое шоу Эда Салливана, которое транслировалось из Нью-Йорка в 1964 году на 90 млн зрителей. Блогеры-миллионники, идите и уже убейте себя апстену – по нынешним меркам, с учётом инфляции и вьетнамской войны, это было бы миллиарда три, не меньше. Для 1978 года фильм технически очень хорошо сделан, особенно студия Салливана. Гляньте только, как показан сам концерт: The Beatles есть на мониторах телекамер, которые загораживают лица актёров. Словом, всё сделано с большой любовью и тщательностью. А переживания американских подростков, которые думают, купить им второй экземпляр пластинки Meet The Beatles или нет, – это не наши переживания, совсем. Сытый голодному не товарищ. До сих пор.
В принципе понятно, откуда взялась у Земекиса тема The Beatles. Когда ему родители в возрасте 13 лет купили 8-мм камеру, он начал снимать кукольные фильмы. И у всех у них был один саундтрек – песни Леннона и Маккартни. А ещё родители у него были донельзя простые, что касалось культуры. Он сам говорит, что из всех искусств у них дома был только телевизор. И Бобби, кстати, фанател по телевидению. Он даже не знал, что где-то есть киноотделения в университетах, какие-то киношколы. Об их существовании он тоже случайно узнал по телевизору. А когда загорелся – естественно, вся родня стала ему объяснять, что в семье сварщика из Чикаго не бывает кинорежиссёров, чем окончательно убедили парня в правильности выбора. Как известно, если старшие говорят, что ты не можешь, – ты точно всё сделаешь, чтобы смочь. Поэтому он таки на два года попал в Университет Северного Иллинойса и нанялся подрабатывать на своё любимое телевидение – в отдел монтажа. Потом решил перевестись в школу киноискусств USC в Калифорнию: снял короткометражку «Золотые мгновения» (Golden Slumbers) по песне The Beatles c альбома Abbey Road – и всё равно повис, недобрал баллов. Но парень-то – из простой семьи сварщика. И не стал стесняться звонить и полоскать мозги всякими обещаниями подтянуть знания на курсах.
Выпускники этого заведения есть довольно приличные. Например, Джон Уэйн, композитор Херб Альберт, Джон Карпентер, а из современных – внезапно бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари (Flea). Ну или Дэрил Ханна с Форестом Уитакером.
Понятно, что в конце 1960-х это было гнездо богатеньких хиппи, которым, в отличие от Земекиса, было наплевать на учёбу. Они в основном выпендривались друг перед дружкой: «Ах, Годар! О, новая французская волна!» Думается, преподы там были тоже сноб на снобе. Земекису, выросшему на фильмах Джона Уэйна, Диснея и Клинта Иствуда, было наплевать на «ах, Годара», и, как потомственный пролетарий, он пропускал всё это мимо ушей. Зато нашёл себе приятеля со схожими вкусами – Боба Гейла, с которым потом напишет сценарий «Назад в будущее». Но пока парочка написала два сценария на диплом – «Танк» и «Кровавый бордель» – естественно, не поставленные тогда никем. Прикол в том, что «Бордель», хоррор-комедия, потом всплыл в исполнении режиссёра Гилберта Адлера аж в 1996 году. Ну что, хорошему сценарию радуется глаз продюсера, особенно в линейке «Байки из склепа».
В университете Роберт сделал-таки фильм «Поле чести» (Field of Honour, 1973) – 14 минут, он есть на YouTube, если кому интересно. Контуженый солдат выходит из психушки и не может справиться с опасностями мирной жизни.
Но Земекис с этой 14-минутной чёрной хохмой пошёл в приёмную Стивена Спилберга, и тот, обалдев от напора пролетарского поэта, стал его покровителем. Он спродюсировал и «Я хочу взять тебя за руку», и второй фильм – «Подержанные автомобили» (Used Cars) с Куртом Расселом. Оба провалились в прокате. Но в первом уже была обозначена фишка Земекиса – вставлять исторических персонажей в свою картину, даже если их невозможно вставить по разным причинам. Сценарии для обоих написаны дуэтом Земекис – Гейл. Тогда Спилберг взял их сценарий «1941» и сделал самый свой финансово провальный фильм – с Джоном Белуши и Дэном Эйкройдом.
То есть в какой-то момент Земекис вместе со своим другом приобрёл репутацию хороших ребят с хорошими сценариями, фильмы по которым получаются провальными. И в начале 1980-х из-за этой репутации парочка оказалась буквально без работы. Они сделали ещё два сценария – для Брайана Де Пальмы (Car Pool) и Спилберга (Growing Up), но оба так и не были реализованы. Третий сценарий, который у них был, – про паренька, что случайно попал в прошлое, в 1950-е годы, – отвергли буквально все «мейджоры». Более 40 отказов. По-моему, это рекорд Гиннесса.
Всё это похоже на дурную шутку: безработные режиссёры-сценаристы, никому не нужные, получают работу в фильме, сценарий для которого написала девушка, вообще в жизни написавшая один-единственный сценарий. «Роман с камнем» (Romancing the Stone, 1984) Земекиса пригласил делать Майкл Дуглас. Романтическая приключенческая комедия – не шибко распространённый в Америке жанр. Фильм получился в меру сбалансированный, чтобы не говорить слова «миленький», но он получил фантастическую кассу: при бюджете $10 млн сборы составили $115 млн. Пока фильм снимался, кандидатура Земекиса была утверждена на фильм «Кокон», но, когда продюсеры посмотрели черновой материал «Романа», они его уволили с грядущего «Кокона».
Успех фильма стал счастливым билетом Земекиса в индустрию: Universal таки взяла в работу его сценарий про путешествие в прошлое – «Назад в будущее» (Back to the Future) – и назначила его директором.
Работа началась с лажи. Земекис с самого начала хотел снимать в роли Марти Майкла Дж. Фокса, но тот был занят. Взяли Эрика Штольца (разница в характерах очевидна, если вы помните Штольца). Начали снимать – и Земекис понял, что Штольца он снимать не хочет. И всё-таки дождался Фокса. Пересъёмка сцен обошлась в $4 млн. Потом пришлось очень спешить – вплоть до того, что некоторые спецэффекты вышли сыроватыми.
Но даже с ними бомбануло феерично. Мало того что за $19 млн студия собрала $388,8 млн, так «Назад в будущее» стал образцовым фантастическим фильмом, который любят все от мала до велика. Песенка из фильма – «Сила любви» Хью Льюиса и группы The News – тоже стала глобальным хитом. Не припомню, чтобы Хью Люис сделал за свою карьеру что-то ещё заметное. И все узнали, что есть такой автомобиль – DMC DeLorean с вертикально открывающимися дверями. А вы думаете, откуда название группы Run DMC? Вот такое влияние DeLorean оказал на популярную культуру. А когда вы сегодня смотрите мультсериал «Рик и Морти», надо хотя бы иметь в виду, что это те же самые Марти и Док, только уже на тяжёлых драгзах.
И что особенно удивительно: сиквел «Назад в будущее 2» (1989) опять принёс успех ($332 млн). И «Назад в будущее 3» (1990) добавил ещё $243 млн. Многим критикам третья часть понравилась даже больше первых двух.
То есть Земекис довольно быстро набрал очки в индустрии. Когда сиквелы только были готовы к релизу, он связался с Disney, чтобы снять на тот момент самый дорогой ($70 млн) фильм – «Кто подставил кролика Роджера» (Who Framed Roger Rabbit). Он поставлен по книге писателя Гари К. Вульфа «Кто отцензурировал кролика Роджера». Вульф знаменит тем, что написал целых три книги про кролика Роджера – мультперсонажа, который сталкивается с вполне живыми людьми в некоем городе в некоей эпохе, смахивающей на 1940-е. Это можно было назвать нуаром, если бы не было так смешно. Технические решения, которые предложил Земекис, оказались самыми прорывными на тот момент. И что самое интересное – они очень органично выглядят и сейчас, несмотря на то что многие фильмы со спецэффектами устаревают буквально за два-три года. А рисованная Джессика Рэббит до сих пор задаёт планку в рубриках most sexy, спасибо аниматору Ричарду Уильямсу. Ну и Боб Хоскинс тоже крут.
«Кролик Роджер» также определил степень погружения Земекиса в новейшие технологии – в компьютерную графику, всё более и более убедительную. Так, в следующей картине, чёрной комедии «Смерть ей к лицу» (Death Becomes Her, 1992), компьютеры Silicon Graphics уже достаточно убедительно моделировали человеческую кожу.
А потом опять все ждали комедию, но получили «Форреста Гампа» – фильм-пробежку по новейшей истории США, с юмором и пафосом одновременно. Кстати, родственник, именем которого назван Форрест в картине, – основатель клуба ку-клукс-клана. И там много ещё таких шуточек. Технологически он сделан идеально – все эти смешные сочетания и встречи Форреста Гампа в документальных кадрах с самыми знаменитыми людьми Америки. И в этом тоже заслуга Silicon Graphics. Но, потратив $55 млн, Земекис умудрился собрать $683 млн, что для 1994 года второй показатель (первого достиг «Король Лев»). «Форрест Гамп» собрал шесть «Оскаров», а режиссёр Земекис стал оскароносным режиссёром. И только автору книги «Форрест Гамп», по которой поставили фильм, Уинстону Груму, заплатили всего $350 тыс., не выплатили процентов со сбора и не упомянули в оскаровской речи. А вот Том Хэнкс с тех пор часто снимается у Земекиса.
В 1997-м режиссёр снял картину «Контакт» (Contact) по повести Карла Сагана. Этот проект тянулся аж с 1979 года и лучше бы тогда же и умер. Но Земекис именно в это время уже предался любимому с детства жанру. Он стал исполнительным продюсером сериала «Байки из склепа» (Tales From The Crypt, 1989–1996) и даже снял сам три серии. «Байки» – удивительно цельный продукт, основанный на комиксах 1950-х годов издательства EC.
С 1999 года Земекис стал голосом перехода на цифру всей индустрии: он читал лекции, проводил конференции и т. д. Тех, кто оставался сторонником старого доброго целлулоида (включая Спилберга и Лукаса), он подкалывал: «Это те люди, которые до сих пор думают, что звук винила лучше, чем звучание компакт-диска. Мы можем спорить до посинения, но я не знаю никого, кто всё ещё покупает винил». Опрометчивое заявление, если учесть, что с тех пор винил вырос в продажах настолько, что вот уже три года обходит компакт-диски. Ну так и фильмы без КГ до сих пор снимают…
Картина «Изгой» (Cast Away, 2000) – явный «Робинзон Крузо». В главной роли – Том Хэнкс. Самое интересное в фильме – участие Дмитрия Дюжева, Валентины Ананьевой и Анны Фроловцевой. Тем не менее сборы картины – $429 млн. Это очень неплохо при бюджете $90 млн.
В полную компьютерную силу Земекис развернулся на сказке «Полярный экспресс» (Polar Express, 2004) по детской книге Криса Ван Олсбурга. У него там даже играет компьютерный Том Хэнкс.
То же самое произошло с «Беовульфом» (Beowulf) – фантазией на тему старой английской легенды. Тут Земекис вовсю использует технологию захвата изображения – рисованные фигуры оживляются натуральными людьми. Потратил $150 млн – заработал 194. Это не то, что я бы взялся пересматривать второй раз.
«Рождественская история» (Christmas Carol, 2009) – также полностью компьютерная экранизация, на этот раз, как вы понимаете, Диккенса. Рейтинг расходов/доходов продолжает близиться к равновесию – $200 млн/$325 млн. Моделью-актёром для «захвата изображения» стал Джим Кэрри.
История пилота-алкоголика в исполнении Дензела Вашингтона тронула сердца зрителя – «Экипаж» (Flight, 2012). Или просто зритель устал от «захвата изображения».
И тут Земекис прибегает к довольно старому кинотрюку, снимая следующий фильм – «Прогулка» (The Walk, 2015) – историю канатоходца. Понятно, для чего он в 3D – чтобы люди с боязнью высоты сразу выходили из кинотеатра в ужасе. Судя по финансовым результатам, многие решили даже не рисковать и воздержаться от такого зрелища. Фильм собрал всего $60 млн.
Ещё одна финансовая неудача ждала его в 2016 году с картиной «Союзники» (Allied). Вторая мировая война, Касабланка, Брэд Питт. Но и Брэд Питт не помог.
Обращение к модной теме посттравматического синдрома – «Удивительный мир Марвена» (Welcome to Marwen, 2018) – принесло Земекису уже ощутимую финансовую катастрофу: при бюджете $39 млн он собрал только $13 млн.
«Ведьмы» (The Witches, 2020) по книге Роальда Даля очень родственен «Смерти ей к лицу», он прекрасно сделан технически, и его можно смотреть. Но отчего-то его смотреть не стали – и он собрал только $29 млн.
В 2024 году Земекис собирается нас ошеломить фильмом «Здесь», целиком построенным на технологии real-timedeepfake. Разменяв восьмой десяток, он по-прежнему остаётся преданным фанатом всего новейшего в части технологий, что только можно затащить на экран. В то же время надо помнить, что как продюсер он всё это время достаточно успешно работает и уже выпустил почти 20 картин разного жанра и разного качества.
Так что свой вклад в мировое кино Роберт уже внёс – и он очень уверенный, этот вклад.
На все руки
В фильме «Социальная сеть» есть странный момент: идёт рассказ про то, как умный еврейский мальчик подрезал у дружбанов идейку компьютерной сети, где можно обсуждать тёлочек, что-то там лепил как мог, ни шатко ни валко, а потом мельком показано – пришли какие-то дяди, ввалили бабла, «тут фишка и легла».
Так и с приходом Дэвида Финчера в кино что-то странное. Совершенно случайно его семья (папа – начальник корпункта журнала Life) жила по соседству с Джорджем Лукасом, а в восемь лет ему купили 8-мм камеру. Мальчик работал посудомойкой и поваром, а потом – раз – и без всякого образования, кроме средней школы, он уже работает в продакшене у Джона Корти (видный аниматор, оскароносец), и тут же прямиком к Джорджу Лукасу в компанию продюсером визуальных эффектов на анимированную картину Twice Upon a Time (1983). Потом ассистентом оператора и фотографом «задников» – ОК, пусть будет «фона» – на картинах «Возвращение джедая» и «Индиана Джонс и Храм судьбы».
При этом всё, что он говорит по своё кинообразование, обычно сводится к тому, как он в восемь лет увидел документальное кино о том, как снимали «Бутч Кэссиди и Санденс Кид»: «Я никогда не задумывался над тем, что кино не делается в реальном времени. Я, конечно, понимал, что люди просто играют свои роли, но я даже думать не мог, что кино снимают целых четыре месяца! А между сценами – долгие часы. Реальный цирк оказался за кадром, как и положено, и, похоже, с тех пор я обуян вопросом „Как?“ – это было волшебство. А понимание того, что 24 фотографии, показанные быстро и последовательно, дают движение, определило мою уверенность, что я хочу заниматься этим всю свою жизнь».
Он ушёл от Лукаса, чтобы снять рекламу для Американского онкологического общества – ту самую, где зародыш курит сигарету. Ролик привлёк внимание в Голливуде, и совсем скоро Дэвиду представилась возможность снять документальный фильм про музыканта Рика Спрингфилда (экс-группа Zoot, но кому нужны эти австралийские группы?). Так он начал свою режиссёрскую карьеру. Вместе с тремя режиссёрами, которые так же преимущественно снимали музыкальные видео, и с двумя продюсерами он основал компанию Propaganda Films. Компания сделала упор на съёмку рекламы и музыкальных видео. Из их достижений – наняли Дэвида Линча снять фильм «Дикие сердцем» (Wild at Heart), а также выступили продюсерами сериала «Твин Пикс» всё того же Линча. Сразу скажу, что всё это закончилось довольно печально, – романтики-киноделы вошли в противоречие с реалиями рынка и корпоративной культуры. Особенно не стоило связываться с PolyGram, который сплавил их весьма противоречивой компании алкогольных продуктов Seagram.
А пока Финчер нехотя снимает рекламу всякой кока-колы, джинсов и кроссовок и откровенно ненавидит всё это, оттягиваясь только на музыкальных видео, которых снял за свою карьеру аж 53 штуки – от Мадонны и Майкла Джексона до Джорджа Майкла и Билли Айдола.
Но зато именно на них он отточил перо и называет этот жанр «своими университетами»: «Там я научился работать в строгих сроках и на малых бюджетах». Вот Janie's Got A Gun группы Aerosmith видели? Это тоже он. В те же годы он выработал для себя один из основных принципов режиссёрского труда: «Бери на себя всю ответственность, потому что в любом случае ты будешь виноват во всём».
Это ему пригодится на первой же большой голливудской картине.
«Чужой 3» (Alien 3), третье продолжение легендарного фильма Ридли Скотта, с самого начала был проблемным проектом. Дэвид Финчер пришёл на место уволенного австралийского режиссёра Винсента Уорда. К этому моменту Уорд был автором – участником каннского конкурса и обладателем около 30 разных кинопремий. В 1990 году Уорд написал сюжет для «Чужого 3», будущего продолжения фильма «Чужие»; он был четвёртым из десяти различных сценаристов, работавших над проектом «Чужой 3». Первым был Уильям Гибсон – если вы понимаете, о чём я.
Большая часть сюжета и несколько персонажей из сценария Уорда были позже объединены с тюремной обстановкой из предложенного Дэвидом Туи сценария и легли в основу фильма «Чужой 3». Однако сердцевина его истории, известная как версия «монахи в космосе», не попала в окончательный вариант фильма, что было признано лондонской газетой The Times Online, которая в 2008 году поставила его на первое место в своём списке «величайших научно-фантастических фильмов, которые никогда не были сняты».
Вот на место такого режиссёра и сценариста студия взяла Финчера, у которого за спиной был один документально-музыкальный фильм. При этом Финчеру сценарий не нравился, но он был рад предоставленной возможности и сделал всё, что в его силах. Когда фильм вышел, он встретил волну критики, в том числе и от автора предыдущей серии Джеймса Кэмерона – он назвал его пощёчиной себе и фанатам его картины. Среди фанатов темы также царило разочарование. Это странно, потому что мне, например, третья лента гораздо больше нравится, чем раздутое повествование Кэмерона. Но это ничего не значит – мне и «Ковенант» нравится.
Финчер дистанцировался от результата максимально. На каждом углу рассказывал, как он ненавидит этот фильм и как этот фильм ненавидит его, и во всём винил продюсеров, которые не доверили ему решать ничего. Ну а как ты хотел, деточка, это так и называется – «студийная система», и вообще Голливуд – это поле продюсеров, а вовсе не режиссёров.
Из своего первого большого проекта Финчер вышел с устоявшимся убеждением: брать с собой только тех, с кем уже работал и кто входит в его ближний творческий круг. То, чего ему не дали сделать на «Чужом 3».
Расстроившись от всего этого, Финчер решил опять податься в музыкальное видео. И снял тот самый клип с гигантскими девушками для Rolling Stones (Love is Strong) 1994-го. Клип получил Grammy. А потом раздумал уходить в видеомонастырь – тут ему как раз подсунули оригинальный сценарий Эндрю Кевина Уокера «Семь». Чтобы было понятно: Уокер как бы не сценарист, его основная работа – переписывать чужие сценарии, это так и называется – script doctor. Кроме «Семи», он ещё написал чудовищный «8 мм» и «Сонную лощину». В первом случае он сам попал под нож – студия сказала, что его сценарий слишком мрачный для целевой аудитории, и отдала его резать и переписывать. Но тут появился Финчер с Морганом Фриманом, и они отстояли первоначальный вариант.
Когда Se7en вышел в 1995 году, стало ясно, как быстро Финчер умеет учиться. Снятая в полутьме картина достаточно сильно напугала зрителя и стала образцом для подражания профессионалов. Титры, написанные от руки, оказались вообще революционными. Действительно, Финчер с тех пор очень творчески подходит к титрам и вообще к вступительным кадрам. А за кадром звучит ремикс Nine Inch Nails – Closer. С Трентом Резнором с тех пор Финчер сделал много чего интересного.
По кассовым сборам фильм стал седьмым самым успешным фильмом 1995 года. Он был номинирован на «Оскар» за лучший монтаж. На MTV Movie Awards он получил награду как лучший фильм, а Брэд Питт отхватил награду как «самый желанный мужчина». Примечательно, что именно музыкальные круги оценили качество и внутреннюю музыкальность-ритмичность картины. «Самая тёмная и безжалостная картина голливудского мейнстрима» – как сказал про неё один лауреат Пулитцера.
После «Семи» Финчер снял видео для группы сына Боба Дилана Джейкоба – The Wallflowers (6th Avenue Heartache).
Третий фильм режиссера, «Игра» (The Game) 1997-го, получился не настолько успешным в прокате. Это история инвестиционного банкира, которому родственник сделал странный подарок – вписал его в «игру», что могла свести банкира с ума. Главного героя играет Майкл Дуглас. Но даже Дуглас не может придать осмысленности этому занудному кинофильму.
«Бойцовский клуб» (Fight Club) 1999 года Финчер согласился снимать в 1997-м. Через год, как вышла книга Чака Паланика под тем же названием. Паланик – видный писатель, он сочинил аж девятнадцать повестей, два комикса и две книжки-раскраски для взрослых.
В случае с «Бойцовским клубом» Паланик попал в нервные точки офисного планктона, который, выпив пива и сдернув дорожку, мнит себя тайными бунтарями и бойцами. На самом деле и Финчер вышел на многие темы целого поколения, за что его экранизация и считается культовой. Заодно и примитивные, псевдофилософские фразочки типа «Главное правило бойцовского клуба – не говорить, что он существует» или прочие банальности типа «Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами». На самом деле к этому моменту гораздо более глубокой фразе «Главная хитрость дьявола в том, что он убедил всех, что он не существует» из «Обыкновенных подозреваемых» было уже четыре года, но кто ж помнит? Это хорошо заходит поколению, которое массово считает, что у Достоевского «слишком много букаф».
Здесь Питт в одной из лучших своих ролей, а сам фильм – наиболее влиятельный из фильмографии режиссёра. Несмотря на культовый статус, коммерческие результаты картины не то чтобы очень – потрачено 63 млн и заработано 101,2 млн. Сейчас теоретики кино раскапывают до сих пор культурные слои, которые щедрым мазком нанесены режиссёром, – например, «гомоэротизм в образе Тайлера Дёрдена как манифест подавленных желаний нарратора».
Следующим проектом Финчера мог бы стать «Человек-паук», но он принёс студии своё видение картины и был моментально отправлен на выход. Вместо него фильм снял Сэм Рэйми, автор «Зловещих мертвецов» (Evil Dead) 1981 года.
Невыносимо занудный фильм «Комната страха» (Panic Room) вышел в 2002-м. В главной роли – пустоглазая актриса Джоди Фостер. Сюжет становится более-менее динамичным минут за пять до финала. И жаль прекрасного Фореста Уитакера, которому приходится что-то тут изображать. Короче, никого Финчер напугать особо этой картиной не смог.