Детство на краю света. В. П. Астафьев и Игарка
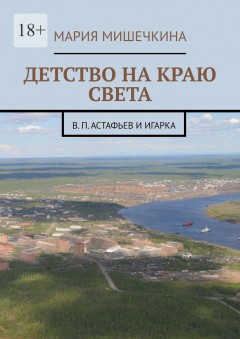
© Мария Мишечкина, 2025
ISBN 978-5-4496-2695-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
«Меня часто спрашивают, как я стал писателем, что повлияло на такой поворот моей судьбы? Я думаю, что здесь три причины. Одна из них – Господь Бог сподобил меня родиться писателем. Вторая – это жизнь, эти драматические события в детстве. Ну, а третья – красота наших мест, которую губят, губят, да погубить никак не могут… Ну, а главное, конечно, драматизм событий, какой-то тяжкий отрезок времени, выпавший на моё детство»
В. П. Астафьев. (Из интервью Н. М. Кавина с В. П. Астафьевым, 1995 г.)
В Игарской библиотеке. 1999 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мое знакомство с творчеством Астафьева началось задолго до личных встреч с писателем. И это неудивительно. В программе изучения отечественной литературы факультета журналистики Ленинградского государственного университета были немногие произведения В. П. Астафьева: «Стародуб», «Перевал», «Кража», «Звездопад». Упор делали на «Последний поклон». И, кстати, именно эта повесть дала повод для того, чтобы писателя стали причислять к представителям деревенской прозы.
В 1979 году сразу после завершения учебы в университете мы с мужем уехали по распределению в Красноярский край в город Игарку. Постепенно шаг за шагом началось знакомство не только с заполярным городом, но и необычайно насыщенной историей, судьбами людей, среди которых немало было личностей поистине талантливых.
Работая журналистом на местной телестудии в 80-е годы, а после её закрытия – в городской радиоредакции, я стала узнавать ближе Виктора Петровича. Сначала это были общие встречи. Проходили они, как правило, в годы юбилеев города, которые всегда совпадали с личными. Город был построен в 1929 году, а Виктор Петрович родился на 5 лет раньше. Вот эта разница в 5 лет всегда предопределяла особое праздничное настроение и родственное отношение к любимому городу, куда он всегда приезжал в год юбилеев в последние 20 лет своей жизни.
С 1992 года я работала в Игарском краеведческом комплексе «Музей вечной мерзлоты», встречи с Астафьевым стали частью не только моей деятельности, но и жизни. Нужно было собрать музейную коллекцию, связанную с пребыванием Виктора Астафьева в заполярной Игарке и с тем, как это отразилось на его творчестве. Оформить экспозицию, оказалось, не так-то просто. За писателем «деревенского» направления скрывался настолько сложный мыслитель-гуманист, что ограничиваться просто встречами и перепиской было невозможно. Постижение астафьевского слова, прозы было при этом крайне необходимо. Без этого не понять тёплого, отеческого отношения писателя к умирающему городу, в котором его не баловали теплом человеческого внимания. Одна из глав «Неизвестное об известной повести» посвящена «Краже» – именно это произведение всегда было для меня самым важным в понимании восприятия беспризорного Астафьева детства в северном городе.
Игарский период в жизни писателя очень значим. Осмысление этого пришло со временем. Очень знаковой я считаю фразу Виктора Петровича в интервью журналистке Т. Ф. Голдиной «Жить достойно» (газета «Коммунист Заполярья», 1989 г., №90). Он искренне отвечает на её вопрос о том, какое впечатление производит на него Игарка спустя последние 10 лет: «Вы знаете, это всё-таки город детства. Это как в семье русской. Ведь там, чем беднее, обиженнее дитя, тем оно милее материнскому сердцу, да наверное, отцовскому тоже. Игарка состарившаяся, она вызывает во мне чувство внутреннего страдания, горя какого-то, а в целом вызывает чувство умиления, хотя многое здесь изменилось». Виктор Петрович любил своё детство, родных да и город, одновременно гремевший как форпост социализма на Крайнем Севере и приют для многих ссыльных, а в конце ХХ века брошенный на произвол судьбы вместе со всеми оставшимися там людьми. Мы были свидетелями того, как бился наш Астафьев за чистоту Енисея, сохранение морского порта в Игарке и организацию переселения игарчан на материк. При встрече с президентом России Б. Н. Ельциным первое, о чём просил писатель – это выделение средств на переселение игарских пенсионеров на «материк».
Если бы не контакты с писателем, вряд ли я прочувствовала не только личные переживания за родной, ставший обездоленным город, но и его исполински щедрую душу, беспокойное сердце, которого хватало на всех. Виктор Петрович пережил так много, что трудно себе представить, ему выпали самые тяжкие испытания, какие сложно даже вообразить: в детском возрасте – смерть мамы, близких людей, скитания, голод, предательство, потом – тяготы войны, ранения, но даже после неё – смерть двух дочерей, бесконечная борьба за свободу творчества, за возможность говорить правду, помогать людям жить в достойных условиях, сохранять чистоту природы, человеческих отношений, родного языка. И все разговоры о том, что это был представитель «деревенской прозы» с «активной гражданской позицией», казались мне всегда каким-то неуместным упрощением. Это был великий Писатель, великий Солдат, великий Гуманист, у которого хватало смелости стоять до конца в любой битве, при любых лишениях, не угодничать, не пресмыкаться перед властями, говорить правду. И главное – любить свой народ, не осуждать, не обсуждать, а просто любить. То, как выражал Виктор Петрович свои сокровенные мысли на бумаге, не поддаётся никакой логике и изучению, этому нельзя научиться. Его повествования всегда понятны, словно кто-то близкий пересказывает тебе свои истории, а слова просто завораживают красотой и самобытностью, идущей от какого-то невероятно мудрого и неведомого нам источника. Ему дан был талант природой, высшими силами; всё, с чем писатель столкнулся в жизни, он видел и оценивал не просто как рядовой житель планеты, а человек, которому суждено стать прорицателем, пророком.
У каждого из нас свое постижение Астафьева. В музее мы, конечно, не ограничивались просто чтением его книг. Изучение архивов, переписка с очевидцами, встречи с ними были составной частью моей деятельности, хотя директору музея, в принципе, заниматься этим необязательно. Но я привыкла брать самое сложное в работе на себя, эту тему я делила только с главным хранителем В. А. Сергеевой (Кохан), которая проделала огромный труд по формированию музейной коллекции. В проектной и просветительской деятельности мне тоже довелось обращаться к Астафьеву. В 2004 году музей реализовал проект «Войди в мир с добром» совместно с общеобразовательной школой №1, в его рамках в Игарке было создано мозаичное панно на доме №10 второго микрорайона художником Е. П. Каунченко. В 2009 году другой проект «Васюткина тропа», финансируемый, как и предыдущий, на средства краевой программы «Социальное партнерство во имя развития», принёс всем участникам (а это были кроме игарских, еще и норильские, туруханские, подтёсовские школьники) огромную радость от встречи с Васюткой в лесотундре, от возможности оценить собственные творческие и даже физические силы. О многом другом говорить можно долго – литературных конкурсах, создании рукописных журналов в школах, просто беседах и уроках краеведения. Каждая такая встреча всегда проходила на подъёме.
Изданная по итогам проекта книга «К Астафьеву Васюткиной тропой» содержала часть моих исследований. В ней опубликованы тексты найденных архивных документов, полученных писем. Со временем были обнаружены новые материалы, факты. Это касается прежде всего здания детдома и личности Соколова Василия Ивановича, проявившего отеческую заботу к полуголодному и потерявшему интерес к жизни воспитаннику Виктору Астафьеву. Для любителей астафьевского слова, исследователей его творчества, я думаю, важны любые детали. Мне не давали покоя непонятные обстоятельства, противоречия, а иногда и некая несправедливость по отношению к репрессированному человеку, его месту в жизни других людей. Я очень благодарна всем, кто помог найти новые сведения в архивах – журналисту, краеведу г. Балаково Саратовской области Ю. Ю. Каргину, руководителю архива города Игарки С. Ф. Титовой, игарскому педагогу Е. В. Гаджиевой, журналисту В. Г. Григорьеву, руководителю Красноярского общества «Мемориал» А. А. Бабию, сотруднику Красноярской научной библиотеки Г. А. Лаптевой. Благодарю И. Табакаева за фотографию, используемую на обложке. Спасибо всем, кто написал воспоминания о встречах с писателем в Игарке, они размещены в главе «Мы помним». Завершает книгу статья в память о супруге Астафьева – М. С. Корякиной, ставшей его духовной опорой.
ОТКУДА ПОШЁЛ «СТЕРЖНЕВОЙ КОРЕНЬ»
У Виктора Петровича есть автобиографический очерк, который называется «Стержневой корень». Он публикуется нечасто, как правило, вместо предисловия или послесловия к какой-нибудь книге. Для меня это важное признание, которое многое открывает для понимания тех трудностей, которые довелось пережить в заполярной Игарке. Стержневым обычно называют корень, который является продолжением в земле стебля, он идет при развитии только в глубину, закрепляет и удерживает растение в земле. Кто и как помог прорастить этот главный корень в Викторе?
В Игарку!
О том, как попала сюда семья Астафьевых, написано много. Я буду обращаться к фактам, документам, и, конечно, рассказам самого Виктора Петровича. «Автобиография» его, кстати, появилась в 2004 г. в журнале «Урал». В произведениях это тоже нашло отражение, но с определенной долей вымысла. Семья Астафьевых прибыла в гремевший по всему миру новый морской порт в Игарке в «принудительно-добровольном» порядке. Одну часть семьи сослали вместе с детьми насильно как раскулаченных, но под благими предлогами «государственного промышленного освоения Севера», другая часть отправилась туда по собственной воле, «на дикие заработки».
Известно, что в 1931 году Виктор остался без матери. Лидия Ильинична Потылицына, вышедшая замуж за Петра Павловича Астафьева, утонула в Енисее. Мальчишке было всего 7 лет. Отец, уроженец и житель села Овсянка, работал в личном хозяйстве, был арестован 8 июля 1931 г. как враг народа, сын зажиточного мельника. Ему были предъявлены обвинения по статьям 58—10, 58—11 УК РСФСР, 1 апреля 1932 г. был осужден на 5 лет ИТЛ, отбывал срок на Беломоро-Балтийском канале.
Волна раскулачивания коснулась всей семьи Астафьевых. Дед Павел Яковлевич был арестован в то же время, что и его сын Петр. Обвинения предъявлены по тем же статьям, и приговор вынесен в апреле 1932 года. Но участь ему выпала другая в отбывании наказания. Семью Астафьевых лишили крова, выгнали из дома, отправили на пересыльный пункт. Под опалу попал даже прадед Виктора – Яков Максимович Астафьев (чаще его звали в селе Овсянка Мазовым), обосновавший ту самую мельницу, которая власть привела в состояние гнева. Ему было в то время более ста лет. Жена деда – Мария Егоровна (в девичестве Осипова) – родилась, как пишет Виктор Петрович в своей «Автобиографии», «на волшебно-красивой реке Сисим, в одноименном селе, ныне не существующем – затоплено». Маленький внук называл её любовно – «бабушка из Сисима». Так написал и на её могильной плите. Он вспоминает также в «Автобиографии»: «Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых». Все тяготы, действительно, выпали именно на долю Марии Егоровны. Она воспитывала в то время своего младенца Николая, который только народился, а также всех деток Павла Яковлевича от прежних браков. Сколько было ребятишек – сейчас сложно сказать. Виктор Петрович пишет в «Автобиографии»: «Бабушка из Сисима со всей оравой попала на пересылку в Николаевку. Там, неподалеку от кладбища, на пустыре был огорожен колючей проволокой загон, в котором томились тысячи семей спецпереселенцев. В загоне не было никаких построек, даже нужников не было. Люди растоптали, размесили загон, скоро тут началась дизентерия, подкрадывались и другие страшные болезни, которые преследовали и преследуют скученных, обездоленных людей». В фильме С. Мирошниченко «А прошлое кажется сном» (1988 г.) писатель говорит о той же мазовской ораве ребятишек немного конкретнее: «Когда мужиков законопатили в тюрьму, их семьи отправили в Игарку. Очень нужны были рабочие руки, поэтому повезли туда – женщин и детей. Кого же ещё отправлять, если мужиков посадили? И она, бабушка из Сисима, с 7-ю детьми ехала в Игарку. Один был свой, остальные шестеро – чужие. Не было тогда в традициях бросать детей, отказываться». В их числе не было Виктора, он оставался в семье Потылицыных в Овсянке, где вскоре появился раньше срока освободившийся отец. Он женился, а в 1935 г. поехал на заработки в Игарку.
Бабушка из Сисима в ссылке взвалила на себя все хлопоты по содержанию семьи, дед постоянно где-то куролесил, чаще рыбачил. Приходилось Марии Егоровне наниматься в семьи домохозяйкой, чтобы свести концы с концами. Выручал Иван Астафьев, сын Павла Яковлевича, который, как только исполнилось 14 лет, пошёл работать, выучился на рубщика на лесопильно-перевалочном комбинате и стал помогать семье.