Из кладовой памяти…
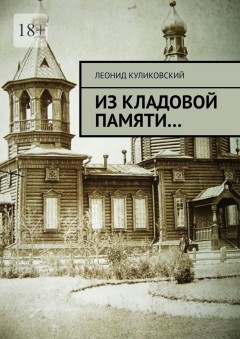
© Леонид Куликовский, 2025
ISBN 978-5-0067-8884-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Леонид Куликовский
Леонид Феликсович Куликовский родился 14 января 1956 года на прииске Крутой, в двенадцати километрах от Магдагачи. Вскоре прииск был закрыт, и жители его переехали в посёлок. Детство провёл среди лесов, рек и озёр, какие в обилие были на Крутом. Читай книгу «Мозаика детства».
В 1963 году пошёл в первый класс школы №156, старое здание школы, несохранившееся (рассказы «В первый класс», «На квартире коммунальной», «Контуры прошлого»)
В 1971 году после восьмого класса перешёл в среднюю школу №155 и закончил успешно в 1973 году (рассказ «Другая школа», «Уходящий в будущее»). В этом же году поступил в высшее учебное заведение, политехнический институт в городе Томске (повесть «А ты помнишь?..», очерк «ДОМОЙ! Магдагачи»).
В 1978 году служба в рядах Советской армии, в городе Новосибирске. После демобилизации вернулся домой, в Магдагачи. Работал один год помощником машиниста на железной дороге при магдагачинском локомотивном депо (рассказ «Перипетии жизни»).
По окончанию института служба офицером в Вооружённых Силах Советской армии (Белорусия) рассказ «На руинах отшумевшей жизни». После увольнения в запас, переехал жить в Украину, город Кировоград (Елисаветград).
Работал инженером-конструктором, предпринимателем, заместителем генерального директора товарно-сырьевой биржи, менеджером по продажам в сельском хозяйстве, после выхода на пенсию подрабатывал таксистом, работал пожарником во время учёбы в институте.
Имеет троих детей: дочь, сын, дочь.
Начал писать в 62 года.
Первая книга «Мозаика детства» написана в 2021 году.
Вторая «Контуры памяти», в 2022 году.
Третья «Центры притяжения» – в 2025 году.
Начал писать четвёртую книгу «Чувство сопричастности».
Лауреат конкурса «Лебедь Белая 2024». Первое место в разделе эссеистика. Международная гильдия писателей.
____________________
ПОСВЯЩЕНИЕ
КНИГА «ИЗ КЛАДОВОЙ ПАМЯТИ…» ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ МОИМ ЗЕМЛЯКАМ, ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА, ОДНОКЛАССНИКАМ И МИЛЫМ СОСЕДЯМ, ПАМЯТЬ О КОТОРЫХ ХРАНИЛ, ХРАНЮ И БУДУ ХРАНИТЬ…
____________________
ЭПИГРАФЫ
«Я не могу не откликнуться на зов прошлого, того прошлого, чья связь с нами становится все тесней по мере того, как оно все более от нас отдаляется…».
Из письма Тютчева Фёдора Ивановича Блудовой А. Д.
«Да, столько впереди интересного, важного, что хотелось бы рассказать, а не могу оторваться от детства, яркого, нежного, поэтического, любовного, таинственного детства. Да, удивительное было время»
Толстой Лев Николаевич Воспоминания гл. 8.
«Я теперь занят эпизодом в мою книгу: я пишу сказку, которую в детстве я знал наизусть и рассказывал на потеху всем, со всеми прибаутками сказочницы Пелагеи. Разумеется, я совершенно забыл о ней; но теперь, роясь в кладовой детских воспоминаний, я нашел во множестве разного хлама кучу обломков этой сказки…»
Аксаков Сергей Тимофеевич сыну Ивану Сергеевичу
________________
СЛОВО О КНИГЕ
* * *
В ваших руках книга «Из кладовой памяти», написанная Леонидом Куликовским, магдагачинцем, земляком. Книга солидная, с иллюстрациями, подобранными точно по характеру и настроению повествования; встроенными строками из стихотворений, сопровождающих поэтические описания природы. Чтение, начавшееся с короткого стихотворения в прозе «Мы здесь и там каждым атомом», прерывать не хочется, оно захватывает, увлекает в мир детства, природы, красоты, доброты… Всё было так, со звуками, красками, картинками.
В его рассказах много света, сердечности, душевности. Автор говорит о себе, о своих чувствах, о своей семье, о жизненных ценностях, о радостях и горестях, о теплоте родного дома. Сколько же тепла и любви в этих рассказах! Живой, лёгкий, образный и красивый русский язык, искренность; всё это погружает в мир радости от общения с героями рассказов. Повествование в рассказах и очерках пронизано чувством настоящим, не надуманным. Живут герои рассказов в том же посёлке, что и семьи читателей, ходят по тем же улицам, заходят в магазины, в клуб железнодорожников, на каток, в парк, идут на железнодорожную станцию, слышат перестук вагонных колёс, дышат ароматом тайги и нагретых шпал.
Магдагачинцы смогут прочитать о себе, потому что для автора и его читателей неизменными остаются главные ценности: дом, семья, родная земля, сопки приамурья, тайга. Леонид не просто рассказывает, он постоянно анализирует, размышляет. Делает это автор ненавязчиво, не заставляет следовать его мыслям, но призывает задумываться над многими сторонами жизни. В его размышлениях я нахожу много полезного для себя, для своих детей. Наши потомки смогут прочитать о нас с вами, какими мы были.
Вспоминается мне: несколько лет назад в одной социальной сети, где начали появляться рассказы Леонида, я увидела небольшую статью о наших магдагачинских лесных и луговых цветах. Поразило всё: красота слова, точность в описании и, самое главное, особое любовное отношение к тому, о чём написано. Это был рассказ Леонида. С тех пор старалась каждый день открывать интернет, чтобы найти написанное этим человеком. Постепенно мы начали переписываться, общаться. Оказалось, что Леонид родился в Магдагачи, учился, жил, работал в депо. Сейчас он живёт на другом конце планеты. Но! Он сумел сохранить трепетно-трогательное отношение к родине, к землякам. О чём пишет? О себе, своей семье, о Магдагачи, о русских писателях, о вере, о ценностях жизни. В первой книге, посвящённой детству, меня удивило слово Мама. Всегда с большой буквы! И не нужно лишних слов, всё понятно о нём (авторе), о семье, об отношениях в семье. Пожалуй, только ему я могу рассказать о детстве, о далёком счастливом времени, потому что мы с ним земляки: мы дышали одним неповторимым таёжным воздухом, ходили по одним дорожкам, впитывали один «воздух родины особенный». Д. С. Лихачёв сказал, что «человек крепче хранит память благодарную, чем память злую». Леонид своим талантом эту память облагораживает.
«Центр притяжения», так называется один из рассказов Леонида Куликовского, вошедших в сборник «Из кладовой памяти». И в самом деле, центром притяжения для автора стали события, которые связаны с небольшим рабочим посёлком в Амурской области. Центр притяжения – посёлок Магдагачи!.. Этот сборник полностью посвящён посёлку, каким он помнит, каким вошёл в него с малых лет и какой навечно закрепился в памяти своим домом, улицами, клубами, друзьями, соседями, в которых мы узнаём себя. Мир детства, завораживающей природы, радостной красоты, доброты захватывает, увлекает.
Дорогие мои земляки, у ваших детей и внуков есть своя книга. Она о людях, проживших на нашей земле светлую и добрую жизнь, наполненную любовью. Вы узнаете в героях книги себя, своих родных и близких, потому что написано так, будто и о нас, и о них, и о главном в жизни.
Автор книги учился в школе №156 – рассказ «В первый класс»; школе также посвящён очерк «Контуры прошлого»; после восьмого класса перешёл в школу №155 – «Другая школа»; жил в посёлке – рассказы «В клубах», «Каток», «Весна в посёлке», «На рыбалку»; работал в депо – «Перепитии жизни» и другие рассказы…
Леонид – писатель вдумчивый, искренний, очарованный родными просторами. Благодаря ему, читатель получает увлекательное путешествие в мир, отделённый от сегодняшнего дня временем, а также материал для размышлений и своих воспоминаний.
Я с удовольствием думаю о той радости, которую принесёт книга Леонида Куликовского всем, кто любит родную приамурскую землю, кто любит знакомиться с людьми нашего прошлого и настоящего.
Наталья Конаш (Шуточкина)
* * *
В чём притягательность творчества писателя Леонида Куликовского?
Для себя я вывел это определение: все органы чувств без остатка задействованы, когда погружаешься в прочтение. Это ли не показатель мастерства! Ненавязчивая детализация, помноженная на поразительную память, изложенная в контексте детского мироощущения и восприятия, заставляет читателя с головой погружаться в авторскую развёрстку повествования.
Книга эта подобна «кладовой памяти», её мозаичной картине… Вглядишься во фрагменты и уже полно видишь игру в зоску со свинцовой пришлепкой, переводишь взгляд, и ты в другой картинке, где состязание в чику или пристенок, в итоге игры – медный, гнутый пятачок «Контуры прошлого»; далее – начищенные до блеска школьные с крючками под шнурки ботинки, отутюженный без складок алый пионерский галстук «Первое Мая!». При следующем чтении попадаешь под улыбающийся месяц, галантно подставивший свой изящный рожок нежной тучке, чтоб закружить с ней звездный «Майский вальс»; а колоритная учительница по физике – завуч, способная собою изображать молекулу, а ученика атомом, чтобы ему лучше доходила механика мельчайших частиц «В первый класс»; или соседка по коммуналке, пусть злюка и пьющая, но живая и мастерски изображённая «На коммунальной квартире». Шедевр!.. И невозможно умолчать о мальчишечьем кодексе чести «Дождь. Чтение»; костёр у речки, эти потрескивающие и источающие непередаваемый аромат шматочков сала «На рыбалку» – читаешь, видишь явь и сглатываешь желание самому отведать!..
К одному из рассказов я писал, здесь повторю: «Спокойно, без эмоциональных рывков выстраивает Леонид своё повествование. Получаешь наслаждение от прочтения. Великолепный слог, живописные картины природы, писатель мастерски одушевляет природу, наделяя её способностью к сопереживанию. И всё это подаётся с большой любовью! Да, и опосредованные размышления о нашем яростном жестоком мире лишены авторского морализаторства и гневливости. И это подкупает».
Писательское кредо Куликовского сродни высказыванию К. С. Станиславского: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Любовь к перевоплощению, когда у читателя возникает эффект своего присутствия в среде, создаваемых им, автором, литературных персонажей и помноженного на любовь к ним, героям, – это ли не высший писательский пилотаж?!..
Леониду подвластны все жанры. И это здорово! В любом его произведении – малом ли, масштабном, вдумчивый читатель до корней волос ощущает себя соучастником действа, сотворенного писателем Куликовским!
Василий Шарапов
____________________
МЫ ЗДЕСЬ И ТАМ КАЖДЫМ АТОМОМ…
Что нам видеть, пловцам, с того берега? Шаткий очерк родного холма!
Взятый скарб разбирать или бережно, Повторять, что скопила молва!
Мы ли там? иль не мы? каждым атомом Мы – иные, в теченье река!
Губы юноши вечером матовым, Не воскреснут в устах старика! [1]
Бывало такое?
Вы стояли возле своего Дома в детстве?
Наблюдали, слушали звуки его?..
Они неприхотливые, незамысловатые, самые что ни есть простые, бытовые.
Где стояли? а всё равно где, там и хорошо будет.
Главное, чтобы было всё слышно и почти всё видно, почти… Если не видно, то всё фильмом перед глазами, заучено наизусть…
Не стояли, не слушали?..
Ну, так постойте, послушайте, сбегайте в воспоминание. Оно Ваше такое, какое есть, не отнять, не изменить, не переписать.
Вслушайтесь в пробежавшее, неповторимое в сути своей, там много всего, что захотелось бы вновь ощутить, потрогать, посмотреть и услышать…
В возрасте детском такого не понять, не прочувствовать, а в зрелости, вы такие, что были тогда, и другие, вы взрослые, детством воспитанные, пропахнувшие им, просто жизнью пронизаны…
Вы временем обвешены, знанием обременены и воспоминаниями загружены…
Вы видите?! Вы слышите?! Вы чувствуете?!
Улица, далью лет скрытая, детством и юностью овеянная, ребячьими криками заполненная…
Затерялась в памяти своими домами и заборами, зимами и морозами, друзьями и соседями, вечерами и лунами, да лаем собак…
Чередою образов встающих в сознании, проявляясь ясными, живыми картинками, нанизанными на бусах времени…
Зима…
Снег небольшой, идёт медленно, большими хлопьями, укладывается на всё, что под небом, теряется привычность взгляда, обновляется.
Смотрю на Дом, мой Дом.
Сруб деревянный, наличники голубые, завалинка охватывает по низу, для тепла.
Поленница дров вдоль забора, на улице, ведь никто не возьмёт, посовестится.
Стоит в огороде стог, весь в снегу, а вокруг всё утоптано конём и видны собачьи следы, порезвились, однако, день-деньской стоял лай. Облаивал коня до надоедливости, до хрипоты своей. Знать любит его!
Стайка старенькая к земле присевшая, вся скромная, застенчивая, а в ней…
Пофыркивание коня, да глухое мычанье из нутра рождает корова, слышные её тяжёлые вздохи, зовёт хозяйку, доиться пора, молока прибыло…
Явственно представляется медленное пережёвывание сена.
Кто-то подошёл к колодцу, лязгает цепочка, ведро полетело вниз, послышался удар видимо о лёд, что урожайно нарос по стенкам колодца, затем цепь натянулась и, чуть поскрипывая, давно смазанным воротком «скрип-скрип…» ведро потянулось, задевая наросший лёд, чиркая, коловоротом наверх.
Потом всплеск, и полные вёдра чистой, прозрачной воды повисли в чьих-то руках.
Рядом повизгивая, крутится чёрная с прогалинами собачонка, вся радостная, что увидела своего, для неё родного, и всячески оказывает посильную собачью преданность.
При этом внимательно заглядывает в глаза и виляет хвостом так, что за ним и сам зад собачий ходуном ходит, то кто-то из родных вышел к колодцу за водой.
Следом раздаётся стук топора, рубят толстые поленья для растопки печи и вот уже совсем скоро маленькой тоненькой струйкой потянулся дымок из трубы, пахнуло смолой листвянки, пошла тяга…
Вскоре дым пошёл споро, клубно, и взвился вверх.
Хорошо видно его на фоне зимнего неба, морозно кругом…
При морозе дым свечой вьётся в небо и там пеленой рассыпается и неторопливо исчезает в поднебесье.
Ещё не темно, но серость вечера всё-таки медленно и уверенно наползает на день, он пятится, сопротивляясь, отползает куда-то и прячется до завтра.
Какой-то миг и темень уже охватила округу.
Там и здесь в домах зажигается свет.
Светящих окошек становится всё больше, там жизнь своя течёт, бежит по руслу проторённых дорожек, крутится, вертится…
Упали по снегу жёлтые пятна света от окон, временами перечеркиваясь хождением жильцов в избе.
И лай собак, куда без него…
А на небе вдруг начинают проступать светящиеся точки, из каких-то грандиозных глубин они врываются своим неземным светом к нам на маленькую планету, к нам домой, на нашу зимнюю улицу.
Улица наша тоже освещена этим неземным светом, а значит и очевидец этого…
Подобно поплавкам светящимся они выпрыгивают из бездн бесконечности, загадочные и непознанные в своей далёкости.
Через мгновение или несколько минут, что за диво! выхватывается на небе уже целый сонм звёзд.
Сколько их?.. Миллионы, миллиарды?.. Сколько?..
Через всё небо разметался хвост космического чудища, что пролетел над галактиками и оставил свой шлейф млечного пути.
А точек всё больше и больше, не сосчитать…
Уж! какой раз пробуется, напрасно всё, счёт сбивается, и сокрушаешься поэтому, почему не получилось?..
Заворожён, очарован великолепием и глубиной непостижимого, убегающего в беспредельность сущего, не высказать!..
Поразительно, но звук возвращает разгулявшееся воображение назад, на улицу…
Где-то недалеко под самым этим небом слышится скрип снега, да, да хруст морозного снега.
Спешит путник в тепло, к очагу, к ужину, а главное к родным.
Его совсем не видно только звук, только скрип снега под валенками спешащего домой человека.
По пути его всенепременно облаивают собаки, они вдруг встрепенулись, заголосили, причина же есть, вот пешеход, он вторгся в их тишину, тревожит их, как он посмел…
И не без этого, хлеб отрабатывают, а потом колотун и стынь вокруг, брехнул в пространство и гляди…, высказал признание хозяину, мол, сторожу, и теплее стало.
Начинается перекличка, любимое зимнее занятие «цепных» сторожей, даже захудалый, ленивый пёс тявкнет, не забудет. А тут и луна приспела, как не повыть, да не полаять на неё…
Луна!..
За домами выплывает пятном жёлтым, с кругом вокруг, она в диске, что за диво?
Необычно как-то!..
То преломление лучей небесного светила и разложение в спектр лучиков в мельчайших кристалликах льда, что носятся в пространстве небесном.
И её свет из глубин теряющихся, да прямо на простую поселковую улицу…
Размах жизни! из пространств, да прямо на нас…
Что такое?.. что за грохот? где-то почти рядом ритмично застучали колёса бегущего поезда, однообразным аккордом куда-то вдаль помчался товарный, а может и пассажирский.
Он почти рядом, но нет, то обман морозного воздуха сказывается.
Смотрю на Дом, мой Дом…
Размеренная жизнь.
Там тепло, уютно, там Мама, Отец и сёстры, там пахнет щами, жаренной картошкой, немудрёное блюдо, от Мамы коровой и молоком, там пахнет котом, пахнет Домом, как же я соскучился по нему!
«… Домой!», – пронзает зиму чей-то зов… «… Домой!», – повторяет не понятно где зовущий…
Меня ли зовут, понять не могу, возможно, друга, а может и на соседних улицах крик раздаётся: «Домой!»
«… Домой!»
Туда в уют, в тепло и ничего, что поворчат, так надо, без этого никак нельзя, такое ворчание сейчас слаще музыки всякой…
Ворчите…
Уклад жизни, всё так, как положено, временем, веками положено…
Но вот всё меняется, куда-то уходит…
Сейчас звуки другие или охват восприятия ужался.
Был детский живой, запоминающий, а сейчас взрослый и как-то совестливо мелкий…
Мы стали стыдится перед такими же взрослыми восторгаться красотой, выражать чувства вслух к живому, славному, чудному и поэтичному…
Забываем мы, что каждый человек, подобен Ему, о котором всуе не говорится…
Где это ВСЁ?..
Всё слышится через время и целую жизнь зов детства – «… Домой!»
Бывало такое?..
Вы стояли возле своего дома в детстве?..
ноябрь 2021 года
____________________
[1] Строки из стихотворения Брюсова Валерия «Это я»
РАННЕЕ УТРО. В ПОСЁЛОК
Раннее утро… Поёживаясь от утреннего холодка и свежести, выбегаю на улицу, умываюсь и выгоняю из себя остатки сна и постельной лени. Рукомойник на улице, вода прохладная, налитая Мамой с вечера. Рядом крутится Шарик, тоже потягивается, выгибая спинку и сладко зевая. Сегодня едем с Отцом в районный центр, посёлок, расположенный в двенадцати километрах от дома, где мы живём на закрытом золотом прииске, жители которого частично уже переехали и все основные административные конторы тоже переехали в райцентр. Шарика не берём, он остается с Мамой, будет охранять наш дом и хозяйство. Посматриваю в сторону своего любимого места, где встаёт солнце. Жду его! Медленно выплывает из-за горизонта его шар. Наблюдаю… Не часто приходится так рано вставать и видеть его восход. Каждое явление природы чудесно и удивительно в детском восприятии, а восхождение солнца великолепно вдвойне! Много занимательного скрывается в этом действе. Меняются краски утра вокруг, освещение предметов ежеминутно сменяются, распускаются цветы, закрывающие свои бутоны на ночь. С появлением первых лучей, оживают птицы, да и я сам радуюсь несказанно всему, что происходит вокруг, я встраиваюсь саму канву течения жизни.
Солнце поднялось над соседним леском, облило своими лучами деревья, траву, цветы, которые не замедлили повернуть свои головки в сторону тепла и света родного светила. Встрепенулись птицы, расправили крылья, пёрышки и затянули свои неумолкаемые песни. Чириканье, посвистывание и трели огласили окрестности и вместе с лучами солнца в хоре, всё запело, зазвенело пробудившись. Как красиво и мило кругом в этом вечном водовороте жизни! Мне и хочется и не хочется уезжать, но дорога привлекает, много нового можно увидеть.