Поварёнок
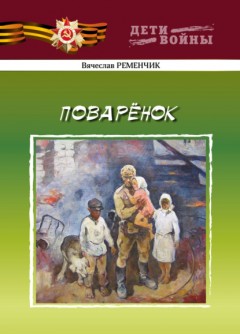
© Ременчик В. Е., 2025
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2025
Незаконченная рукопись этой невыдуманной истории была без-возвратно утеряна. Вряд ли бы решился на повторный шаг, но смеш-ной фарфоровый поваренок на кухонной полке – солонка из старин-ного столового набора – постоянно напоминал мне об обещании, данном себе много лет назад.
Рядовому Левину Мотелю Абелевичу посвящается
Пулемет на чердаке палил без остановки. Свинцовые градины беспощадно крошили серые камни мостовой в мелкую колючую крошку. Огонь велся прицельно и плотно покрывал всю маленькую круглую площадь на Штралауэр Штрассе.
Взвод трижды поднимался в атаку, но тот, кто засел на чердаке красивого двухэтажного особняка (точь-в-точь как на литографиях Райнхольда Фелкела[1] в Дрезденской картинной галерее) в тополиной рощице за площадью, каждый раз одерживал верх. И каждый раз солдаты – кто замертво, кто с желанием уцелеть – под страшный аккомпанемент стрельбы валились на мостовую за развалинами летнего амфитеатра и терпеливо ждали той счастливой минуты, когда у немца закончатся патроны или он вместе с пулеметом, чердаком, Гитлером и всей проклятой Германией провалится в преисподнюю. Прошло без малого четыре часа, но ни одно из загаданных бойцами желаний не осуществилось. При таком раскладе оставалось одно – реализовать самую насущную в этот день мечту, оформленную в устном приказе командира взвода лейтенанта Прохора Семеновича Кузьменкова: «Сковырнуть пулеметчика с чердака!» Увы, проклятый фашист не оставил ни малейшего шанса хоть на метр приблизиться к ее осуществлению. Два мощных прожектора под крышей всем своим боеспособным видом ставили под большое сомнение возможность что-либо предпринять под покровом темноты, хотя до ночи надо было еще дожить. Солнце находилось в самом зените, и фриц с задором крошил мостовую.
Открытое, насквозь обозримое пространство вокруг площади без каких-либо помех простреливалось пулеметчиком. Любое движение лежащих на брусчатке тел мгновенно пресекалось кинжальной очередью. Патронов фриц не жалел – судя по всему, их было безмерно много. По огненным вспышкам из чердачного окошка можно было предположить, что в распоряжении у стрелка не менее трех пулеметных стволов и он их умело чередует: пока второй номер заправляет ленту в первый, второй остывает, а третий мечет свинец.
Превращенная в решето рация бесполезным ящиком покоилась рядом со своим бездыханным владельцем – радистом Колей Сивцовым, в метрах двадцати поодаль лежал сраженный меткой очередью посланный за подмогой Гриня Панасюк, а значит, подкрепления до конца войны можно не ждать: вряд ли в дивизии скоро хватятся маленького стрелкового взвода, исчезнувшего в большом, бурлящем военными страстями городе.
Перекличка, проведенная взводным час назад, выявила потери: двое безвозвратных, трое раненых, один из них – тяжелый.
– Да когда ж ты заткнешься, фашистская сволочь, – в сотый раз подряд простуженным басом хрипел комвзвода Кузьменков и тихо, скорее для себя, чем для окружающих, добавлял: – Эх, пушечку бы сюда…
А в это же время в центре Берлина шел штурм Рейхстага. Город содрогался от грома орудий, пылал огнем пожаров, утопал в черном едком дыму, истекал кровью тысяч убитых и раненых.
Как только первые пулеметные очереди накрыли взвод, Мотя упал плашмя на мостовую и откатился к ближайшему укрытию, при внимательном рассмотрении оказавшемуся сраженной взрывом статуей Геракла. И вот уже несколько часов он лежал в пяти шагах от взводного и рядышком с нещадно искрошенным пулями и осколками полубогом. Громадный мускулистый торс древнего грека надежно защищал тщедушное маленькое тело красноармейца. За это подаренное судьбой время он в мельчайших подробностях изучил беломраморное изваяние. Внешне мифический герой был полной его противоположностью. Низкорослый тощий человечек, прошедший всю войну от Москвы до Берлина, прижимался к сраженной снарядом мощной каменной глыбе. Опознав в статуе образ сына Зевса и Алкмены, он внутренне улыбнулся. Гераклом год назад под Курском Мотю нарек тогдашний комвзвода Бельский, когда Левин притащил на себе из разведки тяжелораненого стокилограммового старшину Солоного. Позже ротный шутник Валерка Блинцов, сложив два имени в одно и помножив полученную сумму на философскую Мотину мудрость, присвоил ему новую кличку – Геромот. Правда, кличка, прожив пару дней, отклеилась сама собой (имя Мотя было гораздо удобней для произношения). Красноармейца Левина за ту разведку наградили второй медалью «За отвагу», а Бельский и Валерка погибли в одном бою под Вислой.
Пулеметчик щедро всадил в мостовую очередную порцию свинца.
– Эх, пушечку бы сюда, – снова послышалось со стороны комвзвода.
За всю войну Кузьменков был четвертым после двух погибших и одного списанного по ранению взводных. Да и состав подразделения за четыре года обновился не один раз. В этих стихийных и плановых ротациях никто из командования и рядового состава не обратил внимания на тот удивительный факт, что рядовой первого взвода третьей роты второго батальона 336-го гвардейского стрелкового полка Левин Мотель Абелевич без устали и без единой царапины прошел со своей родной частью всю войну. Бог берег его, и страшная старуха с косой обходила стороной. Один-единственный раз Мотя попал в медсанбат и то по причине зубного флюса. Проблему при помощи спирта и щипцов мгновенно решил пожилой рукастый фельдшер Макарыч.
– Кто ж тебя так заговорил, солдат? – спросил его командир дивизии генерал Фогель, вручая ему медаль «За боевые заслуги» после форсирования Днепра (до противоположного берега со всей роты доплыл лишь неполный взвод). Тогда Мотя пожал плечами, хотя совершенно точно знал ответ. Он свято верил в то, что от роковой пули его берегут дочурка Раечка, жена Софа, мама Циля, папа Абель, бабушка Рахель и дедушка Ефим.
В сентябре сорок первого они все были расстреляны фашистами в овраге у деревни Каменки[2], что недалеко от Бобруйска. Об этом Мотя узнал спустя три месяца. Он открыл конверт с письмом от тети Хаи в холодной землянке под Москвой. Война, лишив его самого дорогого, не позволила задохнуться в безутешном горе. Он даже не успел зарыдать в голос, громко, на всю Вселенную, как подсказывало сердце. Как только письмо упало на пол, земля содрогнулась от взрывов немецкого артудара. А после в атаку на наши позиции пошли танки и пехота. Мотя стрелял прицельно, машинально перезаряжая винтовку. Люди в серых шинелях падали почти синхронно с его выстрелами. В контратаку он поднялся первым, примкнул штык и молча, с трехлинейкой наперевес бежал до вражеских порядков впереди наступающей цепи; с пяти шагов выстрелил в живот долговязому немцу, второму с хриплым выдохом свернул квадратную челюсть прикладом и молниеносно пронзил штыком впалую грудь молоденького офицера. Вынимая лезвие, не удержался на ногах и завалился спиной на бруствер, винтовка выпала из рук. Внезапно навалившемуся на него всем своим грузным телом фашисту он вцепился в кадык зубами…