Валькино детство
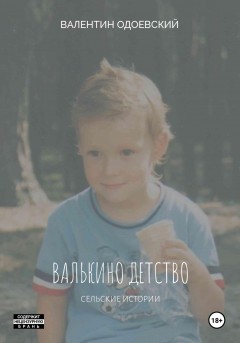
От автора
Было это недавно. Хотя… кажется уже и давно.
Удивительное свойство памяти – с невероятной достоверностью воспроизводить некоторые эпизоды из детства, которые, вроде как, совсем позабылись, да и не вспоминались много лет.
Собственно, как-то так я коротко объяснил, как я оказался на полях этого литературного опуса.
Был в моей жизни довольно короткий, по историческим меркам, разумеется, период, когда я жил… в селе…
Да-да, в самом обычном селе где-то… да какая, в сущности, разница где? Страна огромная, а в ней всё примерно одинаковое. Особенно если мы говорим про нулевые годы, тем более про сельскую жизнь.
Прожил я там около полутора лет. Но даже за этот относительно короткий промежуток жизни успел пронаблюдать с десяток-другой интересных историй, ради которых, в общем-то, вы и оказались здесь, не правда ли?
Не могу сказать, что на этих страницах рассказаны прям все-все интересные события, что мне довелось увидеть или пережить в том селе. Тут, скорее, самые яркие из них – те, что моя память удосужилась воспроизвести без особых усилий, с такими красками и чувствами, словно это было вчера, а не двадцать лет назад.
Сразу же должен оговориться и обратиться таким образом к истинным поклонникам и любителям классической русской литературы: данное произведение – хоть и не прям мемуары в полноценном понимании жанра – однако, всё же, воспоминания, а потому требует от меня, так сказать, исторической достоверности. Именно поэтому, если вы настолько утончённая и чувственная натура, что не терпите матерную и иную крепкую лексику – закрывайте книгу прямо сейчас!
А всем остальным моим читателям, что не обременены «штампами» и нравами XVIII-XIX веков желаю приятной ностальгии по нашим двухтысячным и, конечно же, по сёлам и деревенькам тех времён!..
Ах да, самое главное – рекомендую читать это произведение в городе, ведь современные загородные поселения уже не похожи на те, что описываются здесь, а потому вы, вряд ли, прочувствуете всю ту атмосферу, о которой я рассказываю.
Впрочем, я не буду сильно удивлён тому, что я ошибся в своих суждениях и за двадцать лет ничего не изменилось….
Сельская субкультура
Случалось, моя бабушка, у которой я, собственно, и жил всё это время, собиралась в город – областной центр, до которого час езды – за какими-то товарами, коих в селе было не достать, ну а я тут как тут – всегда просился поехать с ней.
– Валя, да ну тебя! – иной раз отмахивалась бабушка. – Опять капризничать будешь! Я шо, по-твоему, кошелёк ходячий, шоб тебе новую железную дорогу купить?
– Да не нужна она мне! – дулся я. – Я в город хочу!
– Зачем?
– Там дороги широ-о-о-окие. И дома повы-ы-ы-ыше. И моро-о-о-оженое.
Вот что-что, а мороженым бабушка меня никогда не обделяла. Хоть на улице январь, хоть июль, а если я просил – несомненно его получал, в этом даже не стоило сомневаться.
– Ла-а-а-адно, – сдавалась бабушка, – если у дяди Саши машина ничем шибко не загружена, то поедешь со мной.
Дядя Саша был наш односельчанин – коренастый пузатый мужичонка, родом откуда-то из-под Харькова, от чего то и дело разговаривал на мове1, что звучало одновременно смешно и местами не понятно для меня, особенно когда дело касалось каких-то его поручений. Ездил дядя Саша, как настоящий патриот, на стареньком голубом «Запорожце», который имел тенденцию ломаться посреди дороги. В такие моменты, его хозяин выходил из салона с какой-то тряпкой, что неизменно лежала у коробки передач, и ворча двигался к тому месту, где у обыкновенных машин находился багажник. Там он, кряхтя и матерясь на чём свет стоит что-то делал, после чего чудо советского автопрома каким-то образом заводилось и можно было продолжать путь.
Однажды я поинтересовался у дяди Саши:
– А чего вы новую машину не купите, раз эта у вас ломается?
Тот тяжело вздохнул:
– Нічого ти не розумієш, друже. Я ж за цією машиною в черзі чотири роки стояв! Це ж пам'ять в кінці кінців! А зараз… де ж я грошей-то стільки візьму на нову машину? Хіба тільки нирку продам – і то ж, адже, не вистачить! Та й сенс мені який? Машинка-то хоч і стара, а звір! Для наших доріг саме те, вже точно краще, ніж всякі там німці та японці2.
Из всей этой задушевной тирады я мало что понимал, а потому переспрашивал:
– Так почему всё-таки?
Дядя Саша обречённо взмахивал рукой:
– Та жалко мне, понимаешь?! Это ж память!
О ком или о чём эта память была я, опять же, не понимал, однако, спрашивать на этот счёт уже не решался, ибо становилось понятно, что мой собеседник вряд ли сможет подобный вопрос доступно втолковать маленькому мальчику, у которого на уме были одни только железные дороги и поезда.
На да что-то я отвлёкся…
В общем, бабушка подходила к старенькому дисковому телефону, что стоял у неё на комоде и набирала дядю Сашу, чтобы спросить не загружена ли у него машина. Как правило, его ответ был в мою пользу. Бабушка, как бы она меня ни упрекала за капризы и баловство, сразу же улыбалась и подмигивала мне, что означало одно: едем в город.
И знаете, в детстве всё это воспринималось как-то по-другому…
Вот мы ехали час до города, а меня уже всё начинало завораживать: и долгая дорога, проходящая сквозь полулески и поля, и монотонный говор дяди Саши за рулём, и бабушкин смех на некоторые его фразы…
Всё это вкупе казалось чем-то сказочным и вечным. Когда ты маленький, тебе, почему-то кажется, что так, вероятно будет уже всегда. Лишь только с годами ты понимаешь, что в какой-то момент ты поехал в такой вот компании и таким маршрутом последний раз, просто конкретно тогда ты этого не знал… да и не мог знать…
И вот, спустя примерно час шумной, но такой весёлой и задушевной дорожной тряски, мы оказывались в городе.
Почему-то он всегда казался мне красивым… да что там «красивым»? – поистине великолепным местом! Это даже с учётом прошедших лет и изменившихся, в связи с этим, взглядов на жизнь.
Мне в нём нравилось всё: и мощёные улицы, и дома, что для маленького Валечки были громадными, и запах реки, вперемешку с запахом свежей краски с фасадов зданий вокруг, и разнообразие магазинов, каждый из которых так и манил зайти, и люди… не те люди, что жили у нас в селе – совсем другие: все красивые и по-разному одетые, все куда-то спешат, порой даже забывая посмотреть вверх, туда, где раскинулась голубизна неба над крышами местных улиц, но все они всё равно казались счастливыми.…
Случалось, заходишь в какой-нибудь магазинчик один, а тебе с порога:
– Здравствуйте! Вам что-то подсказать?
Конечно же я безмерно смущался и стеснялся! Чтоб к маленькому мне и на «вы» обращались? Да когда такое было?! А вот в городе, как раз, и было…
Всё это, конечно же, вызывало у меня настоящий неподдельный восторг. Иногда я искренне не понимал, почему бабушка, всё-таки, выбрала жить в селе, а не в городе, ведь здесь всё и всего намного больше.
Лишь с годами я понял, что какими бы люди здесь не казались счастливыми и красивыми, а у большинства из них не было одного, но самого главного – той самой искренности. Мало кто из них мог похвастать тем, что ему было позволено быть настоящим – быть самим собой.
Зато в селе с этим ни у кого проблем не возникало…
Случалось идёшь по просёлочной дороге куда-то по своим мальчишеским делам, или бабушка тебя зачем-то к кому-то отправила, глядь, а на одном из перекрёстков стоит, опершись на забор или фонарный столб, акий барин XIX века, Игнат Матвеевич – высокий, грузный мужик, чем-то напоминавший собой Герасима из иллюстраций к произведению Тургенева «Муму»; казалось, в нём вмещаются все сто пятьдесят килограммов, что при его росте смотрелось как будто бы уместно; короткая ухоженная чёрная борода прибавляла и без того грубому лицу ещё с десяток-другой лет; одевался он, в основном, в мешковатые тёмно-синие штаны и какую-то холщовую куртку, но одно в нём всегда оставалось неизменным – тельняшка. Уж не знаю, служил ли он на флоте или в десанте, да только казалось, что Матвеич её совсем не снимает.
Итак, стоит, значит, на перекрёстке наш Игнат Матвеевич, как я уже и сказал, опершись на что-либо и чинно курит сигарету без фильтра, выпуская, казалось, такие клубы дыма, что паровозы из ближайшего депо могли бы позавидовать.
Тут откуда-то появляется Николай Степанович, который по своему обыкновению идёт, воровато озираясь по сторонам, чуть сгорбившись и держа руки в карманах, непонятно откуда взявшихся у него, синих галифе, заправленных в грязные потёртые сапоги, которые летом заменялись какими-то непонятными сандалиями на босу ногу. Идёт, значит, и замечает своего лучшего друга в мире – Матвеича. Да ещё и с сигаретой! Ну прям джекпот!
– Матвеич! – кричит Степаныч своим высоким голоском, подходя к нему на полусогнутых. – А дай сигаретку!
Игнат Матвеевич выдыхает дым и щурясь сквозь него коротко спрашивает своим гулким низким голосом:
– Зачем?
– Как зачем?! – разводит руками Николай Степанович. – Закурить!
– Закури-и-и-ить?
Матвеич скептически смотрит на своего собеседника, потом на сигарету, тлеющую в руке, затем круто затягивается и, выпуская дым носом произносит:
– А вот не дам я тебе сигаретку!
Степаныч чуть ли не подпрыгивает от неожиданности и секундной злобы, что накатывает на него.
– Ну ты и жаба, Матвеич! Я тебе это припомню, гад!
А тот, ничуть не смутившись, снова затягивается и отвечает с едва слышимой усмешкой:
– Припоминай, Коля, припоминай! Зато как яму под сортир копать надумаешь снова – меня-то не зови больше, я ж и жаба, и гад! И деревья свои дустом обрабатывать меня не приглашай…
– Ой-ой, напугал, рукастый ты наш! – кривится Николай Степанович. – Зато как фрукты с этих самых деревьев жевать, да помидорки мои в свои банки закатывать – это ж ты первый прискачешь! У самого-то за пазухой кроме коров ни шиша нету!
– Да я уж проживу как-нибудь без этой кислятины твоей! Зато как приспичит тебе любкиных блинчиков да со сметанкой покушать – так в раз предо мной окажешься, лишь бы молочишка дал!
Николай Степанович хмурился, на короткое время задумывался, а потом быстро произносил:
– Матвеич, а знаешь что?
– Ну что ещё? – тяжело вздыхал Игнат Матвеевич, делая очередную затяжку.
– А иди-ка ты нахуй!
Грузный собеседник ничуть не смущался подобного направления, а лишь выдохнув обильное горькое облако отвечал, смеясь:
– Я-то пойду, Коля. Только ж в умелых руках и хуй – балалайка, а вот тебя – дохлика криворукого – коли пошлёшь, так ты ж ничего лучше не придумаешь, как на него сесть. Так что, Степаныч, я буду благородным – иди-ка ты в пизду!
На том и расходились – каждый ни с чем.
Конечно, все обиды быстро забывались. Матвеич неизменно помогал с тяжёлыми домашними хлопотами и давал молоко от своих коров. Ну а Степаныч не отказывал своему такому спокойному и курящему другу в щедрых угощениях со своего огорода.
В моменте всё это казалось маленькому мне невероятно смешным и, одновременно с этим, интересным, ведь я ничего такого не видел, да и не мог видеть в том же городе. Там люди общались намного высокопарнее и… сложнее, как мне тогда думалось…
Да и одевались намного ярче.
В селе же всё было, хоть и чуть однообразнее, но как-то проще, искренне и, как я и говорил, по-настоящему.
Здесь не встречалось, пожалуй, ни одного человека, который пытался казаться счастливым. Тут либо всё хорошо, либо всё плохо – помогайте.
Впрочем, бывало и третье состояние.
В ту пору село возглавлял странноватый и загадочный мужик с фамилией Громушкин. Хотя… пожалуй, это в детстве он казался мне загадочным из-за сдвинутой на глаза кепки, сшитой из той ткани, которую обычно используют для пошива пиджаков. Вечно угрюмый и молчаливый, от него постоянно разило спиртом, да так, что местные собаки поднимали лай, когда он проходил чуть ли ни в километре от их местонахождения. На нём всегда была примятая, не заправленная белая рубашка, поверх которой носился чёрный кожаный пиджак (а может это такая куртка была – уже точно не помню), а на нём всё время сияла «Золотая Звезда» Героя Социалистического Труда, а чуть ниже под ней орден Ленина с чуток потёртой красно-жёлтой лентой.
Так вот, по нему никогда нельзя было однозначно сказать – хорошо ему или плохо. Он просто медленной походкой прохаживался по селу, сунув руки в карманы брюк, надвинув кепку чуть ли не на нос и что-то невнятно бормоча про себя.
То и дело к нему подходили сельчане с какими-то вопросами или просьбами, на которые Громушкин неизменно молчаливо и вяло кивал, после чего коротко бросал своим хриплым пропитым голосом:
– Порешаем!
И, судя по тому, что он продолжал возглавлять село, будучи извечно пьяным, – реально что-то решал…
Ну и, разумеется, в детстве особенно сильно чувствовался контраст, когда возвращаешься из города.
Там ты видел красивые, старинные громадные дома и дворцы с элегантными скульптурами и каменными росписями. Здесь же – невысокие, порой, странные дома с треугольными железными крышами, всюду окружённые всякими плодовитыми деревьями, так и пышущими зеленью и жизнью.
В городе царил запах реки, свежей краски, кофе и выпечки. В селе отовсюду веяло травой, свежей разрытой землёй, табачным дымом и этим странным, необъяснимым запахом, коим обычно пахнет крупный рогатый скот, которого в этих краях было предостаточно.
Город всегда встречал шумом улиц и машин. Село, в основном, было тихим – лишь шелест листьев и травы от мощного ветра услаждал слух, невольно устававший от городской суеты, хоть и пробыл там, в общем-то, всего-ничего. И только ты начинал наслаждаться этой атмосферой, как откуда-то – непонятно откуда – доносилось:
– Э-э-э-эх, бля-я-я-ять, как же пожрать охота! Танюх, когда уже пельмени будут?
А из дома приглушённо отвечали:
– Да когда в сарае уберёшь – тогда и будут! Работай давай, нечего хуем деревья околачивать!
– Ну-у-у, змея! Дай хоть воды испить, я ж забор чинил, ну!
– Да прям он чинил, бестолочь такая! Как ни выйду курям чё-то вынести, так он всё пыхтит как паровоз – вон, всё небо ископтил, аж тучи появились на горизонте!
– Это вечер наступает, Таня!
Выслушивал ты всю эту тираду, идя по сельской дороге к дому, ставшему родным, и невольно думал, глубоко вдыхая местный слегка пьянящий воздух: «Эх, хорошо же тут всё-таки!..»
Ну, что-то я увлёкся описаниями, да?
Всё-всё, пора переходить уже к историям, ради которых мы все здесь и собрались…
На службе курьерской
Частенько в селе случалась пренеприятнейшая история: в домах отключали водоснабжение. Любое. Ни помыться, ни приготовить жидкую пищу. Ничего сделать нельзя. Конечно, отключали ненадолго. В основном, на сутки-двое – не больше. Но, всё-таки, от бесконечных причитаний местных жителей отбоя не было.
Несколько проще жилось тем, у кого на участках были колодцы. Тут и далеко ходить не надо – натаскал в дом с десяток вёдер со студёной водой – всё, день закрыл. И следующее утро, в принципе, тоже.
Труднее же приходилось сельчанам, у которых не было подземного источника воды под боком. Оставался один выход – бегать к озеру. И тут снова люди делились на тех, кто живёт рядом, и кто далековато.
Нам с бабушкой в этом плане не повезло вдвойне: колодца у нас не было и жили мы, как вы уже поняли, на приличном расстоянии от озера. Особенно большим этот путь казался, когда ты ещё довольно маленький.
В общем, просыпаюсь я как-то летним утром, по деревенским меркам, довольно поздно – аж в восемь часов. Первым делом, конечно же, иду на кухню, откуда чуть приглушённо играет радио и пахнет свежей выпечкой.
– Ну ты и засоня! – «приветствует» меня бабушка, стоящая у плиты часов этак с пяти и успевшая за это время наготовить, вероятно, блюд на весь день. – Иди умывайся, завтракать будем.
Мне дважды повторять не надо – топаю в нашу крохотную ванную комнату, поворачиваю ручку крана умывальника – ничего. Поворачиваю вторую – и снова неудача.
– Бабушка, кран сломался! – кричу я.
– Как это сломался? – слышится в ответ бабушкин голос, сопровождаемый быстрыми шагами.
Она подходит к умывальнику и повторяет один в один мои действия.
– Ох, шо ж за напасть-то такая-я-я!.. – причитает бабушка, поворачивая ручки обратно. – Я ж только собиралась воды набрать на полив! Ой, пропадать!..
Я же стою и понимаю… чуть больше, чем ничего. Во всяком случае, точно осознаю, что не умоюсь.
– Ну да вот что, – говорит бабушка, собрав мысли в кучу, – бери-ка зубную щётку, пасту, расчёску и вёдра, и сходи на озеро. Там умоешься, заодно воды на полив мне принесёшь, а то я уморилась что-то уже, а работы ещё вона сколько!
Дорогу до озера я уже знал, а потому ничуть не смутившись рассовываю мыльно-рыльные принадлежности по карманам штанов, хватаю вёдра и чешу сквозь сельские улочки к водоёму вместе с другими бедолагами разных возрастов, разделявшими мою участь.
– Говорят, – произносит кто-то из идущих, – что в сельсовете вода никогда не отключается…
– Ага, конечно! – перебивает его грубоватый женский голос. – На шо она Громушкину? Он же, поди, в водке своей умывается, в ней же чай с супом заваривает!
Шёл я с этими людьми, так сказать, в одном строю, слушал всё это и пытался сообразить своей детской головой: как же это так можно сделать, чтоб на одной и той же водке заваривать и суп, и чай? И что же за человек этот самый Громушкин, раз ему хватает одной небольшой бутылочки, чтоб умыться?
Пока я так рассуждал в своей голове, ноги, между делом, довели меня до озера, напоминавшее с холма половинку бублика. На мгновение я остановился и в очередной раз впал в какой-то зачарованный транс: вот много раз уже бывал на этом месте, не раз купался с местными ребятами и с ними же охотился на раков, а всё никак не мог налюбоваться.
Вода в нём прозрачная и спокойная, словно зеркало, отражающее небо и облака, чем не могла похвастать река, находившаяся у самой северной окраины села, чьи воды были мутноваты и кишели длиннющими водорослями. По берегам озера располагались редкие массивные дубы и изящные берёзки. Пусть этих самых деревьев было и немного, но листва их извечно шелестела, создавая в созвучии с лёгкими озёрными волнами что-то вроде белого шума, невольно навивавшем на всякого путника спокойствие и умиротворение. Часть берегов была усеяна какими-то полевыми бело-розовыми цветами – уж не припомню название, – которые становились реже по мере приближения к воде, уступая место песку, что по утрам обычно оказывался усеян следами разных птиц, стиравшимися впоследствии человеческой обувью.
Чуть-чуть посозерцав я всё-таки вспоминаю, зачем пришёл сюда, а потому чешу к воде, где во всю уже плещутся сельчане: кто тоже умывается, как и я, кто вёдра набирает, а кто решил забыть про всё и всех и занырнул поглубже, чтобы остудиться в ещё прохладной утренней воде.
Покончив с чисткой зубов и кое-как уложив волосы, весь румяный и довольный я набираю два ведра воды и, стараясь не кряхтеть для виду, медленно несу их вверх, делая всё возможное, чтобы не проронить ни капли.
Вот я на сельской дороге. Бреду по знакомому хоженому пути к дому.
Вдруг, откуда ни возьмись, словно инфаркт или понос, из-за угла одного из заборов появляется чуть сгорбленная фигура Николая Степановича. В его зубах зажата дымящаяся сигарета, руки, по обыкновению, в карманах галифе, а взгляд рыщет из стороны в сторону и останавливается на мне. Сигарета плавно перемещается из одного уголка рта в другой и доносится его высокий голосок:
– Эй, Валя! Тебе сколько лет?
– Пять, – чуть смущённо отвечаю я.
– О как! – удивляется Степаныч, чуть выпучив глаза. – Здоровый какой! А не куряешь?
– Нет, не куряю, – стараюсь говорить чуть увереннее, подражая его тону.
– Ох какой молодец! – он всплёскивает руками. – Поди воду тащишь, а?
– Да, воду.
– А хочешь, дам десять рублей?
Чтоб вы понимали, в нулевых да в селе, да у ребёнка моего возраста десять рублей – неплохая сумма. В сельском магазинчике на такие шиши можно было накупить несколько пачек вкуснейших сухариков с какой-нибудь небольшой бутылочкой газировки и гулять с местными ребятами до самого вечера, чувствуя себя настоящим королём положения.
– Хочу-у-у! – заинтересованно отвечаю я.
– Ну, пойдём за мной!
Николай Степанович манит меня жестом руки за собой и, спустя пару шагов, открывает предо мной калитку, ведущую на его участок, представляющий из себя длинное владение, где всюду раскинулись грядки и теплицы, а в самой глубине – то бишь – на другом конце виднеется небольшая рощица разномастных плодовых деревьев.
– В общем так, дружок, – деловито говорит Степаныч, – чтобы получить десять рублей, тебе надо будет зайти в обе мои теплицы и аккуратненько, равномерненько всё там полить. Понимаешь, да?
– Понимаю, – отвечаю я, так как бабушка меня уже научила поливать разносортные грядки и прочие посадки, а потому я понимаю, как распределять воду в вёдрах, – только это уже двадцать рублей.
Николай Степанович громко хохочет, словно умирающая чайка, но буквально мгновенно приходит в себя и говорит:
– Да, Валя, хитрец ты! Далеко пойдёшь! Ну, не стой, как истукан – поливай давай, будут тебе деньги.
Я с приливом энергии и энтузиазма хватаю вёдра и несу их к теплицам. У входа оставляю одно из них, а с другим вхожу в первую и медленно иду вдоль стройных рядов каких-то причудливых пахучих листьев, стараясь не задеть их тонкими струйками воды.
Покончив с первой теплицей, выхожу из неё и незамедлительно вхожу во вторую с полным ведром. Повторяю «упражнение».
Выхожу на свет Божий красный от жары, вспотевший, но довольный от осознания, что сейчас заплатят.
– Ай молодчага! – рассыпается на комплименты Николай Степанович. – Как мне помог, ты бы знал! Ну, не буду тебя задерживать, Валя, держи свой навар.
Он протягивает мне две зеленовато-серые купюры по десять рублей, которые я тут же прячу в карман штанов.
– Давай, дуй домой, бабушка-то заждалась поди!
Радостный и с лёгкими вёдрами я бегу вприпрыжку домой, думая, как расскажу сейчас бабушке о своём первом заработке.
Возвращаюсь к родному дому.
Бабушка уже вовсю копошится на грядках в своей смешной соломенной шляпе на голове, орудуя при этом граблями. Замечает меня и улыбается.
– Ну шо, Валя, принёс воды?
– Лучше! – широко улыбаюсь я и опрокидываю перед собой пустые вёдра, чтобы достать купюры из кармана. – Я денег заработал!
Довольный собой, показываю ей деньги.
Улыбка мгновенно спадает с её лица, а голос делается серьёзнее.
– А воду ты куда дел?
– На дело. Николаю Степановичу в теплицы вылил.
Бабушка медленно выпрямляется и опирается на грабли, смотря на меня тем взглядом, которым тигры смотрят на свою потенциальную добычу.
Мои коленки как-то сами по себе сгибаются, а сердце учащает биение, как бы намекая, что сейчас произойдёт нечто нехорошее.
– Как это… вылил?.. – медленно проговаривает бабушка, шаг за шагом сокращая расстояние между нами. – Ты что же это? – грабли поднимаются в воздух. – Я ж тебя попросила принести воду, а ты…
Тут она совершенно неожиданно переходит на бег да такой, которому позавидует, вероятно, молодой гепард.
– Повешу, сволочь! – кричит она, летя в мою сторону с граблями наперевес.
От неожиданности я перестаю понимать, что вообще происходит, а ноги автоматически превращаются в колесо, придавая мне скорость гоночной машины. Я бегу от дома обратно к озеру, успев схватить одно ведро – всяко легче, чем с двумя бежать, – понимая, что если сейчас не принесу воды – меня точно повесят. От страха и неожиданности я не чувствую практически ничего, кроме навалившегося на меня чувства долга и… какого-то непонятного чувства стыда: вроде ж сделал доброе дело – помог человеку, денег заработал, как сказали бы сейчас –, поработал курьером. С другой стороны, меня тупо использовали, а я в моменте этого даже не понял…
Бабушка меня, конечно же, не догнала. Впрочем, не сильно-то и стремилась. Когда я подрос, она уже рассказывала, что это был такой воспитательный ход, чтоб я сам осознал свою ошибку и стал что-то делать. И это сработало, ведь почти полдня потом я носил ей вёдра с озера по самым разным нуждам, чему не сильно-то и противился, ибо страх бабушкиного гнева и мнимого повешения ещё долго не покидал меня.
Что тут сказать? Тяжела служба курьера. Чуть чего не доставишь кому-то куда-то в срок – в раз повесят или поколотят. Пусть даже условно. Может поэтому я с таким пониманием и жалостью отношусь к доставщикам…
Ревность
В отличие от Николая Степановича, отличавшегося своей изворотливостью и хитростью, Игнат Матвеевич всегда был спокоен и статен, что в сочетании с его массивной фигурой придавало ему вид истинного атомного ледокола. Поговаривали даже, что именно на одном из таких он и ходил.
Этот человек сохранял спокойствие абсолютно всегда. В любом деле. И это состояние волей-неволей передавалось большинству его домочадцев, начиная от жены и заканчивая животными, среди которых было небольшое стадо коров во главе с хмурым чёрным быком, две собаки и курятник, насчитывавший не меньше двадцати голов, включая гордого, красивого петуха. Лишь только младший сын – Ванька – единственный во всей этой идиллии, кто выбивался своим азартным и бойким характером.
Впрочем, что-то я снова увлёкся излишними описаниями…
Значит, шёл я как-то ближе к вечеру по селу в местный магазин по бабушкиному поручению.
Дело близилось к осени. Становилось прохладнее, солнце начинало уходить быстрее, озаряя закатным пламенем всю округу и воспроизводя невероятные по своей красоте рисунки на дороге, являвшихся отражением оранжевых лучей от стёкол окон местных домов.
На одном из перекрёстков, облокотившись на низенький деревянный заборчик, по своему обыкновению стоял Игнат Матвеевич, что заслонял уходящее солнце сигаретным дымом, выходившим из его рта и носа, словно из паровозной трубы.
И тут, он увидел меня. Рассеяв белое облако одним взмахом своей здоровенной ручищи, Матвеич приветливо кивнул и спросил своим гулким низким голосом:
– Ну, Валя, куда чешешь?
– В магазин, Игнат Матвеич, – отвечаю я, остановившись и глядя на него заворожённо, словно в первый раз – каким же всё-таки богатырём он тогда мне казался!..
– Ну-у-у-ужное дело. Ответственное так сказать.
Матвеич чуть помедлил, выдерживая паузу, после чего продолжил, потушив окурок о металлическую перекладину забора:
– У меня к тебе дело есть тоже. Поинтереснее, чем по магазинам-то ходить.
– Какое? – заинтересованно спросил я, чуть выпучив глаза.
– С утреца надо будет тебе моё стадо вывести в поле, да проследить, чтоб никто из коровок не убежал куды не попадя. Ну и чтоб волки не пришли, а то ж лесок там недалеко, мало ли что. Собаки мои тебе в этом помогут. Я бы и сам сходил, да надо мне, как назло, отлучиться в другое село. Ну так я, думаю, за часок-то управлюсь и вернусь – приму у тебя стадо. На Ваньку моего надежды нет – тот либо убежит, либо учудит чего дурное, а ты хоть и младше него, но потолковее будешь.
– Ого! – удивился я.
– Значит договорились, – улыбнулся Игнат Матвеевич, – приходи ко мне завтра по утру, я помогу стадо выгнать, с собачками познакомлю, а дальше уж сам.
– Я приду! – кивнул я.
Он протянул мне свою здоровенную ручищу, в которой помещалась не то, что моя маленькая ладошка, но и, пожалуй, вся моя голова. Распрощавшись таким образом, мы и разошлись.
Ночью мне было трудно уснуть. Я всё грезил предстоящим днём, как буду пасти коров. Уже тогда я начитался разных рассказов про детство некоторых известных советских людей, которые в годы становления коммунистической власти так же работали пастухами, рассекая по полям на лошадях. Пусть мне и не обещали ни одного коня на завтрашнее предприятие, но всё равно этот книжный дух буквально насквозь пропитал меня и моё воображение.
Кое-как долежав до утра, я буквально тут же вскочил, когда увидел в своё окно, что солнце от рассвета перешло в своё полноценное состояние.
Наскоро умылся, накинул футболку и, толком не позавтракав, помчался к выходу из дома.
– Э! – окликнула меня бабушка с кухни. – Куда это ты помчался спозаранку?
– Я коров буду пасти! – гордо ответил я, натягивая кеды.
– О как! – всплеснула бабушка руками, улыбаясь. – Чьих же?
– Игната Матвеевича!
– Ну если его коровы, то иди. К обеду только возвращайся, нечего добрых людей объедать.
Выскочив с участка на дорогу, я стремглав помчался к дому Матвеича. Почему-то во мне бушевало невнятное чувство, словно я опоздал, и коровы уже ушли без меня.
Но нет. Я прибыл как раз вовремя.
– О, привет, Валя! – приветствовал меня Игнат Матвеевич с порога своего трёхэтажного дома, махнув сильной ручищей. – Подходи!
Я в два прыжка подскочил к нему и преданно взглянул на него, ожидая указаний.
– В общем так, – произнёс он, вынимая из кармана брюк небольшой продолговатый белый свисток на верёвочке, который тут же оказался у меня на шее, – если вдруг увидишь волка, медведя или ещё тварь какую, что из леса на моих коровок попрёт – свисти во всё горло. И зверей распугаешь, и народ предупредишь. А там уж кто-то из взрослых прибежит и разберётся. Сам на рожон не лезь, маленький ещё. Усёк?
Я молча кивнул, с любопытством оглядывая свисток, что висел на мне.
– Ну, пойдём, с собаками познакомлю.
Он чуть приобнял меня ладонью за плечо и повёл к двум широким вольерам.
– Значит так, это Акван, – при этих словах Матвеич отварил решётку, выпустившей из своего обиталища мощного грозного чёрного датского дога, который, подойдя ко мне, обнюхал меня с ног до головы и молча облизнулся.
– А это Полюс, – хозяин выпустил второго пса – молодую немецкую овчарку. Тот коротко обнюхал меня и, как мне показалось, приветливо кивнул.
– В общем-то, вот, – заключил Игнат Матвеевич. – Это будут твои помощники на сегодня. От тебя требуется только приглядывать за стадом в поле. Дорогу дотуда они сами знают. Просто будь начеку, пока я не вернусь. Ну что, всё ясно?
– А меня не покусают? – робко спросил я, с опаской глядя на Аквана, которого, казалось, вообще ничего не интересует, ибо он просто сел, устремив взгляд куда-то в землю.
– Да брось ты глупости говорить! – усмехнулся Матвеич. – Взрослый же парень. Собачки у меня умные, спокойные, на хороших людей не кидаются. Ты ж хороший, верно? – при этих словах он мне подмигнул.
– Верно, – улыбнулся я в ответ.
– Ну вот и ладно!
Матвеич легко похлопал меня по плечу и направился к высокому коричневому амбару, где, собственно, и жили коровы.
Распахнув массивные двери, он выпустил всё стадо на воздух.
С фырканьем и мычанием выходили животные из своего дома, незаметно выстраиваясь в колонну друг за другом, чтоб протиснуться в калитку, ведущей с участка к полю.
Полюс тут же встрепенулся и словно вихрь помчался впереди стада, обгоняя массивных неуклюжих подопечных.
Акван продолжал мирно сидеть, еле слышно посапывая себе под нос. Лишь когда последняя корова оказалась за калиткой, он поднялся и неспеша посеменил к выходу. За ним же двинулся и я.
Путь до поля оказался не долгим.
Должно быть сказывалось моё волнение и невероятное увлечение процессом.
Коровы, выйдя на сельскую дорогу, довольно быстро вернулись в свой прежний неуклюжий порядок и неспешно топали к своей огромной кормушке, кряхтя и фыркая с каждым новым шагом.
Полюс нарезал круги вокруг стада, высунув язык не то от экстаза, не то от жары, а в глазах его виделось то самое подростковое веселье и азарт, которые я столько раз замечал в сыне Игната Матвеевича – Ване.
Акван как будто сам превратился в корову, потому как даже чуть отстал от общей массы и неспеша брёл за ними, иногда лениво поглядывая по сторонам.
Я же шёл сбоку от стада, стараясь смотреть одновременно во все стороны сразу и крепко сжимая свисток в руке, чтобы быть готовым на случай, если откуда-то – да хоть с неба – появится злобный волк, как из сказок.
Долго ли, коротко ли, а мы вышли к полю – к широченному зелёному пространству с редкими тоненькими деревцами, за которым где-то вдалеке виднелся густой, казавшийся непроглядным, лес.
Утренняя роса ещё не успела до конца испариться с травинок и отражала падающие на неё солнечные лучи, от чего казалось, будто всё пространство пред нами усыпано мелкими алмазами.
Коровы, тем временем, не разделяли моих восхищённых взглядов на природу. Они просто пошли в поле и организованной кучкой принялись жевать влажную траву, то и дело фыркая и пихая друг друга в бока головами, когда сосед слишком надолго застаивался на месте.
Акван безучастным взглядом посмотрел на это действо и лениво прилёг чуть поодаль под одним из тех немногих деревьев, что росли здесь.
Полюс сбавил темп своих движений, но продолжал наворачивать круги, контролируя обстановку, что, должен признать, придавало мне определённой уверенности: с такими двумя крутыми помощниками под боком, казалось, можно было не бояться хоть атомной войны.
Между тем, часть коров стали мало-помалу отделяться от стада, отходя куда-то в бок. Должно быть, там травы было побольше, или она была посвежее. Конечно же, по неопытности меня это настораживало. Да и чувство ответственности было высоким.
Я принялся потихоньку подходить к каждой отделившейся корове и аккуратно преграждать ей путь, чтоб она шла обратно. Благо таких было немного, и они, на удивление, оказывались вполне понятливыми, потому как завидев меня перед самым своим носом, разворачивались и уходили обратно в стадо.
Осталась лишь последняя. Небольшая, со смешным чёрно-белым окрасом. Мне казалось, будто она сама ещё недавно была телёнком, потому как ещё не отрастила рогов и заметно уступала размером большинству своих сородичей.
Я встал перед ней и молча ждал, когда и она развернётся, чтобы вернуться к своим.
Корова же оторвалась от своей трапезы и подняла на меня свои небесно-голубые глаза.
Вот, Ей-Богу, с тех пор я такого красивого и глубокого цвета никогда не видел!
Она подошла ко мне, обнюхала словно собака и чуть-чуть потёрлась о меня своей головой, будто кошка.
Я никак не ожидал такого поведения от скотины, но всё же потянул к ней свою ручонку чтобы погладить.
Моя ладошка провалилась в, на удивление, мягкую шерсть, которая пусть и была коротковатой, но всё равно напоминала… вот, не поверите, но по тактильным ощущениям это было похоже на муку или очень мягкий речной песок. Настолько приятная на ощупь!
Корова, судя по всему, только и хотела такого развития событий, потому как продолжила жевать траву, смачно причмокивая и иногда фыркая, надеюсь, от удовольствия.
И тут… я каким-то шестым чувством ощутил, что на меня кто-то смотрит со спины…
Медленно обернувшись всем телом, я увидел в нескольких метрах за собой главу стада – здорового чёрного быка с широкими острыми рогами. Он смотрел на меня исподлобья своими немигающими тёмными глазами и хлестал себя хвостом по бокам, еле слышно пофыркивая.
От этого взгляда моё сердце невольно стало биться чаще, а во рту пересохло настолько, что казалось и дар речи пропал.
Бык, между тем, принялся медленно, но верно сокращать расстояние между нами.
Я бросил быстрый взгляд в сторону в надежде найти Полюса и подозвать его к себе. Но пёс носился где-то в другой стороне и, казалось, вряд ли бы меня услышал. На Аквана рассчитывать не приходилось…
Уж не знаю, что мною двигало в тот момент, да только я резко отпрыгнул назад, чем, вероятно, немало ошеломил голубоглазую коровку, после чего во все ноги бросился бежать к ближайшему дереву.
Бык грозно и громко фыркнул и побежал за мной.
За какие-то секунды я добежал до заветного деревца и буквально в два прыжка оказался в недосягаемости для моего чёрного преследователя.
Тот остановился внизу. Кое-как поднял свой взгляд вверх на меня. Помотал рогами. Грозно фыркнул и неспеша побрёл к своему стаду.
Как только он достиг коров, страх постепенно стал меня отпускать, и я, было, подумал спуститься. Однако едва мои ноги коснулись земли, как бык обернулся на меня и посмотрел с такой ненавистью, что я понял, что хуже моей идеи мог быть только замысел прыгнуть в жерло извергающегося вулкана. Я тут же вскарабкался обратно, решив дождаться прихода Игната Матвеевича. Благо листва на дереве была не особо густой, и я мог продолжать следить за обстановкой вокруг, да и на собак оставалась большая надежда.
Время тянулось мучительно медленно.
Я буквально чувствовал, как каждая секунда ожидания проходит сквозь меня, а я ничего не могу сделать, так как заперт на этой недосягаемой высоте этим проклятым быком. Впрочем, был и один плюс – за стадо я оставался спокоен, ведь под защитой двух псов и этого здоровяка, казалось, целая стая волков не сможет подобраться к нам.
Наконец, когда я уже от нечего делать принялся пересчитывать листья на ветвях, откуда-то раздалось знакомое гулкое:
– Валя-я-я, ты где?
Я обрадовался долгожданному спасению и крикнул в ответ:
– Я здесь, Игнат Матвеевич!
– Где-е-е?
– Здесь!
Я аккуратно свесился с ветки и помахал ему рукой.
Тот удивлённо взглянул на меня и принялся, не спеша, идти в мою сторону.
– Экая у нас обезьяна на селе завелась! Ты что ж там делаешь? Бананы ищешь?
– Нет, – стыдливо ответил я.
– А чего ты там тогда?
– Да бык за мной погнался, – застенчиво произнёс я.
Игнат Матвеевич обернулся на стадо.
– Да ладно?! Мусик наш за тобой погнался?
Он присвистнул.
– Мусик, ты чего пастуха своего обижаешь?
В ответ лишь раздалось короткое мычание.
Матвеич усмехнулся, поворачиваясь ко мне:
– Ну всё, вот, он извинился, слышишь? Слезай давай, пойдём домой.
– Не могу-у-у, – ответил я, всеми силами стараясь не заплакать.
– Чего это?
– Боюсь…, – еле выдавил я и… всё-таки расплакался… если честно, я и сам толком не понимаю почему и от чего.
– Ох, Господи! – тяжело вздохнул Матвеич и потянулся ко мне. – Спускайся ко мне на руки, горе луковое.
Я свесил ноги с ветви, и он принял меня в свои сильные объятия, после чего усадил себе на плечо.
– Ну, это ничего, – приговаривал он, идя за стадом, возвращавшимся в родные пенаты, – по первому разу всяк бывает.
Я его не слушал. Мне было как-то непонятно обидно. Наверное, за то, что не справился со своими, так сказать, обязанностями. Я просто молча смотрел вокруг своим красным лицом, стараясь успокоиться.
Вскоре, мы дошли до дома Игната Матвеевича.
Коровы ушли в свой амбар, собаки разошлись по вольерам.
– Ну, спасибо, дружище, что помог! – говорил Матвеич, снимая меня с плеча. – Айда обедать! Оля моя, поди, щей сталинских отварила – закачаешься!
Домой в таком непотребном виде мне возвращаться не хотелось, а потому я без разговоров согласился на столь заманчивое предложение.
И знаете, действительно закачался… правда, больше не от вкуса, а от порции, которую тётя Оля мне налила, когда узнала, что я пришёл с поля. Впрочем, это определённо помогло – я успокоился, лицо вернуло свой прежний цвет, да и аппетит от долгого пребывания на свежем воздухе у меня разыгрался на славу.
– Что ж ты, Валя, делал такого, что Мусик побежал за тобой? – спросил меня Игнат Матвеевич, наливая себе компоту прям с кастрюли.
– Да ничего вроде, – пожимал плечами я, – только корову гладил.
– Какую?
При этом вопросе он вскинул одну бровь.
– Ну ту, которая маленькая такая, с красивыми глазами.
– С голубыми?
– Ага.
Он усмехнулся и, отхлебнув компоту, произнёс:
– Приревновал тебя наш Мусик. Это ж дочка его. Пару месяцев назад токмо родилась, выросла правда, но ещё не до конца. А тут ты, понимаешь, охаживаешь её. Он тебя не знает, вот и насторожился бычок наш. Ты и купился – побежал. Надо было на месте стоять, всё обошлось бы. Понюхал бы тебя и отошёл, а тут ты его взбудоражил. Понимаешь?
Честно говоря, я тогда мало что понял, кроме того, что та коровка – это дочка быка, но, на всякий случай, кивнул.
К слову говоря, в поле меня одного больше не пускали со стадом. То ли тоже к той коровке молодой ревновали, то ли боялись, что Мусик меня запомнил – кто ж теперь знает?..
Глубокое проникновение
Вам когда-нибудь приходилось бывать в заднице у снеговика? Причём не в моменты, когда вы его только лепите, а чтоб прям внутри неё? Полностью – всем телом?
Нет?
А вот мне приходилось…
Ну а теперь, когда вы слегка просмеялись и уже прямо-таки заинтригованы, каким же образом, а главное зачем я там оказался, я, пожалуй, начну рассказывать эту историю.
Та зима в селе выдалась просто невероятно снежной. Настолько, что сугробами закрыло первые этажи и входные двери почти у всех домов в округе.
Что уж говорить – всё было настолько занесено, что все немногочисленные сельские учреждения, как например, школа и магазинчик были вынуждены закрыться. Причём физически тоже, ибо до дверей добраться ещё пол беды, а вот открыть их – та ещё морока…
Сельские работяги на месте не сидели. Они выпрыгивали из окон и из чердаков своих домов, аки снежные десантники, прямо в сугробы с лопатами наперевес и принимались с лихорадочным трудом расчищать белые завалы, прокладывая проходы хотя бы от дверей к главной дороге, которая, верно, с высоты птичьего полёта стала напоминать нечто вроде лабиринта с многочисленными прорытыми ходами сообщений к домами и обратно, в которых копошились суровые русские мужики, кряхтя, матерясь и время от времени похлёбывая водочку или крепкий домашний самогон, острота которого, пожалуй, могла бы превзойти мушкетёрскую шпагу.
– Михалы-ы-ы-ыч! – доносилось из какой-то снежной траншеи, откуда вихрями вылетал снег, бросаемый здоровенной совковой лопатой.
– Чего-о-о-о? – отзывалось из прохода напротив.
– Замёрз уже в край, сил нет! Дай самогонки пригубить!
– Ну на!
Михалыч доставал из-за пазухи своей куртки небольшую стеклянную бутыль и наотмашь кидал в сторону звука.
– Ну как? – интересовался хозяин заветной жидкости. – Получил?
– Не-а!
– Как это?! Я ж тебе кинул!
Просивший старался как можно выше подпрыгнуть, чтобы оценить обстановку и, приземлившись, горестно восклицал:
– Бля-я-я!..
– Чё такое?
– Да ты бутылку не докинул! Она в сугробе застряла!
– Бля-я-я!..
– Ничего! И не такие метели нам в ёбла летели! Врагу не отдадим!
С этими словами просивший мужик вновь подпрыгивал и кидался на не разрытый сугроб, который, конечно же, проваливался под его весом, однако, желание согреться было сильнее, и работяга еле-еле полз к своей заветной цели, тянясь к ней словно золотоискатель к большому самородку и краснея с каждым движением от натуги. Наконец, достигнув желаемого, наш герой обессиленно падал на спину и отхлёбывал своего заслуженного согрева. Жизнь сразу начинала казаться не такой поганой, а снег – не таким холодным…
Подобные картины мы вместе с местными ребятами наблюдали в то время, практически, каждый день, восседая на высоких заборах, будто стая диких котов. Хоть я и был в этой компании самым младшим, но всеобщую радость от того, что не надо ходить в школу разделял сполна!
– Может снеговика слепим? – предлагал Дима.
– Слепить-то можно! – вторил ему второй Дима, которого все из-за фамилии называли Чижом. – Было б где. Куды не прыгни – всюду проваливаешься. Вон, Серёга провалился – чуть не потонул в снегу, еле достали, до сих пор дома с гриппом валяется.
– А я слышал, что на речке снегу поменьше, – говорил Андрей, – сама она замёрзла прочно, да и пройти к ней не так трудно – взросляки всё расчистили более-менее.
Все мы невольно переглянулись.
– Точно на льду не провалимся? – уточнил Никита.
– А мы на середину-то идти не будем, – поспешил успокоить Андрей, – у бережка полепим, так даже проще.
На том и порешили – все нашей мальчишеской компашкой поползли сквозь сугробы и траншеи к реке, что находилась у самой северной окраины села.
Пока мы шли, глаза потихоньку стали путаться: всё вокруг белое и одинаковое, лишь иногда стены снега становились ниже, обнажая перед нами заснеженные дома и бескрайнее серое небо, на котором не было видно ни облаков, ни солнца; казалось будто даже его заморозили.
Долго ли, коротко ли, с небольшими передышками, а вышли мы к замёрзшей реке, которая… ничем сейчас не отличалась от всеобщей снежной массы. Лишь торчащие чёрные стебли камышей примерно обозначали, где обычно находится вода.
Спустившись к берегу и примерно разграничив, где начинается лёд, принялись мы за великие думы: как и кого будем лепить?
– Ну, – начал Чиж, – думаю, раз столько снега навалило, то и снеговика надо делать прям громадного!
– Ага, – иронично усмехнулся Андрей, – а как ты ему голову-то прилепишь? На стремянку встанешь или подпрыгивать будешь?
Я засмеялся с подобного тона.
– Да не, – спокойной отвечал Чиж, – надо ему уровни делать, как лесенку. Жопа чтоб широченная была, а туловище чуть поуже. Соображаешь?
– Ты «Боба строителя» пересмотрел, что ли? – усмешливо спросил Дима.
– Кого? – удивился Чиж.
– Ну, на «Nickelodeon» по утрам идёт.
– А ты-то откуда знаешь?
Все, в том числе и я, с наигранным недоумением посмотрели на Диму, который даже чуть стушевался и быстро пробормотал:
– Ладно, давайте уже строить, что ли?..
– Давай-давай, – усмехнулся Андрей, – Боб строитель мамкин…
Тут уже все засмеялись в голос, однако, за труды всё ж принялись.
Около часа мы скатывали ту самую жопу. Андрей, Чиж и Дима, как самые старшие в компании, все втроём катили огромный снежный ком, который своими размерами напоминал чуть уменьшенный стог сена.
Мы же с Никитой катили им навстречу шар чуть поменьше, который, впрочем, ничуть не уступал по трудозатратам.
Стояла задача соединить воедино эти два архитектурных шедевра, после чего долепить к ним небольшие комья снега, чтобы получить чуть приплюснутый широкий шар, на который потом полагалось поставить остальные части тела нашего гиганта.
Итак, соединили.
– Ну и жопе-е-е-ень! – воскликнул Дима.
– Да погоди ты! – осёк его Чиж. – Надо ещё долеплять.
Сказано – сделано. Мы тут же принялись лепить новые комья снега, конечно, намного меньше соединённых, но всё равно, довольно, внушительных размеров. Они даже чем-то напоминали пушечные ядра, только, почему-то, белые. Эти самые снаряды мы мало-помалу катили к уже созданной жопе, на которой уверенно восседал Чиж и аккуратно «склеивал» наши творения с основным фундаментом будущего снеговика.
Наконец, с нижней частью было покончено – она была похожа на удлинённую версию нашей планеты, представляя из себя довольно высокий и вытянутый овал, приплюснутый сверху и размером, вероятно, чуть меньше каких-нибудь «Жигулей».
– Так, – распорядился Чиж, – давайте-ка разбивайтесь подвое. Надо скатать два средних кома и закинуть ко мне, я их тут соединю как следует.
И вновь мы с воодушевлением принялись за труды. Мы с Никитой лепили и катили свой шар довольно солидных размеров, а Андрей с Димой свой. Как-то само собой получилось, что мы двигались навстречу друг другу и, не сговариваясь, ускорили темпы, чтобы в решительном столкновении соединить получившиеся комья.
Получилось! Большие снежные шары довольно легко и крепко сцепились друг с другом, а мы уже вчетвером с большим трудом пытались водрузить получившееся нечто к Чижу, который с безудержным смехом принимал наше творение.
Чуть подровняв и долепив туловище, он встал на него ногами, проверяя на прочность.
– Ну, вроде устойчиво! – сообщил он нам со своей высоты. – Кто хочет слепить голову?
– А какой она должна быть? – спросил я.
– А давайте она будет совсем крохотной, – предложил Андрей. – Чё зря тяжести-то тягать?
Никита, тем временем, уже слепил небольшой снежок и кинул Чижу. Тот его ловко поймал и, оценивающе взглянув, с пафосным торжеством водрузил на туловище. Снеговик был готов.
– Ну и тита-а-а-ан! – с восхищением воскликнул Дима.
– Ага!.. – вторили ему мы, оглядывая наше снежное творение.
– А чё теперь-то? – спросил Андрей.
– Ну-у-у…, – хотел было начать свою новую мысль Чиж, но в этот момент в его голову прилетел снежок, рассыпавшийся об шапку.
Все сразу же повернулись на Никиту, который с весёлой улыбкой уже готовил новый снежок.
– В укрытие! – крикнул Андрей, и в этот момент снежок прилетел ему в грудь.
Мы же с Димой успели отпрыгнуть за снеговика и, не сговариваясь, начали лепить снежки для ответного огня.
Никита же уверенным бегом перешёл в наступление, уворачиваясь от снежков очухавшегося Чижа, но тут же был вынужден как минимум упасть брюхом на снег, так как был встречен ответным обстрелом от нас с Димой.
Завязался спонтанный снежный бой, который мало-помалу, под общий хохот и вопли перерос в беспорядочную бойню, где каждый стал сам за себя.
Всюду летали снежки и клубы пара из ртов разгорячённых ребят.
Постепенно небо стало темнеть, чего мы по началу особо не замечали, однако, когда видимость значительно снизилась, бои перешли в более близкие столкновения – чтоб не промахнуться, приходилось бросать снежки практически в упор к предполагаемому противнику.
И вот, я подбегаю, как я вычислил, к Андрею, чтобы обрушить на его голову очередной снежок, как вдруг он оборачивается, резко хватает меня за ногу, пользуясь своими массивными габаритами и кидает куда-то в сторону.
Долго летел или нет – я уже точно не скажу, но хорошо помню, что резко врезался в какую-то, на удивление, мягкую стену, что обрушилась перед моими глазами мелким рыхлым снегом.
По началу было немного смешно и совсем не холодно – всё-таки, я был в зимнем комбинезоне и шапке. Потом потихоньку стало замерзать лицо, на которое налип снег, но я не мог ничего сделать, ибо руки и ноги увязли в бесформенной белой массе. Я лишь молча смотрел на темнеющее небо, сквозь пелену небольших снежинок и льда.
Сколько точно я так проторчал – не знаю, но ребята довольно быстро поняли, что среди них кое-кого не хватает и принялись вытаскивать меня из ловушки.
– Валя! – кричал Чиж. – Валька, ты живой?
– Живой…, – откашливаясь и тряся головой, отвечал я.
– Замёрз?
– Чуть-чуть…
– Ну ладно, ребята, темнеет уже. Ща предки вопить начнут по наши души, а нам ещё через всё село пилить. Погнали!
– А куда я попал? – спросил я потерянно.
– Валь, не поверишь, – говорил Андрей, смеясь, – я тебя случайно впечатал в задницу снеговика!
Все, в том числе и я, в голос засмеялись.
– Да-а-а-а-а, – говорил Дима, – теперь фраза «пошёл в жопу» заиграла совершенно по-новому!
– А там холодно? – спросил Никита.
– Где? – не понял я.
– Ну… в заднице…
И он кивнул на нашего гиганта-снеговика, у которого действительно зияла огромная дыра в самом большом – нижнем – шаре.
– Холодно и мокро, – ответил я.
– Зато, хоть, не воняет! – похлопал меня по плечу Чиж и жестом увлёк нас за собой – в обратную дорогу.
На удивление, я даже не заболел после пребывание в заднице снеговика, которую мы, к слову, на следующий день поспешили залепить и даже приладили нашему гиганту морковку к голове и две веточки к туловищу. Помнится, Дима ещё предлагал дополнить эту снежную скульптуру некоторыми женскими анатомическими подробностями, но его идею мы, почему-то, не воплотили…
Так вот, что же я вынес или приобрёл из этой истории?
Знаете, всякий раз с наступлением зимы, когда мне кажется, что на улице невыносимо холодно, я вспоминаю задницу снеговика, в которой я невольно оказался и с улыбкой понимаю, что, холоднее чем там, мне в городе, вероятно, никогда не будет….
Плацдарм
В нескольких метрах от меня разорвался снаряд. Его осколки чудом пролетели мимо, лишь припорошив рассыпающимся снегом мои сапоги. Это дало мне понять, что уж как-то больно самоуверенно я двигаюсь по траншее и надо бы пригнуться; всё-таки пуля, как говорится, дура, а снаряд – вообще сумасшедший – все вокруг перешибёт.
Согнувшись в три погибели я как можно было быстрее в таком положении помчался к штабу полка, находившемуся на берегу озера и представлявшему из себя небольшой укреплённый район, сплошь изрытый снежными траншеями и заваленный большими, непроглядными белыми комьями. В условиях ожесточённого артобстрела или налёта – так себе укрытие, но, по крайней мере, немцы не могли отчётливо видеть нас из своего штаба, что располагался на холме – буквально над нами.
Обе армейские группировки – и наша, и немецкая – несмотря на такую близость позиций, были изрядно измотаны затяжными позиционными боями, а потому, пока что, ни одна из сторон не спешила предпринимать активных действий. Лишь изредка слышались отдельные гаубичные или миномётные выстрелы, сотрясавшие промёрзлую землю и невольно заставлявшие припасть солдат к земле. Радовало одно – при такой дурацкой погоде немцам не приходилось ждать авиационной поддержки. Впрочем, нам тоже…
Итак, согнутый и запыхавшийся, я вбежал в полевой штаб нашего полка.
Командир и начальник штаба хмуро стояли над импровизированным столом, состоявшем из огромного снежного квадрата и доски, поверх которой лежала карта.
Заслышав хруст снега на входе, всё начальство и остальные присутствующие подняли на меня головы.
– Товарищ подполковник, – принялся рапортовать я, приложив руку к своей коричневой ушанке, – на правом фланге нашей обороны произведена разведка. Немцы предпринимают попытки занятия разбитых укреппозиций для ведения по нам миномётного огня.
Командир полка нахмурился и вновь склонился над картой, что-то чёркая в ней.
Я же, воспользовавшись передышкой между поручениями, позволил себе наконец присесть на корточки и отдышаться.
В штабе царила вполне обычная рабочая суета: офицеры из командования роптали над картой, начальник артиллерии вместе со своим единственным солдатом заготавливал снаряды для предстоящего боя, наблюдатели и часовые нервно всматривались в позиции немцев на холме, готовые в любой момент подать сигнал тревоги, по которому весь полк – вернее его остатки – перейдёт в бой.
– Считаю, – негромко заговорил начальник штаба, – что целесообразнее будет с боем отступить…, – он откашлялся, – …либо на тот берег озера для перегруппировки и наращивания сил, – он указал на ледяную гладь, присыпанную снегом, за которой виднелись лысые чёрные деревья и абсолютно ровное белое пространство, – либо нам надо захватить те самые позиции, о которых нам доложила разведка, – кивнул на меня, – тогда противник не сможет бить по нам прямой наводкой и обходных манёвров у него не останется, – его слова сопровождались отметкой на карте красным карандашом, который он носил за ухом.
Подполковник ещё больше нахмурился и сквозь зубы процедил:
– Отступать нам никак нельзя, капитан, понимаете?! Этот плацдарм нужен нам! Командование фронта поручило нам его удерживать до подхода главных сил, которые и освободят наше село!
– Если мы не отступим, – парировал штабист, – то от нашего полка никого не останется! И так понесли тяжёлые потери, сражаясь даже за этот укрепрайон! У нас от подразделения-то, чай, эмблемка-то и осталось только! Уже не полк, а одно название!
– Ещё одно слово, капитан, – вмешался в их разговор комиссар полка, – и я буду вынужден расстрелять вас на месте, как паникёра и предателя Родины!
– Но-но! – осадил его пыл подполковник, который хоть и славился у нас суровым нравом, но был чрезвычайно справедливым, всё-таки школа службы в штабе Жукова давала о себе знать. – Может у вас будут конкретные предложения?
– Быть может мы пошлём разведгруппу на наш правый фланг, и она обезвредит немецких миномётчиков, собирающихся ударить по нам? – предложил комиссар.
– Исключено! – гаркнул командир и в этот момент рядом со стеной штаба разорвался очередной снаряд, от грохота которого все тут же прыгнули животами на землю.
– Часовые, вашу душу мать! – выругался офицер. – Где объявление тревоги?! Под трибунал сдам к чёртовой матери!
Все поднялись, отряхивая снег друг с друга.
– Разведку посылать не будем, – продолжал командир, обращаясь к комиссару, – у меня от неё только Валька-то и остался, один впахивает за все уничтоженные группы.
При этих словах я невольно улыбнулся, ибо лесть от нашего комполка звучала очень нечасто в силу его скупости на комплименты и похвалу.
– В таком случае, нам остаётся только осуществить второе предложение начальника штаба и занять укреппозиции на правом фланге, – пожал плечами комиссар.