Верни меня домой. История Назгуль
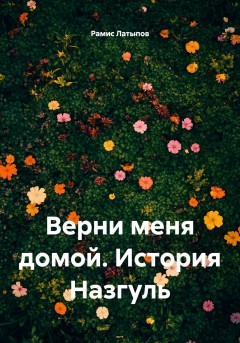
– Йааа сииин… Валь-Кур`ани ль-хаким. Иннакя лямин аль-мурсалин 'аля сыратим мустаким. Танзиля ль-'азизи Ррахим…
В этом доме всё будто съёжилось от горя: и маленький деревенский домик, и абыстай, и женщины из деревни, пришедшие обмыть тело и прочитать заупокойную молитву, и мать, будто вросшая в стул…
К напевному голосу абыстай, читающей аяты, вплетается прерывистое, срывающееся от дрожи и слёз дыхание матери. За целый день, проплакав без остановки, у неё иссякли не только слёзы, но и голос.
Рядом с ней сидит младшая сестра – крепко обняв, она бережно гладит мать по волосам. Женщины, сидящие возле абыстай, время от времени украдкой вытирают слёзы.
Только сама абыстай остаётся неподвижной – она читает ровно, как по заученному напеву:
– Инна Нахну нухйил-маута уа нактубу ма каддаму уа асарахум; уа кулла шай-ин ах-сайнаху фи Имамим-мубиин
Никто из этих женщин уже не молода – каждая повидала жизнь. Но эта смерть особенно несправедлива.
Назгуль… Все помнят, как она росла у всех на глазах – красивая, весёлая, трудолюбивая. Её называли первой девушкой деревни. Её любили все, и каждая мать мечтала о такой невестке для своего сына.
А теперь она – там, в передней комнате.
Не поверишь, что умерла – будто просто уснула. Вот-вот откроет глаза и заговорит…
Но нет. Назгуль умерла.
С утра пораньше плачут её мать, Наджия, и отец, Фарук. Хотя не только они – в этот день плакала вся деревня.
Фарук пытался быть сильным. Хотел держаться. Не вышло. Да как тут выдержать? Это ведь его единственная, горячо любимая дочь.
Он вышел во двор, потом зашёл в сарай, опустился на корточки – и зарыдал в голос.
Когда-то первый секретарь говорил ему:
– На председателя колхоза берём только железных. Ты из таких.
Ага, попробуй тут быть железным…
Теперь он и плакать не может – застыл у забора, спиной прижавшись к доскам, будто окаменел. Мысли не складываются…
Как так вышло? Почему он не смог уберечь дочь?
Чувство вины сжирало его изнутри, разрывая душу.
И вдруг взгляд зацепился за приоткрытую дверь бани.
Тёмная, зловещая…
Не она ли виновата в их несчастье? Да, она! Не будь этой бани – его дочь осталась бы жива.
Фарук медленно направился к бане…
Когда Назгуль поступила учиться в Казань, она всё равно не бросила своё любимое дело – деревенский клуб.
– Ты ведь и в Казани поёшь, зачем тебе ещё и в деревне выступать? – уговаривали её родители.
Но оторваться она не могла. Она с раннего детства выходила на сцену, ещё до школы. А после переезда в город старалась приезжать на выходные, если в клубе намечались концерты.
Назгуль заранее предупредила, что будет участвовать в «Осеннем балу». Но в ту самую неделю позвонила взволнованная:
в институте намечались мероприятия, и вечером уехать не получится.
– Ну ладно, не приезжай тогда на этой неделе, дочка, – сказала мать.
– Как это не приеду? Я же пообещала! – расстроилась Назгуль.
Потом, немного помолчав, неуверенно добавила: она собирается ехать ночным поездом.
– Папа не смог бы ночью встретить меня на станции? – спросила она.
– Уж очень рвётся домой… Лишь бы к добру, – вздохнула Наджия, рассказывая об этом мужу.
Фарук тоже насторожился:
– Наверное, опять к своему парню мчится. Совсем голову потеряла.
– Ладно уж… Не похож он на плохого, вроде.
– Я и не говорю, что плохой. Но не люблю, когда девчонка за парнем бегает. Ей бы поскромнее быть.
– Это да, папа… Но что поделаешь, такая уж она – огонь, не девочка…
Фарук дочку очень любил. Дома, при жене, мог поругать, но когда встречал с поезда – не говорил ни слова упрёка.
Айдару, другу дочери, он тоже не имел что сказать – парень казался толковым.
С отличием окончил школу, поступил один в чужом городе – как тут не уважать?
Он тоже, как и Назгуль, не забывал деревню.
Назгуль, как только приехала, сразу принялась за баню:
– Как же я пойду на «Осенний бал» не помывшись? – сказала она.
– Зачем, дочка? Помой голову в доме, баню ведь мы даже не готовили, – отозвалась Наджия.
– Я сама всё сделаю, мама, не волнуйся, – ответила Назгуль.
Такой уж она была. С утра сама натаскала воду, сама затопила. Это была не первая её баня, всё казалось привычным.
…Они думали, что она пойдёт мыться утром. Но оказалось – ушла в баню ещё до рассвета.
Только проснувшись, заметили, что дочери дома нет.
– Она же говорила, что пойдёт в баню! – вскрикнула Наджия и тут же побежала туда.
Дверь оказалась заперта. Не сумев открыть её, она выбежала на крыльцо и закричала.
Фарук прибежал, дёрнул дверь изо всех сил, сорвал засов и распахнул её.
Назгуль лежала ничком на полу.
Фарук поднял её на руки и выбежал на улицу, пытался делать искусственное дыхание… Но всё было напрасно.
Фельдшер из деревни тоже ничего не смог сделать.
– Она умерла, – сказал он.
– Сделай хоть что-нибудь! – закричал Фарук. – Что нужно? Говори! Я всё сделаю!
Молоденькая девушка-фельдшер, только недавно вернувшаяся в село после учёбы, стояла, растерянно молча, не зная, что сказать председателю колхоза. Наконец она, собравшись с духом, произнесла:
– Она умерла. Уже ничего нельзя изменить.
Теперь вот они провожают свою любимую девочку в последний путь…
По закону, человека, погибшего при таких обстоятельствах, должны были отправить в районный морг на вскрытие.
Никто, конечно, не хотел этого. Но так как Фарук был председателем колхоза, из района сообщили, что вопрос удалось уладить.
Разрешение на захоронение выдали по справке от фельдшера.
Абыстай подготовила тело к погребению… (возможно, в оригинале здесь был пропущенный фрагмент)
Проводить Назгуль в последний путь, казалось, пришла вся деревня.
Фарука – только что назначенного председателем – здесь уважали, Наджию – школьную учительницу – тем более.
А уж про Назгуль и говорить не приходилось – её любили все.
Наджия даже не смогла выйти из дома. Её отпаивали корвалолом, подносили нашатырь. Сестра и соседки крепко обнимали её, стараясь удержать, чтобы не упала.
Когда мужчины понесли гроб, Фарук пошёл вместе с ними.
Один из родственников спросил:
– Может, останешься?
Фарук только молча покачал головой.
А на кладбище отец вдруг стал спускаться сам – прямо в могилу…
– Фарук, может, останешься здесь, у края? – осторожно предложили ему.
– Как это – не проститься с собственной дочерью?! – прошептал он с надрывом.
Никто не решился возразить.
Фарук сам спустился в могилу. Руками аккуратно расчистил лахет – боковую нишу в земле. Ему и другому мужчине подали тело Назгуль. Они бережно уложили её.
Фарук не выдержал – приподнял саван и посмотрел на лицо дочери.
– Она будто спит… Доченька моя, девочка…
Все молчали. Даже тот, кто стоял рядом, не произнёс ни слова.
Они стояли долго. Очень долго.
Фарук не двигался. Стоял, будто окаменел.
Наконец мужчина тихо дотронулся до его плеча:
– Фарук… может, ты поднимешься?..
Он и сам не решился произнести: «из могилы».
Фарук распрямился. Лицо Назгуль по-прежнему оставалось открытым.
Второй мужчина начал укладывать доски.
– Фарук… надо закрыть ей лицо, – напомнил кто-то.
Фарук снова склонился и долго закрывал лицо дочери. Он не мог её отпустить.
Сознание отказывалось верить в происходящее. Он бессознательно тянул время – будто лишняя минута рядом могла что-то изменить.
Мужчины у края молчали, но начинали посматривать на часы: так долго ещё никого не хоронили.
Конечно, девушку жаль. Но жизнь шла дальше, всем предстояли свои дела.
Один из мужчин негромко кивнул тем, кто был внизу.
– Фарук, давай… пора класть доски, – сказал кто-то.
– А может… оставить всё как есть? – тихо ответил он.
– В смысле – не засыпать?
– Да. Сегодня – не надо.
– Но ведь… так нельзя…
– А хоронить мою дочь – можно?! Она не твоя, а моя! Вот ты и спешишь – побыстрее зарыть её в землю! – выкрикнул Фарук.
Он опустился на колени у изголовья и остался сидеть рядом с телом дочери, как будто сам больше не хотел подниматься.
Мужчина ничего не смог ответить – замер, будто лишился дара речи. Затем, не зная, что делать, бросил взгляд на пожилого человека у края могилы – брата отца Фарука. Молча кивнул: «Помоги».
Старик подошёл, осторожно опустился на колени у кромки, наклонился к Фаруку и тихо заговорил:
– Братец… Не надо так. Всем сейчас тяжело. Назгуль нам ведь как родная была.
Что поделаешь… Надо принять.
Такой у неё был путь. Ни у Хабира, ни у кого из нас нет в этом вины.
Оставить тело на поверхности – грех.
Похоронить – не значит предать.
Фарук медленно поднял голову. Глаза у него были красные, воспалённые от слёз и бессонницы.
– Хайдар-абый… ты человек старший…
А если… вот так оставить? Хоть на одну ночь?
У меня рука не поднимается. Сердце не велит.
Пусть полежит до завтра, прошу. Я никого не потревожу. Приду сам. Один. Всё сделаю, честно.