Корея. Власть, идеология, культура
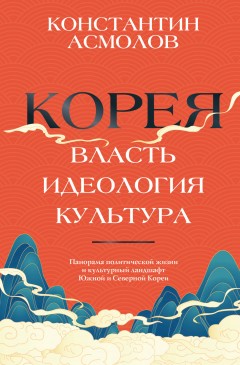
© Асмолов К.В., текст, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Фотоматериалы предоставлены Shutterstock / FOTODOM
Вступление
В договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой в 2024 г., есть важная для автора статья 20: «Стороны содействуют широкому сотрудничеству в медиасфере в целях повышения уровня знаний о жизни народов двух стран, продвижения в глобальном медиапространстве объективной информации о Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики и двустороннем сотрудничестве, дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимодействия между национальными средствами массовой информации, укрепления координации в деле противодействия дезинформации и агрессивным информационным кампаниям».
Действительно, в нынешней реальности чрезвычайно велика потребность в книгах для массового читателя, доносящих неискаженный образ государств Корейского полуострова, а современная политическая конъюнктура, скорее, подстегивает этот процесс, так как 2023–2024 гг. начали определенное переосмысление мифов, которые существуют в массовом сознании российского обывателя и касаются и Северной, и Южной Кореи.
Север перестает быть в сознании людей страной, являющейся символом разрухи, анахронизма, тоталитаризма и ракетных претензий. О том, что это не так, автор рассказывал в одной из своих книг, непосредственно посвященных путешествию на Север в 2016 и 2017 гг. Но за семь прошедших лет Северная Корея сделала рывок, который не заметить чрезвычайно сложно, а сближение с Россией только подогрело интерес к этой культуре, и становится понятно, что перед нами страна, которая как минимум обладает небывалым потенциалом устойчивости.
В 2023 г. КНДР исполнилось 75 лет, и это означает, что она – самое «долгоживущее» государство, декларировавшее социалистический путь развития. Северная Корея обогнала по «продолжительности жизни» Советский Союз, при том что за время существования она преодолела несколько крайне тяжелых испытаний, каждое из которых могло закончиться концом ее государственности.
Во-первых, речь идет о Корейской войне, которая остается самой разрушительной войной второй половины ХХ в., хотя она унесла несколько меньше жизней, чем Вторая африканская. Масштаб разрушений инфраструктуры, вероятное применение химического и бактериологического и угроза применения ядерного оружия и как следствие – масштаб разрушений, которым подвергся весь полуостров, несравним с чем бы то ни было еще. Тем не менее Корейская война закончилась вничью.
Во-вторых, в середине 1990-х последовал «трудный поход» – комплексная катастрофа, вызвавшая серьезный голод, от последствий которого, включая болезни, погибло от 200 до 600 тысяч человек. На этом этапе 90 % специалистов по Корее было уверено, что страна не выдержит такой волны проблем и прекратит свое существование. Но и здесь Ким Чен Ир сумел вытянуть страну из тяжелого кризиса и, как шутят некоторые, принял ее с сохой и оставил с сохой и атомной бомбой.
Во время правления Ким Чен Ына Северная Корея пережила уникальный период самоизоляции, когда к жестким санкциям Совета Безопасности ООН, которые сами по себе напоминали «без пяти минут эмбарго», добавились еще более жесткие «специальные противоэпидемические меры», в рамках которых на время пандемии коронавируса страна закрыла границы. И хотя вспышка заболевания в стране все-таки произошла, она была успешно подавлена в течение нескольких месяцев. При этом даже антисеверокорейская пропаганда не сообщала о крахе экономической или здравоохранительной системы, не говоря уже о народном недовольстве. Более того, в условиях жесточайшей блокады государство благополучно выжило и сделало существенный рывок и в развитии государства, и во внешней политике, и в совершенствовании ракетно-ядерного потенциала страны. Однако, как показывают опросы, существенная часть населения России воспринимает КНДР как карикатурную страну, в которой царит голод, разруха и Мордор при том, что все громкие истории, которые муссирует желтая пресса, в итоге оказываются фальшивками.
В 2013 г. СМИ описывали душераздирающую историю о том, как Ким Чен Ын казнил свою «любовницу» Хён Сон Воль, а вместе с ней – весь состав популярного ансамбля, который, по одной версии, тайно изучал Библию, а по другой – снимался в порно. Среди перебежчиц находились свидетели, которые «видели это своими глазами», смерть была подтверждена южнокорейской разведкой, но месяцев через восемь оказалось, что Хён сделала партийную карьеру и теперь работает в ЦК ТПК. Еще больший конфуз вышел с перебежчиком по имени Син Дон Хёк, который выпустил свою книгу «Побег из лагеря 14» в соавторстве с американским журналистом Блейном Харденом. Ее перевели на множество языков, в том числе – на русский, а показания Сина легли в основу нашумевшего доклада о правах человека в КНДР, в котором Север сравнивали с гитлеровской Германией. Вот только в конце 2014 г. Син оказался сбежавшим в Китай педофилом, а в 2015 г. сам Харден признал его ненадежным рассказчиком, который выдумал большую часть своей биографии, после чего Син ретировался из политики и даже социальных сетей.
В те же годы Южная Корея пребывала в увлекательной политической дораме, ибо внутриполитическая борьба в стране по количеству неожиданных поворотов, драматических сюжетных ходов и мало предсказуемых событий местами напоминала разворачивающийся в реальном времени более крутой сериал, чем «Карточный домик» или «Игра престолов» Джорджа Мартина.
Конечно, ситуация конца 2024 – начала 2025-го г., когда после неудачной попытки президента Юн Сок Ёля ввести военное положение последовал импичмент президента, выделяется даже на общем фоне. Однако уже можно говорить о том, что образ Южной Кореи как страны, в которой, в отличие от Севера, существует предсказуемый режим и стабильная демократия, начал покрываться определенными трещинами.
Да, современная Южная Корея производит впечатление менее проблемной страны, и, невзирая на обилие натуралистического гангстерского кино, Сеул практически полностью лишен уличной преступности. Темные страницы прошлого аккуратно прячутся под ковром, споры вокруг наследия военного диктатора и автора корейского экономического чуда Пак Чон Хи напоминают российские споры о Сталине и о его месте в истории. Но когда автор слышит рассуждения о том, что «скоро Россия догонит Северную Корею», то улыбается и отвечает, что для начала ей придется догнать и перегнать Южную.
Закон о национальной безопасности РК, объявляющий Северную Корею не страной, а антигосударственной организацией, карает за просеверокорейские взгляды и распространение северокорейского контента примерно так же, как в КНДР карают за контент с Юга. Телесные наказания в старшей школе отменили только в 2010 г., и супружескую измену как уголовное преступление – только в 2015 г., а возраст согласия подняли с 13 лет только в 2020 г. Малоизвестно и то, что любая попытка вести в южнокорейском интернете какую-то серьезную активность даже на уровне «зарегистрироваться на политическом форуме» требует паспортные данные, – формально для борьбы с троллингом и буллингом.
Южная Корея относится к самым верным региональным союзникам США. Связано это во многом с ценностной ориентацией: южнокорейская элита традиционно исповедует христианство (правые больше протестанты, левые – католики) и учится на Западе, а президент Но Му Хён, славный своим показным антиамериканизмом, рассматривал возможность объявления английского языка вторым государственным. Не забудем и про 28,5 тыс. американских военнослужащих на самой большой военной базе за пределами континентальной части США, и то, что в случае военного конфликта армией РК командует не южнокорейский президент, а американский генерал. Впрочем, сделано это было после Корейской войны 1950–53 гг., чтобы одиозный президент Ли Сын Ман не устроил еще один конфликт «не в то время, не в том месте и не с тем противником».
То, как сложившийся образ отличается от реальности, видно даже по культурным стереотипам. Все слышали про «корейскую морковку» и знают, что корейцы едят собак. На деле корейская морковка – это традиционная еда не «корейских корейцев», а российской диаспоры, которая после насильственного переселения в Казахстан и в Узбекистан в 1937 г. была вынуждена готовить по традиционным рецептам не то, что привыкли, а то, что было под рукой. Что же до собак, то это достаточно редкая элитная еда для пожилых, больных или беременных, и потребление собачьего мяса в РК в последние годы стало предметом активных общественных дискуссий, после чего с 2023 г. его запретили, и в течение трех лет все рестораны должны быть закрыты, а фермы перепрофилированы.
Пропагандистский образ, что Севера, что Юга, вне зависимости от того, смотрим мы на него через красные или черные очки, благополучно затеняет чрезвычайно интересную реальность. И в этой реальности для российской аудитории довольно много любопытных уроков или исторических параллелей.
Именно поэтому назрела необходимость написать книгу, рассчитанную не только на студентов или профессиональных ученых, но и на массового читателя, знания которого о Стране утренней свежести ограничиваются некими представлениями о корейской волне, о Корейской войне, о бренде «Самсунг» как знаке развития экономики Южной Кореи, о ракетно-ядерной программе Северной или душераздирающими сообщениями желтой прессы о том, что в Пхеньяне пятый раз за год казнили всех детей-инвалидов.
В этой книге мы попробуем поговорить о корнях того, что происходит, о политической культуре двух стран, которые, несмотря на различающийся фасад, остаются довольно близки друг к другу. И именно поэтому в названии не фигурирует фраза «две Кореи». Есть два корейских государства, однако корейская нация еще не полностью раскололась надвое.
В определенной мере эта книга является выжимкой из монографии автора, которая была впервые издана в 2009 г., а затем переиздана в 2017-м. И если кому-то будут интересны детали и подробности, автор предлагает читателям обратиться к иным работам, рассчитывая на то, то данная книга будет только первой ступенькой на долгом и увлекательном пути познания истории и политики Страны утренней свежести.
Представленная книга состоит из двух частей. Вопросы «власти, идеологии и культуры» скомпонованы так, что первый том, который вы держите в руках, говорит о своего рода политических и идеологических основах, а второй том будет посвящен конкретным проявлениям этих основ и методикам контроля, будь то система репрессий, историческая политика, образование, агитация и пропаганда или иные социокультурные аспекты (равно как и проблемы современного общества КНДР и РК). Вас ждет очерк истории Корейского полуострова, рассказ о государственной системе и партийно-политической структуре двух стран, а также об основных идеологических постулатах Севера и Юга.
Особое внимание истории стран в XXI в. уделено отчасти и потому, что автор мог наблюдать ее своими глазами, уже как сформировавшийся исследователь, не раз посещавший как Север, так и Юг. Поступив в Институт стран Азии и Африки МГУ в 1985 г. и изучив корейский язык, автор оказался в числе трех первых, еще советских, студентов, которые отправились на языковую стажировку в южнокорейский университет Ёнсе. Мы прожили там 10 месяцев, имея возможность наблюдать Южную Корею еще до того, как она стала официально признанной «демократической страной». Это важно, так как если у предшествующего поколения знакомство с Кореей начиналась с Севера, то мы «почувствовали на вкус» именно Юг. После чего пришло понимание, что, несмотря на фасад, между Севером и Югом общего столько же, сколько и различного.
Затем автор довольно долго был в Южной Корее в нулевые, а потом систематически посещал оба государства Корейского полуострова, имея возможность наблюдать своими глазами процесс изменений. Последний момент очень важен, потому что история двух корейских государств часто подается под пропагандистским углом. Дескать, вот, была единая страна, но случилось так, что на одной половине власть взяли «безбожные коммунисты», а на другой – сторонники либеральной демократии. Прошло 70 лет, и вот результат.
А между тем на каком-то этапе даже по уровню приверженности культу личности и количеству репрессированных Южная Корея опережала Северную. И ситуация, когда она догнала и перегнала КНДР по основным параметрам экономического развития, случилась только в середине 1970-х гг. Поэтому автор будет избегать простых объяснений и постарается рассказать вам не только о том, что случилось, но и о том, как и почему это произошло.
Понятно, что некоторые оценки могут быть объективно оценены только тогда, когда от описываемого им периода историка отделяет достаточно большой временной интервал. К тому же, часть выводов наверняка делается на основе неполной информации, поскольку в корейской истории факты довольно часто всплывают через много лет. Поэтому автор осознает свою неизбежную пристрастность и заранее просит у аудитории прощения за нее.
Немного о транскрипции. Среди специалистов по Корее существуют некоторые разногласия о том, как писать корейские имена. Но здесь автор будет пользоваться вариантом, утвержденным как в российском МИД, так и в Институте Китая и современной Азии, где он работает более 25 лет – в три слога, а некоторые имена и географические названия даются в написании, характерном для ранней академической литературы (Пхеньян, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и т. д.).
В заключение мне хотелось бы поблагодарить тех, чьими стараниями эта книга вышла в свет. С одной стороны, это мои коллеги по Центру корейских исследований Института Китая и современной Азии. Работа в этом коллективе способствовала превращению меня из начинающего историка в компетентного специалиста. И пользуясь случаем, хотелось бы обратить внимание и на еще одну книгу совместного авторства Константина Асмолова и Людмилы Захаровой, посвященную десятилетию Северной Кореи при Ким Чен Ыне. Тех, кому интересен именно этот период, автор отсылает к ней, потому что там довольно много не только политики, но и экономики.
Кроме того, я хочу выразить благодарность своим студентам: как тем, кому официально читаю лекции ex cathedra, так и аудитории иных вузов, которые принимают участие в организованных мной образовательных проектах или были слушателями многочисленных публичных лекций. Их внимание и их вопросы во многом позволяют понять, какие темы интересуют современного молодого читателя, и поэтому определенные акценты сделаны в соответствии с их просьбами.
Также я хотел бы поблагодарить некоторых людей, осуществлявших техническую помощь в диктовке и редактуре текстов: Александра Мостова, Ангелину Глухову, Веронику Богданову, Бахадура Думанова и других. С их помощью многие вещи делались гораздо быстрее.
Глава 1
Краткий курс истории Кореи
Ужать всю историю полуострова до размеров одной книги – задача архисложная, но перед тем, как говорить о современности, надо показать, «как и почему мы дошли до жизни такой».
Историография как Севера, так и Юга разделяет тезис о «пятитысячелетней истории Кореи», но если подойти к этому вопросу с археологической точки зрения, то самые ранние следы человека на Корейском полуострове корейские ученые относят к позднему палеолиту, а первое корейское государство, так называемый Древний Чосон, существовало на севере полуострова в I в. до н. э. и было покорено ханьским Китаем. Время возникновения этого государства и его географическое положение до сих пор остаются предметом научных дискуссий.
Кроме того, сведения о первых государственных образованиях на территории Корейского полуострова относятся к I в. до н. э. Хотя вопрос о том, с какого времени три государства (Когурё на севере[1], Пэкче на юго-востоке и Силла на юго-западе) можно действительно считать государствами, а не союзами племен/общин или тем, что на Западе называется «вождеством», тоже иногда трактуется как дискуссионный. С точки зрения ряда западных историков, о государстве в общепринятом смысле слова можно говорить только с III–IV вв., поскольку знаем о существовании в это время в Корее таких элементов государственной системы, как сбор налогов, постоянная армия, появление бюрократического аппарата.
Три государства долго воевали за объединение, но победа досталась Силла (668) при помощи танского Китая, после чего территории за пределами нынешней границы КНДР и КНР были навсегда утрачены, а на современные рубежи корейское государство вышло много позже, к XV в.
С ослаблением государственной системы Силла на территории полуострова наступил кратковременный период раздробленности на отдельные государственные объединения, закончившийся после того, как Ван Гон, основавший в 918 г. государство Корё, вынудил последнего вана[2] Силла в 935 г. отречься от престола в его пользу.
С этого времени Корея становится известна на Западе, так как последний период истории Корё связан с обретением вассального статуса по отношению к монгольской империи Юань (1264–1368). Не сумевшие добиться своей цели исключительно силовыми методами, монголы сохранили в стране правящую династию и принцип косвенного управления, который они применяли только в двух государствах – в Корее и в России. Монгольское правление, с одной стороны, расширило связи Кореи с окружающим миром, но оно же стимулировало определенный рост националистических тенденций в истории и культуре. Например, именно тогда появляется миф от первопредке Тангуне, основавшем Древний Чосон в 2333 г. до. н. э.
Государство Корё было разрушено после того, как на смену монгольской династии Юань в Китае пришла династия Мин (1368–1644). Внутри страны шла борьба между промонгольской и прокитайской партиями, против вторжений чжурчжэней с севера и японских пиратов с юга. На этом фоне династия становилась все больше зависимой от региональных военачальников, один из которых, Ли Сон Ге, пользовавшийся широкой популярностью из-за побед над японскими пиратами, сначала ликвидировал всех своих соперников и стал фактическим правителем страны, а потом сверг последнего корёского вана и в 1392 г. стал основателем новой династии Ли. Государство было снова названо Чосон, а столица перенесена в Хансон/Ханъян, получивший в конце XIX в. в народе название Сеул, т. е. «столица», хотя официально это название за городом закрепилось только в 1946 г.
518 лет правления династии Ли (1392–1910) проходили относительно спокойно – самым тяжелым испытанием для страны стала Имчжинская война (1592–1598), когда объединивший Японию Тоётоми Хидэёси двинул свои армии на завоевание всего остального известного ему мира. Корее удалось отстоять свою независимость благодаря действиям корейского флота, партизанскому движению и помощи Китая. Война не стала толчком для серьезных преобразований, и с начала XVIII в. страна погрузилась в период застоя.
К последней четверти XIX в. Корея подошла в роли «королевства-отшельника», будучи наиболее закрытой страной региона. Япония к этому времени уже прошла через Реставрацию Мэйдзи и активно запустила процесс модернизации и превращения страны в державу европейского класса. Китай предпринимал к этому определенные усилия, несмотря на внутренние проблемы. Корея же продолжала находиться во внешнеполитической изоляции, а конфуцианские ученые, придерживавшиеся концепции «малого Китая», даже полагали, что их родная страна является бóльшим образцом «правильной старины», чем Китай, где теперь правят маньчжуры.
Династия Ли обеспечила Корее длительный период политической стабильности. Со времени разрушительной Имчжинской войны 1592–1598 гг., когда Корея «отбилась» от японской агрессии, Страна утренней свежести практически не вела войн и не испытывала серьезных социальных потрясений. А когда нет внешних вызовов и внутри спокойно, кажется, что нет и стимулов для того, чтобы что-то менять. В конце XIX в. Корея не имела ни больших городов, живущих в основном торговлей, ни класса/прослойки коммерсантов.
Возможно, именно длительный период отсутствия внешних угроз сформировал в Корее довольно специфическую традицию фракционной борьбы, которая стала одним из наиболее серьезных пороков традиционной системы, элементы которого процветают и в рассматриваемое нами время.
Открытие страны дало толчок новому витку этой грызни, при этом выбор направления в политике очень часто зависел от того, какой политической позиции придерживаются оппоненты. Но главным следствием стал трагический раскол между «патриотами» и «модернизаторами». Первые почти не представляли себе самостоятельное развитие страны без обращения лицом к корням, стремясь сделать внешние заимствования минимальными. Вторые были настолько уверены в неспособности соотечественников самостоятельно провести модернизацию, что дискутировали в основном о том, под чьим патронажем и по чьему образцу она должна проходить.
ХХ в. Корея встретила с довольно неприглядным имиджем бедной, нецивилизованной и насквозь коррумпированной страны. Как писал российский дипломат А. Н. Шпейер: «То безобразное состояние, в котором находится в настоящее время Корея, высшие классы коей, не исключая короля, возводят взятки на степень необходимого, если не единственного фактора внутренней политики, тот поголовный обман и та беспросветная ложь, которые царят ныне во всех слоях корейского общества, приводят меня к тому грустному убеждению, что никакие старания наши не смогут поставить нашу несчастную соседку на ту нравственную высоту, ниже которой самостоятельное существование государства немыслимо и не может быть допущено его соседями».
17 ноября 1905 г. после победы в Русско-японской войне японцы установили в Корее свой протекторат, что подразумевает сохранение правящей династии и внутренней структуры государства при уничтожении структуры внешней, то есть расформировании армии, отсутствии самостоятельно проводимой внешней политики и т. д.
Борьба против протектората осуществлялась по нескольким направлениям. Первым была вооруженная борьба в форме отрядов «Армии справедливости» («Ыйбён»). Вторым – просветительское движение, направленное на создание частных школ, издание книг, пропаганду корейского национализма. Третьим – действия по дипломатической линии: Корея рассчитывала на помощь США, однако американские власти оказались глухи к ее просьбам.
В 1907 г. после неудачной попытки отправить делегацию «ходоков-жалобщиков» на международную конференцию в Гааге японцы вынудили вана Кочжона отречься от престола в пользу его слабовольного сына Сунчжона, а 22 августа 1910 г. корейский император «отрекся от престола в пользу японского», и Корея была официально включена в состав Японской империи.
Заметим, что к немедленной аннексии страны стремились не все японцы. Генеральный резидент Ито Хиробуми был за постепенное присоединение, считая, что форсированные темпы повлекут за собой большие протесты, и боролся с «ястребами». Однако в 1909 г. Ито Хиробуми был застрелен «генералом армии Ыйбён» Ан Чжун Гыном, после чего судьба страны была решена.
Мир остался к этому равнодушным, так как международное право того времени было построено на несколько иных принципах. Господствовавшая тогда концепция легитимизма говорила, что если государство настолько слабо, что не может навести порядок на своей территории, то нет ничего плохого, когда иностранные государства начинают внедряться в него и наводить свои порядки, окончательно разрушая государственный суверенитет этой страны[3]. Поэтому, когда Страна восходящего солнца установила в Корее протекторат, это не было воспринято как вопиющее нарушение международного права, даже несмотря на то что с точки зрения южнокорейских историков при этом были попраны традиционные юридические нормы.
На протяжении 35 лет Корея оставалась японской колонией. Управление страной осуществлялось генерал-губернатором, верхний слой чиновничества формировался также из японцев. Хорошо обученные полицейские силы, дополняемые крупными военными гарнизонами, следили за порядком, создав жесткую военно-полицейскую систему насилия и угнетения.
Невзирая на отмену наиболее явных пережитков феодализма, японцы закономерно поддерживали те элементы традиционной структуры («пятидворки», круговая порука, письма узников с клятвами верности императору, без которых их просто не выпускали на свободу даже по истечении определенного законом срока заключения и т. п.), которые были направлены на сохранение иерархической структуры и облегчение контроля за народом. Европеизация затронула только небольшую прослойку либеральной интеллигенции, которая после аннексии или оказалась среди коллаборационистов, или была вытеснена за пределы страны.
Японское колониальное наследие до сих пор является предметом интересных споров. Во-первых, это вопрос, до какой степени экономическая политика Японии привела к индустриализации страны, значительная часть объектов промышленности и инфраструктуры которой была создана именно в колониальный период. Во-вторых, это вопрос о том, насколько авторитарная составляющая современной корейской политической культуры базируется не на традиционном субстрате, который колонизаторы только пестовали, а на японских инновациях.
Связано это с особенностями японской политики по отношению к корейской нации. Начиная с 1931 г. (и особенно после начала Второй мировой) корейцев стали пытаться превращать в «японцев второго сорта», причем акцент был сделан не на «второй сорт», а на «японцев». Форсированная ассимиляция под лозунгом «Япония и Корея в одном теле» справедливо воспринимается многими как «этноцид», целью которого было полное уничтожение корейской национальной идентичности и растворение корейского этноса в японском: корейцев принуждали говорить на японском языке и менять фамилии и имена, школьников приобщали к синтоизму[4].
Подобная практика дала, однако, свои плоды. За 30 лет японского господства произошла смена поколений, и те, кому в 1945 г. уже исполнилось 30–40 лет, фактически выросли уже при Новом Порядке. Важно, что речь идет не столько о прослойке коллаборационистов, сколько о целом поколении корейцев, учившихся в японских школах по японским правилам.
Ответом корейского народа на политику Японии было Первомартовское движение 1919 г., набравшее мощь под влиянием Октябрьской революции в России и итогов Первой мировой, породивших идею права наций на самоопределение. 1 марта 1919 г. в Сеуле лидеры движения провозгласили Декларацию независимости Кореи, но массовые демонстрации были жестоко подавлены.
Тысячи демонстрантов были арестованы, сотни убиты, но напуганные событиями власти провозгласили широковещательную программу реформ, начало так называемой эры культурного управления, введение «системы самоуправления» и пр. Однако реформы сводились к созданию ограниченных совещательных органов при японских административных органах власти, состоявших из прояпонских элементов. Единственной областью, в которой колониальные власти пошли на некоторые уступки национальной буржуазии, была сфера предпринимательской деятельности. За 1919–1928 гг. корейский акционерный капитал удвоился (с 23 млн до 48 млн йен).
Естественно, что это сформировало довольно специфическую прослойку корейской буржуазии, – чтобы быть богатыми и успешными, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами и закономерно воспринимались всеми остальными как так называемые чхинильпха (букв. «прояпонская фракция»), – коллаборационисты и негодяи.
Что же до оппозиции колонизаторам, то после 1919 г. она стала действовать главным образом из-за рубежа, четко разделившись на коммунистов и националистов. Последние создали в Шанхае Временное правительство Республики Корея, каковое обозначили теми же словами «Тэхан Мингук», которыми сейчас называют Республику Корея (японцы продолжали использовать для обозначения корейского генерал-губернаторства название «Чосон»). Первый лидер – Ли Сын Ман. В 1905 г. он был послан в Америку с тайной миссией склонить Вашингтон на сторону Кореи, но не преуспел и остался в США, получил высшее образование и стал первым корейцем с американским дипломом доктора политологии, обучаясь международной политике у экс-президента США Вудро Вильсона. Впрочем, его лишили власти после того, как он попытался обратиться к американским властям с предложением превратить Корею в свою подмандатную территорию. В годы Второй мировой войны Временное правительство Кореи переместилось в Чунцин, где сохраняло единство при премьере Ким Гу, который был националистом, отчасти находившимся под влиянием идей Сунь Ятсена и пользовавшимся поддержкой гоминьдановского Китая. Увы, никто из других великих держав Временное правительство не поддерживал. В Советском Союзе их считали буржуазными националистами, а для Соединенных Штатов Ким Гу был слишком независим и слишком традиционен.
Ли Сын Ман же все это время продолжал жить в Америке и позиционировать себя как лидера корейского националистического движения. И хотя к моменту окончания Второй мировой войны Ли уже был весьма пожилым человеком, в Госдепартаменте и среди военных у него было много влиятельных друзей.
Коммунистическое движение также было расколото и дезорганизовано. Сначала это был раскол между так называемыми Шанхайской и Иркутской фракциями [левые националисты, исповедовавшие коммунистическую идеологию против членов ВКП(б) корейской национальности, желавших распространить свое влияние на всех корейских коммунистов]. Потом – борьба функционеров, подвизавшихся в аппарате Коминтерна и занятых тем, что на современном жаргоне называется «освоением грантов». А затем свара внутри собственной компартии, закончившаяся тем, что в 1928 г. Компартию Кореи (единственную в своем роде) даже не выгнали из Коминтерна, а официально ликвидировали. Точнее, Коминтерн указал, что ни одна из фракций, претендующих на то, чтобы представлять корейских коммунистов, которые больше борются друг с другом, чем с японцами и даже не гнушаются выдавать им «идейных противников», не может и не имеет морального права называться партией в марксистко-ленинском смысле этого слова. Закончилось все плохо – к 1937 г. все так старательно рыли друг другу яму, что на фоне поисков врагов народа у них получился общий расстрельный ров.
Реальный опыт борьбы с японскими оккупантами был в основном у корейских коммунистов, локализовавшихся в Северном Китае и Маньчжурии. Вместе со своими китайскими товарищами они организовывали в этом регионе, где проживало более 1 млн корейцев, партизанские отряды, более-менее успешно противостоявшие японцам. Одним из молодых командиров таких отрядов был человек по имени Ким Сон Чжу, взявший в середине 30-х гг. псевдоним Ким Ир Сен.
Конечно, в последующее время вокруг партизанского прошлого Кима было сломано немало копий, так как южнокорейская пропаганда активно пыталась дискредитировать его заслуги. Однако Ким действительно попортил крови японцам больше, чем иные командиры, а в 1937 г. даже совершил рейд на территорию собственно Кореи, заработав репутацию национального героя.
Впрочем, к началу 40-х гг. Маньчжурия тоже была очищена от партизан. Оставшиеся в живых перешли границу СССР и были интернированы. Затем из них была сформирована так называемая 88-я бригада, в которой Ким Ир Сен был командиром батальона.
Вопрос о положении Кореи после окончания Второй мировой войны впервые был поднят в 1943 г., когда рассматривалось, какая судьба ждет территории, бывшие до войны колониями. В итоге приняли формулировку – «Корея станет свободной и независимой в должное время».
9 августа 1945 г. Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке, и уже 15 августа японский оккупационный корпус в Корее прекратил сопротивление. Так сложилась крайне интересная ситуация, когда большая часть корейской территории, в том числе вся южная часть Кореи, освободилась «самостоятельно», однако ни одно из вооруженных формирований какого бы то ни было из корейских правительств или партизан не принимало в этом участия. Поэтому когда корейские историки пишут, что они освободились от японцев сами, то под этим «сами» надо понимать не столько «благодаря собственным действиям», сколько «без чьей-либо помощи».
Американцы не ожидали, что все закончится настолько быстро, и им нужно было срочно придумать компромиссный вариант раздела региона. У Чарльза Боунстила и Дина Раска (двух подполковников армии США, на плечи которых свалилось решение этой задачи) было полчаса времени на размышление и карта Кореи в качестве единственного источника информации об этой стране. Решение было по-американски простым: Китай оказывался в советской сфере влияния, Япония – в американской (предложение советской стороны о высадке на Хоккайдо было отвергнуто), а территорию Кореи полагалось поделить по 38-й параллели на две оккупационные зоны, что выглядит как разделение территории пополам. Однако в действительности на американской половине остаются столица, две трети населения, бóльшая часть аграрных и значительная часть индустриальных ресурсов. Сыграло свою роль и то, что японские войска на севере страны подчинялись командованию Квантунской армии (зона влияния СССР), а на юге – командованию в метрополии (зона влияния США).
Если северная часть полуострова была занята советскими войсками сразу, то на Юг американцы пришли только в сентябре 1945 г. Однако с формальной точки зрения великие державы пришли не на пустое место. Во-первых, в Китае продолжало существовать Временное правительство в изгнании. Во-вторых, чтобы обеспечить эвакуацию японского населения и избежать погромов, бывшие японские власти полуострова создали «переходное» правительство, которое, воспользовавшись ситуацией, возглавил один из лидеров корейских левых националистов Ё Ун Хён. Созданная им Корейская Народная Республика (КНР) успела провести целый ряд демократических мероприятий, а страна покрылась сетью подчиняющихся ее правительству Народных комитетов. Однако командование американских войск имело четкие инструкции не признавать никакие самопровозглашенные корейские правительства. В конце 1945 г. центральный аппарат КНР разогнали, а с Народными комитетами на местах боролись до 1950 г., при том что в Северной Корее Народные комитеты были признаны советской властью и в течение августа-декабря 1945 г. инкорпорированы в созданные структуры власти.
27 декабря 1945 г. состоялось Московское совещание министров иностранных дел США, Великобритании и Советского Союза, призванное окончательно определить статус страны. Во время него американцы предлагали решить вопрос по японскому образцу, но СССР и Англия подтвердили верность идее Рузвельта о международной опеке, после которой будут проведены выборы.
Изначально никто не собирался делить страну на постоянные зоны оккупации, но каждая из сторон втайне рассчитывала, что сумеет повлиять на ситуацию внутри страны так, что корейский народ выберет «нужный» путь развития. Американцы полагались на поддержку воспитанной на европейских ценностях либеральной интеллигенции, Советский Союз собирался действовать на волне естественного после освобождения страны уклона влево и настроения масс.
Однако политика СССР и США в Корее делится на два этапа. Пока стороны видели страну единой, они делали ставку на центристов и умеренных националистов. Москва «работала» с Чо Ман Сиком, одним из лидеров левых националистов, которого называли «корейским Ганди». Вашингтон не имел единого кандидата на роль лидера страны: Госдепартамент склонялся к кандидатуре Ким Гю Сика (одного из умеренно правых политиков), военные, особенно генерал Макартур, поддерживали Ли Сын Мана (которому было уже 70 лет). К моменту возвращения в страну он говорил на безукоризненном английском и ломаном корейском, мало знал о внутреннем положении Кореи, но абсолютно серьезно считал себя «новым Моисеем корейского народа».
Но примерно с начала 1946 г. неприятие корейцами опеки становится очевидным (независимости хотели сейчас), а тенденция совместных конструктивных действий двух сверхдержав быстро сходит на нет на фоне холодной войны. В новых условиях и СССР, и США должны были поддержать наиболее лояльного кандидата на пост главы государства, который гарантированно обеспечит «правильную» политическую линию.
«Любимцем» США закономерно стал Ли Сын Ман. По сравнению с остальными претендентами на власть он отличался гораздо большим эгоизмом и личной активностью. Беспринципный политик не испытывал проблем при подготовке и проведении в жизнь каких-либо решений, а его талант манипулятора широко отмечается всеми историками. Он имел многолетний стаж антияпонской борьбы, и сравниться с ним в этом смысле мог только Ким Гу, но, когда тот появился в Корее, место номер один было уже занято. К тому же он еще раньше своих американских хозяев начал озвучивать идею создания на территории Кореи сепаратного государства с собой во главе. Именно из-за этого, когда обстановка изменилась, а Москва и Вашингтон начали поддерживать наиболее лояльных им политических лидеров, Ли Сын Ман быстро пошел в гору.
На Севере тем временем началось возвышение Ким Ир Сена: выбор Москвы пал на него потому, что он был молод и имел реальные заслуги (в отличие от иных деятелей коммунистического движения, которые, честно говоря, больше занимались подсиживанием друг друга или были далеки от настоящей политической борьбы). При этом не следует думать, что Ким Ир Сен уже тогда был таким же самодержавным правителем, каким он стал позднее. Будучи одним из наиболее молодых политических лидеров, по сравнению с главами иных фракций, он скорее напоминал Сталина конца 1920-х годов.
Традиционно в руководстве КНДР того времени выделяют четыре фракции: Ким Ир Сен и его соратники по партизанской борьбе; «местные» коммунисты, действовавшие внутри Кореи; китайская фракция из числа тех, кто действовал под крылом Мао Цзэдуна; советские корейцы, присланные для «усиления». Однако эта классификация довольно условна: формальный лидер «местной» фракции Пак Хон Ён провел в Советском Союзе почти столько же времени, сколько Ким Ир Сен, только в более раннее время, а один из руководителей «советской» фракции Пак Чхан Ок под своим китайским именем Пу Чжэньюй служил в СССР в одной бригаде с Ким Ир Сеном.
Если СССР с самого начала ставил перед собой задачу построения сильного в политическом и военном отношении, лояльного Москве государства, США не имели четкого плана обустройства Кореи и не определились с тем, какую политику они будут там проводить. Из-за этого строительство государства на Севере и сопутствующие ему реформы проходили более организованно и интенсивно. Несмотря на дежурные фразы о красном терроре, даже проамериканские пропагандисты не приводят каких-либо серьезных примеров сопротивления, сравнимых с левым сопротивлением на Юге[5]. Основным способом выражения протеста было бегство на Юг.
Если американцы пытались переломить левый уклон, то на Севере его использовали: структура власти была похожей на советскую, однако внешне выглядела естественным продолжением народных комитетов. Большую роль в укреплении власти коммунистов сыграли и демократические реформы, серия которых также прибавила правительству Ким Ир Сена легитимности и укрепила его популярность.
Если советская администрация старалась подавлять фракционную борьбу, американцы смотрели на нее сквозь пальцы, а то и поощряли ее в своих собственных интересах, в результате чего террор и политические убийства стали нормой. Так погибли и Ким Гу, и Ё Ун Хён.
По-разному был решен и кадровый кризис, масштаб которого очень сложно себе представить. Так как японцы специально не занимались подготовкой корейских специалистов выше определенного уровня, после того как они покинули Корею, страна начала испытывать сильнейший кадровый дефицит чиновников и инженеров.
На Севере роль кадрового резерва сыграли специалисты из числа советских корейцев, имевшие опыт административно-хозяйственной деятельности. Но на Юге такого ресурса не было, и американцы были вынуждены принять решение, которое показалось им единственно разумным: оставить на своих местах тех, кто есть. Из-за этого в Южной Корее не было ни «денацификации», ни аналога тех мероприятий, которые проводились после войны на территории собственно Японии.
Однако освобождение от японского ига закономерно рассматривалось массами не только как избавление от японцев, но и как низвержение всех их приспешников, которые ранее «пили народную кровь». Это вызывало очень сильное социальное напряжение и подталкивало людей в объятия левых, чьи выступления были направлены прежде всего на окончательную ликвидацию японского колониального наследия.
Масштаб сопротивления режиму Ли Сын Мана в 1946–49 гг. был вполне сравним с антияпонскими выступлениями сорокалетней давности. Но, хотя южнокорейское левое движение во многом действовало независимо от Пхеньяна (и тем более от Москвы), американцами оно воспринималось как организованное коммунистами и являющееся частью советского плана по захвату всей Кореи. Это вызывало нежелание разбираться в причинах волнений и неадекватное их подавление – порочный круг создавал ситуацию вялотекущей гражданской войны.
К началу 1947 г., на фоне холодной войны и окончательного краха структур, созданных Московским совещанием, США и СССР начали самостоятельно формировать органы власти будущей Кореи.
Советский Союз представлял передачу власти коммунистам как развитие традиции Народных комитетов, на съезде которых было избрано Народное собрание в качестве высшего органа государственной власти. Выборы в высший законодательный орган в августе 1948 г. состоялись как на Севере (прямые), так и на Юге (нелегальные и косвенные).
Соединенные Штаты поступили по-иному: используя свое влияние, они передали корейский вопрос на рассмотрение в ООН[6]. 14 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение сформировать так называемую Временную комиссию ООН по Корее (UNTCOK), которая приняла решение о проведении на территории полуострова всеобщих демократических выборов.
Москва и Пхеньян отказались принять UNTCOK как орган, заслуживающий доверия, после чего Ли Сын Ман предложил провести выборы «там, где это возможно», и 10 мая 1948 г. на Юге с большим числом нарушений прошли всеобщие выборы, организованные при активном участии полиции и лояльных Ли Сын Ману полугангстерских формирований.
И Север, и Юг считают «свои» выборы более легитимными, но с формальной точки зрения позиция КНДР вернее. Во-первых, выборы в Южной Корее проходили под наблюдением ООН, но не под ее контролем. Во-вторых, хотя РК объявила о том, что в ее юрисдикции находится весь полуостров, на территории КНДР выборы не проводились вообще, в то время как КНДР выборы на Юге провела, пусть и нелегальные, и все высшие органы власти были построены на равном представительстве северян и южан. В-третьих, хотя постановление ГА ООН признало законным только РК, решения подобного рода не входят в компетенцию ООН и не предусмотрены ее Уставом. Признавать или не признавать сформированное где-то правительство – прерогатива властей каждого конкретного государства.
15 августа 1948 г. на южной половине полуострова было провозглашено сепаратное государство Республика Корея (РК), первым президентом которой стал Ли Сын Ман, а 9 сентября 1948 г. на севере была провозглашена КНДР во главе с премьер-министром Ким Ир Сеном. Название КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) было предложено представителями советской администрации. Сами корейцы хотели назвать страну Корейской Народной Республикой по аналогии с проектом Ё Ун Хёна.
Кстати, герб и флаг КНДР изначально были аналогичны государственным символам РК, и только после того, как традиционные эмблемы уже оказались использованы «той стороной», были разработаны новый дизайн герба и флага.
Так Корея оказалась разделенной, причем оба государства формально распространяли свою юрисдикцию на весь полуостров, считая другую его половину незаконно управляемой марионетками идеологического врага. Конституция КНДР 1948 г. объявляла столицей страны Сеул, находящийся на временно оккупированной территории.
Размах левого движения и напряженность на границе привели к тому, что начиная с 1948 г. в Корее, по сути, шла вялотекущая гражданская война, признаками которой были и партизанское движение в РК (только восстание на острове Чечжудо унесло около 30 тыс. человек), и непрекращающиеся стычки и инциденты вдоль границы (кстати, чаще инициированные Югом), общий масштаб которых более напоминал окопную войну. При этом каждое из корейских государств формально осуществляло свою юрисдикцию на территории всего полуострова и страстно жаждало «воссоединения» любой ценой: страну разделили по живому, и ситуация казалась абсолютно неестественной.
Обе стороны активно строили планы силового объединения страны, но до конца 1949 г. и Москва, и Вашингтон стремились удерживать Пхеньян и Сеул от решительных действий. Однако в начале 1950 г. с учетом кажущейся нестабильности южнокорейского режима и представления о том, что Южная Корея не входит в американский «периметр обороны», руководство КНДР, обладавшей более сильным военным потенциалом, добилось от Москвы и Пекина одобрения курса на «объединительную войну».
Решающим аргументом, по мнению автора, было то, что Кремль сумели убедить в наличии на Юге революционной ситуации, при которой вторжение туда превратится в блицкриг: Пак Хон Ён, глава «местной» фракции и министр иностранных дел КНДР, заявлял, что по его сигналу в Южной Корее 200 тыс. коммунистов начнут восстание, и режим Ли Сын Мана падет. Что же до возможного вмешательства Соединенных Штатов, то, исходя из реалий тогдашней внешнеполитической обстановки[7], оно было сочтено маловероятным.
Так было дано добро на войну, но ход этой войны превратил ее в трагедию ошибок и амбиций, когда большинство ключевых решений, включая одобрение самого начала вторжения, было принято на основе неверных предпосылок, продиктованных непониманием ситуации, незнанием эндемики или личными страстями тех, кто выдвигал то или иное предложение. Она же является примером того, как часто принявшие решение оказываются заложниками дальнейших событий, не имея возможности отмотать время назад, и как часто в большой политике именно «хвост виляет собакой».
25 июня 1950 г. в 4 часа утра северокорейские войска перешли 38-ю параллель и 28 июня заняли Сеул. Армия РК действительно рассыпалась, но восстания, на которое был основной расчет, не случилось. Более того, США вмешались в войну быстрее и активнее, чем это предполагалось: сеульский режим оказался «чемоданом без ручки», который очень тяжело нести, но нельзя выбросить. Этому способствовали и представление Трумэна о роли ООН и необходимости сдерживания коммунизма, и внутриполитическая ситуация в самой Америке – на фоне начинающегося маккартизма и после «потери Китая» руководство должно было ясно продемонстрировать общественному мнению свою твердость.
Сразу после начала войны США инициировали созыв Совета Безопасности ООН, который дал мандат на создание сил ООН для «изгнания агрессора» и поручил руководство «полицейской акцией» Соединенным Штатам во главе с генералом Д. Макартуром. СССР, чей представитель бойкотировал заседания Совета Безопасности из-за участия в нем представителя Тайваня, не имел возможности наложить вето.
В конце июля 1950 г. американцы и южнокорейцы отступили в юго-восточный угол Корейского полуострова, организовав оборону так называемого Пусанского периметра. В результате «Советский блок» был вынужден продолжать войну в заведомо невыгодной для себя ситуации, понимая, что долгую войну им не выиграть хотя бы из-за соотношения экономической мощи.
Чтобы добиться перелома в ходе военных действий, командующий «войсками ООН» Макартур разработал план десантной операции в глубоком тылу северокорейских войск. Рано утром 15 сентября американцы высадились под Инчхоном и после ожесточенных боев 28 сентября овладели Сеулом. К началу октября северяне оставили территорию Южной Кореи. Маятник качнулся в другую сторону, и теперь уже командование ООН было настолько в плену амбиций и желания красивой победы, которая даст важный пропагандистский эффект, что утратило чувство реальности.
1 октября войска ООН пересекли 38-ю параллель, а к 24 октября заняли большую часть северокорейской территории, выйдя к пограничной с Китаем реке Амноккан. В этой ситуации китайское руководство оказалось перед трудным выбором, поскольку страна была в руинах и нуждалась в реконструкции. С другой стороны, были общеизвестны американские планы превратить Корейскую войну в войну с коммунизмом вообще, и в итоге Пекин направил в Корею войска, которые формально именовались «Армией китайских народных добровольцев (АКНД)». Решение Мао было продиктовано той же логикой, согласно которой США оказались вынуждены поддержать Ли Сын Мана, защищая не столько его, сколько свои стратегические интересы, нарушение которых казалось фатальным для страны[8].
19 октября 1950 г. части АКНД перешли китайско-корейскую границу и, пользуясь эффектом неожиданности, 25 октября нанесли контрудар по войскам ООН. К концу года северяне восстановили контроль над всей территорией КНДР. 31 декабря китайцы и северокорейцы начали наступление по всему фронту южнее 38-й параллели, и 3 января 1951 вновь заняли Сеул.
С конца января 1951 г. американское командование предприняло серию операций с целью вернуть Сеул, что удалось сделать только в конце апреля. Еще до завершения контрнаступления, 11 апреля из-за разногласий с Трумэном (в том числе относительно идей превратить войну в мировую и использовать ядерное оружие), Д. Макартур был смещен с поста командующего и заменен М. Риджуэем.
Эта отставка отражала противоборство двух тенденций. С одной стороны, те, чьи амбиции требовали расширения масштабов войны, невзирая на возможные последствия, с другой – те, кому ноша начала казаться тяжелой и кто был готов искать выход из ситуации, грозящей перейти в пат. На счастье, ставки оказались столь высоки, что прагматики оказались не готовы рисковать, и, хотя Гарри Трумэн был не меньшим антикоммунистом, чем Дуглас Макартур, Корейская война не вышла за рамки Корейского полуострова.
В апреле – июле 1951 г. воюющие стороны предприняли ряд попыток прорвать линию фронта и изменить ситуацию в свою пользу, однако ни одна из сторон не достигла стратегического перевеса, и военные действия приобрели позиционный характер, в ходе которого стороны обескровливали друг друга. Америка, по мнению Сталина, впустую растрачивала силы и престиж, а Северную Корею добомбили до такого состояния, что к концу войны американцы уже не находили цели для бомбардировки.
Когда стало ясно, что достичь военной победы разумной ценой невозможно и необходимы переговоры о заключении перемирия, 23 июня советский представитель в ООН призвал к прекращению огня в Корее. 27 ноября 1951 г. стороны договорились об установлении демаркационной линии на основе существующей линии фронта и о создании демилитаризованной зоны, но затем диалог зашел в тупик, в основном из-за разногласий по вопросу о репатриации военнопленных, а также позиции Ли Сын Мана, категорически выступавшего за продолжение войны.
27 июля 1953 г. представители КНДР, АКНД и войск ООН (представители Южной Кореи подписать документ отказались), подписали соглашение о прекращении огня, согласно которому демаркационная линия между Северной и Южной Кореей была установлена примерно по 38-й параллели, а по обе стороны вокруг нее образована демилитаризованная зона шириной 4 км.
Дальнейший статус конфликта должен был обсуждаться на Женевском совещании в апреле 1954 г., но из-за неконструктивной позиции участников, связанной с холодной войной, мирное урегулирование корейской проблемы было сорвано.
Корейская война нанесла обеим странам колоссальный ущерб. Полные данные о потерях (особенно мирного населения) неизвестны, но погибло около 2,5 млн человек (и южан, и северян) и разрушено более 80 % инфраструктуры обоих государств.
С точки зрения достижения целей войну не выиграл никто. Объединение не было достигнуто, созданная демаркационная линия, быстро превратившаяся в «великую корейскую стену», только подчеркнула раскол полуострова, а в умах нескольких поколений, переживших войну, осталась психологическая установка на противостояние – между двумя частями одной нации выросла стена вражды и недоверия. Политическая и идеологическая конфронтация была лишь закреплена.
Кроме того, разделение страны и «синдром огненного кольца» помогли укреплению авторитарных тенденций по обе стороны 38-й параллели: «реалии времени» требовали структур управления, естественно предполагающих ограничение свободы.
Начнем с КНДР. Окончание войны и последующее восстановление народного хозяйства сопровождалось определенной фракционной борьбой, часто замаскированной под борьбу политическую или экономическую.
Первая волна чисток прошла еще во время Корейской войны, и потому не всегда понятно, насколько репрессии в отношении тех или иных функционеров имели чисто политический мотив или были связаны с их серьезными ошибками в административно-хозяйственной деятельности. Так, если один из руководителей китайской фракции Му Чжон был разжалован скорее за военные неудачи, то разжалование и последующее самоубийство Хо Га И (А. П. Хегай, неформальный лидер советской фракции) стало следствием целого комплекса причин, включая предательство со стороны коллег по группировке.
Более или менее ясна ситуация с уничтожением Пак Хон Ёна и его сторонников, которые, во-первых, действительно рассматривались как виновники войны, а во-вторых, на фоне подготовки перемирия на самом деле готовили заговор с целью захвата власти и продолжения прежнего курса. Иное дело, что в дополнение к реальным обвинениям на них (в традиции показательных процессов того времени) навесили обвинение в шпионаже в пользу США и Японии.
В течение 1955 – начала 1956-го г. в северокорейском руководстве шли дискуссии о приоритетах экономического развития страны, отдаленно напоминающие те, что проходили в Советском Союзе во второй половине 1920-х гг. Ким Ир Сен выступал за приоритетное развитие тяжелой промышленности, полагая, что страна должна иметь свою индустриальную базу, способную сделать страну самостоятельной и готовой к отражению внешней агрессии. Его противники, преимущественно из китайской фракции, выступали за развитие легкой промышленности, считая, что в первую очередь надо поднять уровень жизни народа. Первая точка зрения побеждала, но индустриализация сопровождалась определенными перегибами, по итогам которых председатель Госплана Пак Чхан Ок, ставший главой советской фракции после смерти Хо Га И, был подвергнут критике и перешел в лагерь противников Ким Ир Сена[9].
Ким же в это время начал борьбу с «доминационизмом» и 28 декабря 1955 г. заговорил о необходимости «искоренения догматизма и формализма в идеологической работе и установлении чучхе»: «Хотя некоторые утверждают, что лучшим путем является советский или китайский, неужели мы не достигли того момента, при котором мы можем создать наш собственный путь?»
ХХ съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина стали базой для нового витка фракционной борьбы в КНДР, так как у оппозиции появилась возможность сделать то же самое, что сделал на ХХ съезде КПСС Хрущев, оттеснивший от власти своих соперников под предлогом борьбы со сталинизмом. Северокорейская оппозиция из советской и китайской фракции рассчитывала на «бархатный переворот» по образцу переворотов, происходивших в Восточной Европе, но Ким Ир Сен имел куда бóльшую поддержку, и организаторов «антипартийной выходки» стащили с трибуны и прогнали с высоких постов.
Не дожидаясь более серьезных репрессий, руководители оппозиции бежали в Китай и попросили помощи у «сюзерена», после чего в Пхеньян прилетела российско-китайская делегация во главе с А. И. Микояном и Пэн Дэхуаем, которая должна была исправить положение. Ким Ир Сену удалось избежать постановки вопроса о неполном служебном соответствии, но всех заключенных восстановили на их постах. Однако под влиянием событий 1956 г. в Венгрии, показавших Москве и Пекину, к чему может привести заигрывание с либеральными идеями, взгляд на корейскую ситуацию был пересмотрен, и Ким Ир Сен «благополучно закрутил гайки», ликвидировав или отправив в политическое небытие к началу 1960-х даже тех представителей иных фракций, которые были относительно безобидными и в большую политику не лезли.
До недавнего времени процесс уничтожения фракций мы воспринимали относительно однозначно – тиран Ким Ир Сен методично уничтожал всех вероятных конкурентов. Однако представляется, что все не так просто. Отдавая должное трагической участи репрессированных «фракционеров» и членов их семей, нам все же не следует автоматически обелять всех пострадавших, выпуская из виду то, что, оказавшись у власти, они бы репрессировали своих противников. Достаточно сложен и вопрос, насколько рекомендации Советского Союза Северной Корее соответствовали корейским реалиям, а не были проявлением волюнтаризма.
Однако ликвидация фракционной борьбы подрезала творческий и кадровый резерв северокорейского руководства. Система оказалась построенной на слишком простых решениях, к которым добавилось головокружение от успехов быстрого восстановления народного хозяйства после войны. Энтузиазм тех лет и готовность тяжело трудиться ради будущего руководство КНДР приравняло к нормативному поведению, не понимая, что подобный порыв имеет свои границы – и психологические, и временные.
Тем временем режим Ли Сын Мана постепенно стал классическим примером «банановой республики», поддерживаемой Соединенными Штатами исключительно из идеологических соображений и представлявшей собой диктатуру, куда более тоталитарную, чем на современном ему Севере.
Нельзя не сказать и о показательных процессах над политическими противниками, и о терроре, который проводили гангстерские организации, связанные с правящей партией и открыто занимавшиеся подавлением инакомыслия и сбором денег на правительственные проекты.
В 1960 г. по уровню ВВП на душу населения (80 долларов) Южная Корея находилась примерно на уровне Нигерии. В стране не было ни одного многоэтажного жилого дома, канализацией в Сеуле была обеспечена лишь четверть всех домов, а 82 % сельского населения и 39 % жителей Сеула жили без электричества.
Американская помощь составляла половину доходной части бюджета, причем ассигнования на оборону на 70 % состояли из этой помощи. Она же в период с 1953 по 1962 г. покрывала 70 % южнокорейского импорта и 80 % капиталовложений. При этом только 2 из 129 министров не были замечены в коррупции, масштаб которой был фееричен. Например, последний при Ли Сын Мане мэр Сеула брал взятки в размере от 10 до 30 % от общей суммы каждого контракта, который заключался от лица муниципалитета.
В 1959 г. руководство правящей партии дало министру внутренних дел специальное поручение: любыми способами обеспечить избрание Ли Сын Мана президентом на выборах в марте 1960 г. В декабре того же года была написана секретная инструкция, содержащая подробный план рекомендуемых мероприятий: регламентировалось даже то, сколько «заряженных» бюллетеней должно находиться в урне до начала голосования. При такой активной поддержке Ли Сын Ман не мог не «победить», но фальсификации вызвали массовые протесты, которые до поры до времени успешно подавлялись политическими гангстерами. 19 апреля 1960 г. стотысячная демонстрация направилась к президентскому дворцу, охрана которого открыла огонь, убив как минимум 115 человек и ранив около тысячи.
Вечером того же дня американский посол, посетивший Ли Сын Мана, обнаружил, что президент не только не представляет себе, что произошло, но и находится в плену странных фантазий, что против него существует заговор, в котором принимают участие коммунисты, католический епископ Сеула и Госдепартамент США. На протесты против своего правления он реагировал с искренним удивлением: «Невероятно, что патриотический корейский народ, которому я посвятил всю свою жизнь, мог вести себя так, как участники этих демонстраций».
26 апреля на фоне ежедневных массовых демонстраций на экстренном заседании Национального собрания была принята резолюция, объявившая недействительными результаты президентских выборов и требовавшая отставки Ли Сын Мана. В тот же день американский посол и командующий войсками США в Корее прошли через толпу демонстрантов, приветствовавшую их овацией, и потребовали от Ли Сын Мана уйти в отставку.
Вмешательство представителей США и готовность Америки сдать Ли Сын Мана окончательно подтолкнули события. 29 апреля 1960 г. Ли Сын Ман покинул страну на американском военном самолете и отбыл на Гавайи, где прожил еще пять лет.
Так Первую республику сменила Вторая (1960–1961), которая представляется мне чрезвычайно важным этапом корейской истории, поскольку это был первый, и, мягко говоря, неудачный опыт демократического эксперимента, потерпевший неудачу практически по всем направлениям.
Новая власть переживала определенный кризис легитимности, так как не захватила власть своими силами, а «получила ее из рук студентов». Выборы 29 декабря 1960 г. ничем не отличались от выборов времен Ли Сын Мана по уровню насилия, взяточничества, подкупа избирателей и жульничества при подсчете голосов, а целый ряд законов, особенно направленных на наказание «совершивших преступления против демократии», был принят с нарушением процессуальных норм и позволял судить преступления, совершенные до его принятия.
Попытка властей реорганизовать систему командными методами привела ее в состояние коллапса, усиленного апатией, которая охватила госслужащих на фоне новой волны чисток, в ходе которых представители разных фракций сводили счеты друг с другом. В результате значительная часть чиновников фактически саботировала действия правительства или, боясь быть осужденными за свои действия, предпочитала бездействие. Беда не пришла одна: экономический спад конца 1950-х привел к росту числа безработных до 2,4 млн человек, и к концу 1960 г. 80 % предприятий столичного региона прекратили работу.
Кроме того, новая власть испытывала дефицит управленческих кадров, не запятнанных сотрудничеством со старым режимом. Вследствие этого критерием для занятия должности нередко становились не профессионализм кандидата, а его личные связи или «анкета», говорящая о его оппозиционном прошлом. Такие новые управленцы уступали чиновникам старого образца, но отличались не меньшим аппетитом к власти, по традиции видя в ней кормушку.
При этом попытка вернуть необходимые для противодействия начинающемуся хаосу силы и средства рассматривалась демократами как скрытая подготовка новой диктатуры, а слишком жесткие методы работы – как возврат к временам тоталитаризма.
Разгром старых кадров и общее ослабление репрессивного аппарата подстегнули деятельность криминалитета: «нейтрализованные» органы оказались бессильны пресечь волну организованной преступности и рост коррупции и незаконных доходов крупных компаний, руководство части которых просто отказывалось платить налоги.
«Распустились» не только гангстеры, но и студенты, которые давили на правительство своими массовыми выступлениями и даже несколько раз врывались в здание Национального собрания во время ее заседаний, занимая трибуну спикера, укоряя депутатов в отсутствии революционного духа и полагая, что правительство в своих действиях подотчетно им. Телефонное право фактически сменилось «мегафонным».
Когда ситуация начала выходить из-под контроля, правительство стало хвататься за дубинку чрезвычайных законов. Так называемый Временный чрезвычайный антикоммунистический закон мало отличался от антикоммунистических законов времен Ли Сын Мана, но ослабленный репрессивный аппарат уже не мог адекватно контролировать волну протестов левых, которая поднялась в ответ на эту попытку правительства закрутить гайки, – студенты открыто называли революцию 1960 г. «украденной».
Правительство оказалось между двух огней. Его традиционная ориентация на США и объективная зависимость от Америки не устраивали студентов и левых, проводивших стотысячные митинги, а охватившие общество тенденции сближения с Севером и неспособность правительства их пресечь не устраивали его заокеанских покровителей.
Можно сказать, что страна оказалась не готовой к демократическому эксперименту, но, прежде чем события приняли критический оборот, маятник качнулся в обратную сторону. Попытка в кратчайшие сроки привести Корею к европейским стандартам закончилась захватом власти военной хунтой во главе с Пак Чон Хи.
Объявив своей целью построение демократии, Пак сразу же нанес удар как по левому движению, так и по коррупционерам и организованной преступности. Были казнены те, кто организовывал выборы в мае 1960 г., конфисковано нелегально обретенное имущество политиканов и бюрократов, в госаппарате была проведена значительная чистка.
В 1962 г. была принята новая конституция, по которой президент наделялся самыми широкими полномочиями, избирался прямым голосованием сроком на четыре года, но не более чем на два срока подряд.
30 августа 1963 г. Пак ушел с военной службы и выставил свою кандидатуру на пост президента от созданной хунтой Демократической Республиканской партии (ДРП). Предвыборные дебаты обеспечили Паку дополнительный успех, так как политики старой школы не имели позитивной социально-экономической программы и фактически призывали к возвращению к временам Ли Сын Мана.
В декабре 1963 г. Пак пришел к власти легальным путем, победив своего оппонента с незначительным отрывом (46,6 % голосов против 45,1 %). В 1967 г. Пак одержал более уверенную победу (51,5 % голосов против 40,9 %).
Главным внешнеполитическим достижением режима было изменение отношений с Японией, которая из врага превратилась в партнера. Установив дипломатические отношения со Страной восходящего солнца в 1965 г., Пак сумел не только начать лавировать между США и Японией, но и обеспечил приток японских инвестиций размером в 800 млн долларов, а в 1971 г. инвестиции Японии в Корее составили 54 % от общего объема иностранных инвестиций – больше, чем у любой другой страны (США – 26 %).
Остановимся более подробно на корейско-американских отношениях. Имея в своих руках рычаги экономической помощи, угрозы прекратить поток которой были основным средством давления, США рассчитывали, что Южная Корея будет послушно выполнять их указания, в то время как Пак активно пытался обеспечить себе свободу маневра. Так, одновременно с установлением дипотношений с Японией, Сеул принял участие во вьетнамской войне и направил в Южный Вьетнам две дивизии корейских войск, заслужив этим не только благодарность американцев, но и их заказы на военную амуницию и военное строительство. За это Пак добивался от США компенсационных кредитов и модернизации южнокорейской армии. В 1966 г. разнообразные доходы Кореи от этой войны составили 40 % заработанной страной за рубежом иностранной валюты, а всего в период войны США поставили Южной Корее в виде экономической и военной помощи 12,6 млрд долларов.
Возникли и первые попытки начать диалог с Севером. Появилось министерство объединения, отделенное от министерства иностранных дел и занимающееся специально всем комплексом проблем, связанных с отношениями между Севером и Югом.
Еще в августе 1961 г. южнокорейская сторона передала Северу письмо, в котором предлагала провести обмен мнениями по вопросу объединения. Но тайные переговоры по неофициальным каналам были прекращены, ибо принципиального согласия ни по одному вопросу достигнуто не было, сохранять их в тайне от США становилось все труднее, а антикоммунистическая риторика режима Пака отпугивала северян.
После этого наступил период конфронтации. Инциденты и перестрелки случались несколько раз в год, а 21 января 1968 г. группа из 32 северокорейских спецназовцев проникла в Сеул для того, чтобы убить президента РК.
В 1971 г., несмотря на яростные протесты оппозиции (пришлось вводить чрезвычайное положение), Пак выиграл выборы в третий раз (53,2 % голосов против 45,3 %). Его противником в них был Ким Дэ Чжун, относительно молодой политик, имевший репутацию последовательного диссидента.
17 октября 1972 г. Пак Чон Хи совершил конституционный переворот, вошедший в историю под названием «Юсин», или «Реформа обновления государства». Введение Юсин началось с военного положения, роспуска Национального собрания и ареста большинства лидеров оппозиции. После этого Пак предложил ввести в Конституцию поправки, по которым ему была гарантирована фактически пожизненная власть.
Четвертая республика (1972–1980) однозначно оценивается и в корейской, и в советской/российской литературе как период крайне жесткого тоталитарного режима и наиболее диктаторский в современной корейской истории. Так, введенное в мае 1975 г. Чрезвычайное постановление № 9 рассматривало как преступление любую критику президента или данного постановления. Ким Дэ Чжун был похищен в Токио и спасен от смерти только благодаря быстрым и эффективным действиям США.
Начиная с 1970 г. в отношениях между Сеулом и Вашингтоном стало накапливаться напряжение, связанное с изменениями в американской внешней политике, в первую очередь – со стремлением администрации Никсона наладить дипломатические отношения между США и КНР.
Кроме того, в условиях разрядки поддержка откровенно диктаторского режима была политически невыгодной, и конгресс начал давить на администрацию президента, требуя, чтобы помощь режиму Пака оказывалась в обмен на подвижки последнего в сторону демократии, прекращения репрессий и т. д.
Попытки Сеула противодействовать на американской территории вылились в так называемый Кореягейт 1974–1975 гг., связанный с нелегальной деятельностью ЦРУ Южной Кореи на территории США. Помимо этого, Корея начала искать способы стать независимой и с военной точки зрения. Пак принял решение о необходимости создания ядерного оружия как средства сдерживания, однако американцы предпринимали очень жесткие меры для предотвращения южнокорейской ядерной программы. РК заставили подписать Договор о нераспространении ядерного оружия, но в 1978 г. начала работать первая южнокорейская АЭС, а в 1979 г. Пак отдал распоряжение начать разработку атомного оружия. Однако в том же году Пак был убит, и Вашингтон и Сеул достигли договоренности, что в ответ на отказ от ядерной программы США разместит на территории РК тактическое ядерное оружие, которое вывезли из страны только в 1991 г.
В то же самое время происходит вторая попытка наладить диалог с КНДР. 20 сентября 1971 г. в Пханмунджоме состоялась первая встреча представителей Красного Креста Севера и Юга, а 2 мая 1972 г. директор ЦРУ Южной Кореи Ли Ху Рак тайно прибыл в Пхеньян и начал переговоры.
В ответ 29 мая в Сеул прибыл тоже тайно вице-премьер КНДР Пак Сон Чхоль. По итогам переговоров, которые продолжались в течение 1973 г., было принято совместное заявление: объединение должно быть достигнуто независимыми усилиями без внешнего вмешательства; мирным путем, без применения силы по отношению друг к другу; на первом месте должно стоять национальное единство, а на втором – различие в идеях и системах. 30 ноября 1972 г. было подписано «Соглашение о структуре и функционировании комиссии по урегулированию между Югом и Севером», а между странами проведена прямая телефонная линия. В июне 1973 г. Пак даже позволил себе заявить о том, что он не против того, чтобы РК и КНДР одновременно стали членами ООН.
Понятно, что это заявление было скорее «протоколом о намерениях», и сдаваться на условиях противника никто не собирался. Даже Пак воспринимал эти переговоры как способ лучше чувствовать настроения КНДР. Постепенно напряжение на переговорах начало расти, а их конструктивность – падать.
15 августа 1974 г. произошло покушение на жизнь Пак Чон Хи, окончательно перечеркнувшее переговорный процесс. Пак остался жив, но его жена трагически погибла. Убийца был японским корейцем, связанным с просеверокорейскими организациями в Японии, однако не следует делать однозначный вывод, что покушение было именно северокорейской инициативой.
1979 г. оказался для Кореи сложным. После длительного периода роста до Южной Кореи докатились инфляция и рецессия, связанные с резким повышением цен на нефть после исламской революции в Иране, а лишение депутатского мандата руководителя Новой Демократической партии Ким Ён Сама увеличило напряженность в корейско-американских отношениях. К этому времени Пак утратил способность конструктивно воспринимать критику, объявив любое осуждение его и его режима уголовным преступлением, и все чаще и чаще склонялся к применению жестких методов подавления оппозиции, что и стало причиной его убийства, совершенного 26 октября 1979 г. его собственным начальником ЦРУ Ким Чжэ Кю.
Главной заслугой режима Пак Чон Хи всегда называют то, что из страны «просяной каши и соломенных крыш», абсолютно зависимой экономически от Соединенных Штатов, Южная Корея превратилась в промышленно развитое государство. Экономический рост был для Пака не только источником процветания страны, но и способом повысить легитимность своего режима и укрепить национальную безопасность. Тремя китами, на которых стояла экономическая программа Пака, были развитие тяжелой промышленности как форсированная индустриализация за счет сельского хозяйства, экспортно-ориентированная экономика и ее государственное регулирование.
Сначала Пак хотел сделать Корею страной-фабрикой, которая могла бы скупать сырье за рубежом, перерабатывать его и экспортировать полученную готовую продукцию: на зарубежные кредиты строились фабрики, работавшие на импортируемом сырье и по иностранной же технологии. В 1965 г. 40 % всего корейского экспорта составляли одежда и текстильные изделия. Продукция шла на экспорт, а вырученные деньги – на закупку нового сырья и новых технологий, а также – на развитие инфраструктуры и образования, позволяющих перейти к новому этапу индустриализации. При этом внутри страны существовала политика жесткого протекционизма в области импорта.
К началу 1970-х гг. накопленные опыт и капитал дали возможность перейти к капиталоемким отраслям: металлургии, судостроению, химической промышленности. В Корее появляются огромные металлургические комбинаты (любопытно, что поначалу их строительство сочли авантюрой, и Всемирный банк отказался инвестировать проект), которые вскоре превращают страну в одного из крупнейших в мире производителей стали, а также верфи, которые уже к 1980 г. по суммарной грузоподъемности производили около трети всего мирового тоннажа новых кораблей. За металлургией и судостроением последовали более техноемкие отрасли – автомобильная промышленность, ее развертывание началось после 1976 г., и электроника, периодом развития которой стали уже 1980-е гг.
В 1962 г. созданное для координации и контроля экономического развития Управление экономического планирования объявило о принятии первого пятилетнего плана, и вплоть до кончины Пака в экономике страны было много черт, напоминающих организацию экономической жизни в СССР. Контроль осуществлялся через лицензирование и налоговую администрацию, следившую, чтобы средства расходовались рационально и с пользой для дела и плана. При этом государство регламентировало распределение кредитов и экспортных субсидий, контролируя внешнеторговые операции и регулируя цены. Существенным рычагом давления было и то, что власти запретили бизнесу создавать свои банки.
Для улучшения структуры управления была сделана ставка на крупные многопрофильные концерны, которыми было проще и удобнее манипулировать. Пак Чон Хи целенаправленно «отобрал» несколько десятков фирм, обеспечивая им льготный доступ к кредитам и иностранным инвестициям в обмен на точное исполнение правительственных предписаний. Так окончательно и целенаправленно были созданы пресловутые чиболи. С другой стороны, правительство Пака поощряло благотворительную деятельность крупного капитала и создавало себе репутацию социального арбитра.
Режим уделял внимание и сельскому хозяйству, проведя серию мероприятий в интересах деревни: отмену долгов ростовщикам, ускоренную кооперацию, государственную закупку зерна в период сбора урожая. В рамках движения «Новая деревня» были проведены дополнительные экономические мероприятия, связанные с интенсификацией в аграрном секторе, совершенствованием ирригации или обработки земли, также внедрялось широкое применение удобрений и техники, планировались различные программы поощрения кооперации, что облегчало властям социальное маневрирование, велось жилищно-коммунальное строительство.
В результате экономика Южной Кореи, положение которой еще недавно казалось безнадежным, превратилась в одну из самых динамичных экономик планеты. Уже в 1963 г. корейский ВВП вырос на 9,1 %, и на протяжении всего правления Пак Чон Хи его годовой прирост составлял 8–10 %, изредка поднимаясь до 12–14 % и никогда не опускаясь ниже 6 %. На рубеже 1960–1970-х гг. объемы производства возрастали в среднем на 11,1 % в год, экспорт увеличивался на 28,7 % и к 1971 г. составлял 15,8 % от ВНП. Число живущих ниже черты бедности сократилось с 40 % в 1965 г. до 10 % в 1980 г., а доход на душу населения превысил 1000 долларов в год. К 1973–1974 гг. РК стала полностью экономически самостоятельна, а в 1971–1975 гг. Южная Корея по темпам экономического развития сравнялась с Севером и стала обгонять его.
К началу 1960-х гг. были заложены основы той модели развития северокорейского общества, которая, пусть с некоторыми изменениями, существует по сей день.
Примерно со второй половины 1960-х был взят курс на укоренение чучхе во всех сферах политической и общественной жизни, а в первой половине 1970-х культ личности Ким Ир Сена превзошел культы Сталина и Мао. В конце 1972 г. была принята и новая конституция КНДР, которая закрепила концентрацию власти в руках Ким Ир Сена. Авторитаризм крепко сидел в сознании людей и оказался эффективным способом мобилизации широких масс и проведения больших структурных мероприятий, обеспечив обоим корейским государствам, каждому на своем этапе, экономический прорыв. Не случайно ряд историков считает, что, создавая чучхейское государство, Ким Ир Сен хотел отстоять самостоятельный путь развития Кореи.
15 апреля 1974 г., день рождения Ким Ир Сена, стал основным национальным праздником. В том же 1974 г. преемником Ким Ир Сена был объявлен его сын Ким Чен Ир, которому тогда было 32 года.
К мероприятиям, проводимым по инициативе Ким Чен Ира, можно отнести «преобразование всего общества на основе идей чучхе» (корректнее было бы сказать «чучхейскую идеологизацию» всего общества), следствием чего стало появление в стране музеев Ким Ир Сена и окончательное формирование культа его личности.
10–14 октября 1980 г. на VI Съезде ТПК Ким Чен Ир был официально объявлен наследником отца и «титулован» «продолжателем великого чучхейского революционного дела».
Внешняя политика КНДР во многом строилась на лавировании между Москвой и Пекином. В 1961 г. Ким Ир Сен, играя на советско-китайских противоречиях, отправился в Москву и убедил ее подписать с КНДР Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, после чего едет в Пекин и заключает аналогичный договор с руководством КНР, используя предыдущий в качестве определенного средства давления.
Затем КНДР скорее склоняется в сторону Китая, однако «культурная революция» вызвала некоторое охлаждение северокорейско-китайских отношений и подтолкнула КНДР к сближению с СССР. 11 февраля 1965 г. состоялся визит в КНДР советской партийно-правительственной делегации во главе с А. Н. Косыгиным. Пхеньяну простили все военные долги, и страна начала получать новую военную технику. В этот же период при советской поддержке заложили реактор в Ёнбёне.
15 сентября 1966 г. «Нодон Синмун» осуждает «культурную революцию» и хунвейбинов, которые не остались в долгу – в 1967 г. в китайской печати даже сообщалось о том, что в Пхеньяне произошел военный переворот и Ким Ир Сена арестовали как ревизиониста. В результате контакты между двумя странами сократились до нуля, а на границе произошел ряд инцидентов.
Конец 1960-х был ознаменован определенной утратой Советским Союзом способности влиять на внешнюю политику Ким Ир Сена и ужесточением его курса по отношению к Югу. Моментом, переломившим ситуацию, стал инцидент 23 января 1968 г., когда северянами была захвачена американская разведывательная шхуна «Пуэбло». К берегам Кореи подтянут Седьмой флот США, и КНДР официально запросила военной помощи. Это означало готовность Пхеньяна к войне, в которую, согласно договору, вовлекался крайне того не желающий Советский Союз.
Сотрудники МИД провели бессонную ночь в поисках повода к отказу от выполнения условий договора и нашли четыре условия, ставящие дополнительные ограничения на вмешательство СССР: 1) КНДР должна быть объектом неспровоцированной агрессии; 2) нападение не должно иметь отношение к проблеме объединения страны; 3) помощь оказывается не мгновенно, а после проведения консультаций; 4) вмешательство не является следствием действий третьей страны (если КНДР начинает войну во исполнение обязательств по отношению, скажем, к Китаю, СССР ни при чем).
26 февраля 1969 г. состоялись переговоры министров обороны, где КНДР поставили в известность о новой трактовке договора. Корейцы согласились с ней (точнее, были вынуждены принять ее к сведению), но после этих «уточнений» договор стал стремительно терять свое значение, и, когда КНДР, будучи социалистической страной, вошла в Движение неприсоединения, она не раз угрожала его расторгнуть.
Жесткая политика КНДР в отношении РК и США продолжалась до конца 1960-х. Однако к началу 1970-х гг. стало понятно, что восстания в РК не будет, и КНДР отказалась от идеи активной инфильтрации. Север и Юг начали переговоры, о которых мы также рассказывали в главе, посвященной Пак Чон Хи.
В это же время наметился некоторый прогресс в отношениях с США. Когда в 1977 г. администрация Картера объявила о своем желании полностью вывести войска с Корейского полуострова, Ким Ир Сен назвал Картера «справедливым человеком», северокорейская пропаганда временно перестала использовать классические ругательства и даже термин «американский империализм» по отношению к США, одновременно начав рассуждать о «советском доминиционизме».
Ситуация резко изменилась после того, как администрация Рейгана не только поддержала Чон Ду Хвана, но и развернула активную кампанию по укреплению южнокорейской армии. В 1983 г. министр обороны США Каспар Уайнбергер объявил, что Корея является зоной жизненных интересов США.
Под влиянием вышеупомянутых событий 1983–1987 гг. и резкого улучшения отношений между Китаем и США (Ким Ир Сен очень боялся отказа от социализма в Китае) Пхеньян качнулся в сторону Советского Союза. В этот период после 23-летнего перерыва Ким Ир Сен дважды посетил Москву, причем визит 1984 г. превратился в масштабное турне по Восточной Европе.
Что же до развития северокорейской экономики, то после усиления власти Ким Ир Сена крайне высокими темпами активизировалась работа по восстановлению послевоенного хозяйства. Ущерб, нанесенный стране войной, особенно американскими бомбардировками, был огромен. В 1953 г. промышленное производство составляло только 64 % от объема 1949 г. Поставив целью ликвидацию послевоенной разрухи и создание самоокупаемой национальной экономики, КНДР в 1954 г. приняла «трехлетний план возрождения экономики», а с 1957 г., получая от СССР и КНР значительную материальную помощь, ввела в действие «первый пятилетний план», направленный на преимущественное развитие тяжелой промышленности. В результате удельный вес тяжелой промышленности в северокорейской экономике в 1960 г. составил 70 %, а в течение 1954–1960 гг. средний уровень экономического роста был достаточно высоким. В 1965 г. Че Гевара, посетивший Пхеньян, заявил, что КНДР является образцом, которому должна следовать революционная Куба, имея в виду ее экономическое развитие и то, насколько быстро страна сумела оправиться от последствий войны.
Значительно изменилось и сельское хозяйство. После окончания войны с 1953 г. началось строительство сельхозкооперативов (хептон нончжан) с целью коллективизации сельского хозяйства, завершившееся в 1958 г.
Все разработки КНДР того времени – теория «трех революций» (1958), метод Чхонсанри (1960), Тэанская система работы (1961) – строились на мобилизации энтузиазма и творческой инициативы масс. Ким Ир Сен полагал, что руководство экономикой нельзя доверять профессионалам, которые оценивают реальность только на основе объективных расчетов. Находясь в плену своего профессионализма, они не могут требовать от народа, чтобы он отдавал все силы и делал невозможное. Кроме того, управление производственным комплексом должно быть ориентировано на достижение не только производственных результатов, но и политико-идеологических, воспитательных целей, на то, чтобы изжить наследие старого общества в идеологической, технической и культурной сферах и создать на их месте коммунистические идеологию, технику и культуру. С определенными поправками на местный колорит это напоминает китайские инновации того же времени. Однако более острожный Ким Ир Сен, стремящийся лавировать между Москвой и Пекином, воздержался от настолько разрушительных социальных экспериментов.
Эта тенденция продолжилась, и когда руководство экономикой начал осуществлять Ким Чен Ир, который ввел в социалистическом строительстве термин «скоростной бой» (у нас этот термин любили переводить как «трудовая вахта»), отражающий сравнение трудовой деятельности граждан с боевыми действиями.
Однако в середине 1960-х уже наблюдалось некоторое снижение производительности, а к началу 1970-х КНДР фактически выработала экстенсивные ресурсы расширения производства, основанные на своих собственных, довоенных японских или старых советских технологиях. Так началось отставание Севера от Юга, так как Север не смог осуществить «третью промышленную революцию», связанную с производством в стране электроники, необходимой для нового промышленного рывка.
В середине 1980-х экономическое положение КНДР было относительно крепким. После визита Ким Ир Сена в СССР в 1984 г. был принят закон о совместных предприятиях (который, правда, не дал особых результатов), а в 1985 г. руководство КНДР попыталось объединить предприятия в структуры, управляемые из единого центра.
Ситуация резко изменилась в 1990–1991 гг., когда с установлением дипломатических отношений между СССР и РК закончился «режим наибольшего благоприятствования» для КНДР, а затем распался Восточный блок, на который была в основном ориентирована ее внешняя торговля. Северная Корея оказалась вообще практически в полной международной не только политической, но и экономической изоляции.
Ким Ир Сен начал говорить о реформах и сделал несколько шагов в сторону межкорейского диалога, однако в 1994 г. он умер от сердечного приступа.
Три года после смерти Ким Ир Сена стали временем так называемого «трудного похода», когда серия природных катастроф практически добила сельское хозяйство страны, и без того подточенное отсутствием дешевого топлива. Вызванный бедствиями голод стал крупнейшей гуманитарной катастрофой в Восточной Азии со времен китайского «большого скачка», оценки экспертов вращаются вокруг цифры в 600 тыс. жертв.
В 1998 г. Ким Чен Ир, окончательно вступив в права руководителя, сделал ставку на чрезвычайные меры в условиях тяжелого экономического положения страны. Совершенствование и оздоровление управленческой структуры сочетались с рядом мер, направленных на демонстрацию северокорейской военной мощи: у КНДР появилось ядерное оружие.
В декабре 2011 г. Ким Чен Ир умер, и в настоящее время страной руководит его младший сын Ким Чен Ын, продолжающий дело отца и сразу показавший, что он будет лидером страны, а не марионеткой. В декабре 2013 г. был снят со всех постов и казнен муж тети Кима и начальник организационного отдела ЦК ТПК Чон Сон Тхэк, второй человек в стране.
За 12 лет правления молодого руководителя Северная Корея существенно продвинулась вперед, как в военном строительстве (став полноценной ядерной державой), так и во внешней политике, важными вехами которой стали три саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа в его предыдущий президентский срок, а также заключение между Москвой и Пхеньяном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был ратифицирован в ноябре 2024 года.
Подводя итоги, можно обратить внимание на определенные параллели развития традиционной политической культуры КНДР и РК. В обоих случаях при сохранении общей коммунистической или антикоммунистической риторики, власти начинают уделять больше внимания идеологии национализма, опоре на собственные силы и определенному лавированию между сверхдержавами, курирующими корейские государства.
Высокий уровень политической индоктринации населения, повышенная роль армии и органов безопасности, государственная система, подстроенная под харизматического лидера, выработка «идеологии национального субъективизма» – далеко не полный перечень того, что объединяло режимы Ким Ир Сена и Пак Чон Хи. Получившийся в результате вариант социализма/демократии с корейской спецификой оказался достаточно жизнеспособным и обеспечил обоим корейским государствам определенную стабильность.
После убийства Пак Чон Хи новое правительство Чхве Гю Ха задействовало комплекс мер по демократизации, но 12 декабря 1979 г. произошел государственный переворот, организованный руководителем военной разведки генералом Чон Ду Хваном.
Чон провел широкомасштабные аресты среди членов оппозиции, разогнал Национальное собрание и объявил полное военное положение. Реакцией на эти события стало восстание в Кванчжу, где все началось с разгона демонстрации, связанной с арестом Ким Дэ Чжуна. На подавление выступления были брошены не полицейские, а армейские силы: дело дошло до применения штыков и огнеметов, причем солдаты не только разгоняли демонстрации, но и врывались в кафе или автобусы, избивая всех молодых людей примерно студенческого возраста.
Когда стало известно, что в столкновениях погибло большое количество мирного населения, к студентам присоединились горожане, и беспорядки переросли в широкомасштабное восстание, в ходе которого студенты и горожане неделю удерживали город под контролем. 21 мая 1980 г. жители захватили склады с оружием и, опасаясь массового кровопролития, власти вывели спецподразделения из города. Восставшие захватили Управление провинциальной администрации, требовали отмены чрезвычайного положения и отставки Чон Ду Хвана.
27 мая город штурмовали танки, и в течение полутора часов основные правительственные учреждения были взяты правительственными войсками. Общее число жертв составило около 4 тыс. человек.
С восстанием в Кванчжу связан очень важный вопрос об ответственности США за произошедшую бойню. Дело в том, что корейская армия подчинялась американскому командованию, и потому применение военной силы против мирного населения должен был одобрить Вашингтон. Однако, несмотря на деятельность президента Картера по активному насаждению в мире прав человека, Америка просто побоялась создавать опасный прецедент и ограничилась спасением Ким Дэ Чжуна, который был обвинен в организации мятежа и приговорен к смерти. Но благодаря секретному соглашению жизнь заслуженного диссидента была спасена в обмен на визит Чон Ду Хвана в США, оказавшийся первым визитом иностранного президента в правление Рейгана.
В феврале 1981 г. Чон Ду Хван стал президентом так называемой Пятой республики (1981–1987). В этот период торговый баланс страны стабилизировался, Север окончательно уступил Югу по темпам экономического развития, была побеждена инфляция, а переход Южной Кореи в число новых индустриальных стран Азии завершился. Однако эти подвижки были не следствием собственной политики Чон Ду Хвана, а произошли благодаря наследию системы, заложенной Пак Чон Хи.
Внутренняя политика Чона была отмечена более значительными нарушениями демократических норм, чем правление Пака. В середине 1980-х численность полицейских подразделений, предназначенных для разгона демонстраций, достигла 150 тыс. человек. Это нередко вызывало противодействие США, однако в целом Чон был более проамерикански настроен, чем Пак.
В течение второй половины своего правления Чон начал постепенно отпускать вожжи, отменив наиболее одиозные пережитки военного режима (комендантский час, черные списки, поражение в правах деятелей оппозиции и др.), и ввел термин «демократия по корейскому образцу». С этого же времени началась подготовка официального преемника Чона на посту главы государства, генерала Но Тхэ У[10], однокашника Чон Ду Хвана и его близкого друга.
В 1987 г. Чон попытался продлить свои властные полномочия, и страну снова захлестнула волна протеста. На этом фоне произошел инцидент с обнаружением замученного спецслужбами студента Пак Чон Чхоля. Хотя факт пыток оппозиционеров был широко известен, в этот раз полиция вынуждена была признать, что студента пытали.
Бурные события поставили под вопрос проведение в Сеуле Олимпийских игр 1988 г., которые задумывались и осуществлялись как демонстрация всему миру РК как развитой страны, что предполагало и наличие определенного политического климата.
В результате забота о сохранении международного престижа Кореи и напористая политика Рейгана вынудили Чона пойти на компромисс – 29 июня 1987 г. Но Тхэ У выступил с неожиданной программой демократических реформ. Большинство требований оппозиции было удовлетворено, 16 декабря 1987 г. принята новая конституция. После 16 лет диктатуры состоялось первое общенациональное голосование на президентских выборах, на которых Но Тхэ У получил 36,7 % голосов избирателей, его основные соперники Ким Ён Сам – 28 %, и Ким Дэ Чжун – 27 %. Так 25 февраля 1988 г. в истории Кореи впервые со времени образования РК совершилась мирная передача власти от одного президента другому и Пятую республику сменила Шестая, продолжающаяся по сей день.
Президентство Но Тхэ У запомнилось Олимпийскими играми 1988 г., ознаменовавшими окончательный переход страны «из третьего мира в первый», успехами во внешней политике, дальнейшими подвижками в сторону отхода от образа военной диктатуры и вхождением в начале 1990-х РК в мировое экономическое пространство, которое привело к росту импорта. Улучшался и уровень жизни: в результате забастовочной волны 1988–1990 гг. средняя заработная плата в Корее увеличилась почти в три раза.
Главным внешнеполитическим достижением Но Тхэ У было установление дипломатических отношений с СССР и странами Восточной Европы. Этот фактор сделал Северную Корею более восприимчивой к смоделированной по западногерманскому образцу «северной политике», и осенью 1990 г. состоялись первые межкорейские переговоры на уровне премьер-министров, итогом которых было одновременное вступление двух Корей в ООН 17 сентября 1991 г. и подписание 13 декабря 1991 г. в Сеуле Соглашения о примирении, неагрессии, сотрудничестве и обмене.
Под давлением оппозиции, стремясь позиционировать себя как законно избранного и гражданского президента, Но старался дистанцироваться от Чон Ду Хвана и сторонников жесткой линии, выдвигал на политическую арену малоизвестных людей и делал ставку на фундаментальные перемены.
Между тем в парламентской политике возникла интересная ситуация. Хотя ни Ким Ён Сам, ни Ким Дэ Чжун не стали президентами, их совокупная мощь была больше (два Кима вместе набрали 55 % голосов, в то время как Но – 37 %), и 9 февраля 1990 г. три из четырех парламентских партий объединились. Президентом новой партии стал Но Тхэ У, а председателем – Ким Ён Сам, которому было обещано выдвижение его в президенты на следующий срок.
В гонке 1992 г. приняли участие три основных кандидата – Ким Ён Сам от правительственного блока, Ким Дэ Чжун как представитель оппозиции и глава корпорации «Хёндэ» Чон Чжу Ён. Ким Ён Сам получил 42 % голосов, Ким Дэ Чжун – 34 %. Так наступил следующий этап демократизации – впервые после Ли Сын Мана президентом стало гражданское лицо.
Хотя Ким Ён Сам прошел во власть как представитель правящей партии, став президентом, он проделал большую работу по выдавливанию военных из политики. Чон Ду Хван и Но Тхэ У были осуждены за государственную измену, а «Новая Корея» вступила в эпоху глобализации.
Имевший давний имидж «борца за демократию», Ким Ён Сам очень плохо разбирался в чем-либо еще кроме этой борьбы (особенно – в вопросах экономики), и его политика в этой сфере чуть не привела страну к банкротству на фоне очень больно ударившего по престижу страны финансового кризиса 1997 г. В результате в стране случился дефолт (не менее болезненный, чем российский – 1998 г.), и РК была вынуждена обратиться за помощью к Международному валютному фонду, но займы были предоставлены на очень сложных для страны условиях, включавших в себя, в частности, реструктуризацию экономической системы.
На этом экстраординарном фоне на президентских выборах 1997 г. к власти приходит бывший диссидент Ким Дэ Чжун, которого можно назвать представителем «несистемной оппозиции». Разрыв между ним и кандидатом от партии власти составил 1,6 % (40,3 % против 38,7 %) на фоне раскола в консервативном лагере. Последовательный сторонник демократии и европейских ценностей, Ким Дэ Чжун сумел, однако, возглавить кампанию по мобилизации нации, в результате чего «эра МВФ» была преодолена в рекордные сроки. В 2000 г. страна вышла в целом на уровень предкризисного 1996 г.
В 2002 г. Ким Дэ Чжуну удалось не без проблем (разрыв в 2,6 %) передать власть Но Му Хёну (Ро Му Хёну), который принадлежал к его политическому лагерю и представлял новое поколение политиков, однако Но в большей степени оказался популистом, а не демократом: несмотря на показной антиамериканизм в начале правления, именно при нем южнокорейские войска отправились воевать в Ирак, а английский язык предполагали сделать вторым государственным.
В 2004 г., после того, как Но Му Хён разошелся с окружением своего предшественника и в нарушение конституции начал открыто продвигать созданную «под себя» политическую партию, уходящий парламент объявил ему импичмент, за который проголосовали и консерваторы, и сторонники Ким Дэ Чжуна. Однако умелый популист представил все как попытки ретроградов препятствовать его реформам, и в результате, когда на новых парламентских выборах «его партия» получила большинство, Конституционный суд прислушался к мнению народа и вернул Но в президенты.
Правление Но Му Хёна продолжало курс предшественника на сближение с КНДР, но второй межкорейский саммит 2007 г. прошел под самый конец срока и носил откровенно демонстрационный характер. В результате об уровне удовлетворенности правлением президента Но говорит то, что на следующих президентских выборах представитель консерваторов победил представителя демократов с разрывом в 22,6 % – это самый большой разрыв в электоральной истории Шестой республики.
Впрочем, дело в том, что бывший топ-менеджер компании «Хёндэ», а потом успешный мэр Сеула Ли Мён Бак воспринимался скорее как третья сила, потому что Ли Хве Чжан, классический политик из консервативного лагеря, который был основным соперником двух предыдущих президентов, пошел на выборы отдельно и проиграл.
Поначалу Ли Мён Бак позиционировал себя как «экономического президента», однако финансовый кризис 2008 г. подрезал его начинания, после чего Ли переместился на правоконсервативные позиции, и в межкорейских отношениях наступило существенное охлаждение.
Несмотря на то что Ли официально был самым богатым президентом РК, это не мешало ему и его семье быть вовлеченным в коррупционные схемы и при этом начать антикоррупционный процесс против Но Му Хёна, в ходе которого выяснилось, что бескомпромиссный борец с коррупцией вполне себе «инвестировал в семейный бизнес». Когда стало понятно, что арест неминуем и это дискредитирует все, что было сделано им на посту президента, Но Му Хён покончил с собой, «разбежавшись, прыгнув со скалы», и получил за это в своем лагере репутацию «невинно умученного».
В 2012 г. консерваторы смогли удержаться у власти – с небольшим перевесом в 3,5 % президентом стала Пак Кын Хе, дочь генерала Пак Чон Хи, которая изначально придерживалась более центристских позиций по отношению к Ли, но затем сдвинулась на более консервативные. От демократов баллотировался Мун Чжэ Ин, бывший глава секретариата Но Му Хёна и в чем-то его правая рука. Исход выборов был омрачен так называемым «делом троллей в погонах». Хотя Пак и Ли принадлежали к разным фракциям и, мягко говоря, не очень любили друг друга, приход к власти демократов казался большим злом, и Национальная служба разведки в нарушение законодательства повела тайную интернет-кампанию по дискредитации Муна и снижению его рейтинга. Когда масштаб вмешательств стал понятен, оппозиционная Демократическая партия начала заявлять о том, что выборы украдены, после чего расследование свернули, а прокурора Юн Сок Ёля, который вел это дело, «задвинули» в провинцию.
Хотя пропаганда демократов представляла Пак Кын Хе дочерью диктатора, в начале своего правления она была, возможно, наиболее центристски настроенным представителем консервативного лагеря. Интровертная и не очень коммуникабельная Пак оказалась в ситуации, когда оппозиция сразу объявила ей войну, а соратники по партии не менее активно ставили ей палки в колеса. Это помогло сформировать ее специфический медийный образ, из-за которого ее конфидентка Чхве Сун Силь, подруга детства и дочь руководителя псевдопротестантской секты, виделась кем-то вроде Распутина, вмешивающаяся в государственные дела и ответственная за все неудавшиеся политические решения. В сочетании с рядом неудачных внутриполитических решений и сильно ударившей по образу президента катастрофой парома «Севоль» в 2014 г. это создало предпосылки для так называемой «революции свечей», когда под воздействием массовых демонстрацией людей, возмущенных «распутинщиной», парламент объявил президенту импичмент, который на этот раз был подтвержден Конституционным судом. И хотя именно те новости, которые выводили людей на улицы, впоследствии оказались фальшивыми, это стало известно уже после того, как Пак получила тюремный срок за коррупцию, де-факто отсидев больше, чем Чон Ду Хван или Но Тхэ У.
На волне недовольства консерваторами, Му Чжэ Ин легко выиграл следующие выборы, хотя разрыв в 17,1 % все равно был меньше, чем у Ли Мён Бака. На своем посту он сумел провести существенную чистку в госструктурах (включая военную реформу), а также посадить за коррупцию не только Пак Кын Хе, но и Ли Мён Бака, причем обоим предъявлял обвинения вернувшийся в центральный аппарат Юн Сок Ёль.
Кроме этого, Мун частично несет ответственность за межкорейское потепление 2018 г., хотя оно ясно показало, что даже в обстановке максимального благоприятствования Юг воспринимает межкорейский диалог как череду церемониальных мероприятий, а не реальную помощь Северу.
Что касается внутренней политики и коррупции, история Муна и его окружения, к сожалению, оказалась историей про то, как победитель дракона стал драконом с еще большим числом голов. В результате его главным политическим оппонентом стал Юн Сок Ёль, назначенный им на должность генерального прокурора, но начавший с неменьшим рвением искать нарушения в ближнем кругу президента. Из-за этого, после долгой войны между прокуратурой и министерством юстиции, Юн ушел в отставку и далее подался в политику, примкнул к консерваторам, ввиду отсутствия иной политической силы, и выиграл президентские выборы 2022 г. с минимальный в электоральной истории разрывом в 0,73 %.
Его соперником был Ли Чжэ Мён, представитель альтернативной Муну фракции внутри демократической партии, и человек, которого называли то корейским Берни Сандерсом из-за левого популизма, то корейским Дональдом Трампом из-за одиозной репутации, включавшей в себя уголовное преследование по серии обвинений в коррупции, лжесвидетельствовании, злоупотреблении властью и т. п.
Так президентом страны в первый раз стал непрофессиональный политик, и недостатков у этого выбора оказалось больше, чем достоинств. К тому же президент был вынужден работать с парламентом, в котором с 2020 г. оппозиция имела подавляющее большинство, что позволяло отводить любые важные для власти законодательные инициативы. Демократы, воспринимавшие проигрыш как досадное недоразумение, рассчитывали набрать две трети мест в парламенте и объявить президенту импичмент. Но голосов не хватило. Итогом стал конституционный кризис, усугубившийся тем, что когда Ли Чжэ Мён получил первый обвинительный приговор, его партия должна была решить проблему с президентом до того, как вердикт утвердит Верховный суд, после чего, даже в случае условного срока, Ли потерял бы место в парламенте и право баллотироваться на государственные должности на пять лет.
В такой острой ситуации Юн, видимо, решил разрубить гордиев узел и 3 декабря 2024 г. попытался неудачно ввести военное положение. Это стало политическим самоубийством: во-первых, память о временах Чон Ду Хвана слишком жива, и военное положение вызвало резкую негативную реакцию всего общества, восприняв это как попытку переворота. Во-вторых, южнокорейская армия нынешнего времени сильно отличается от времен диктатуры, и после времен Муна не могла или не хотела выполнять приказы точно в срок. В результате парламент сумел собраться и отменить военное положение, с чем президент в итоге согласился.
В ответ 14 декабря 2024 г. парламент объявил ему импичмент, а 15 января 2025 г. глава государства был задержан по обвинению в мятеже. Новые президентские выборы, скорее всего, состоятся весной 2025 г., и автор извиняется за то, что подобно увлекательному южнокорейскому сериалу «наш рассказ обрывается на самом интересном месте».
На этом краткий (он действительно краткий!) очерк корейской истории закончен, и теперь можно переходить к основам политической культуры двух корейских государств, начав с такого важного его фундамента, как конфуцианская система ценностей.
Глава 2
«Конфуцианство для чайников» и его корейские особенности
Историки и политологи по-разному группируют характерные черты корейской политической системы, но они едины в том, что она, безусловно, складывалась под влиянием традиции конфуцианского культурного региона.
Конечно, о конфуцианстве можно рассказывать много, и я заранее отсылаю интересующихся к работам таких специалистов, как Л. С. Переломов и А. Г. Ломанов. Здесь я лишь немного скажу о нем с системной точки зрения.
Как и большинство этических учений Дальнего Востока, конфуцианство уделяло меньше внимания метафизике, концентрируясь на вопросах улучшения управления государством и жизни народа. Ориентируясь на золотой век прошлого, конфуцианцы пытались создать некий универсальный регламент правил поведения благородного мужа, привязанный к надлежащему исполнению определенных социальных ролей. Они были сведены к пяти типам взаимоотношений квазисемейного характера: начальник – подчиненный / государь – подданные, отец – сын, муж – жена, старший брат – младший брат[11] и просто друзья.
Отталкиваясь от подобных моделей, конфуцианцы пытались создать инструкцию на все случаи жизни, чтобы, столкнувшись с любой коллизией, благородный муж знал способ ее разрешения. А чтобы такая модель могла воспроизводить себя, они серьезно вложились в создание системы образования, во многом построенного на заучивании определенных паттернов и элементов. К этому добавлялась концепция меритократии, согласно которой любой талантливый человек имел бы теоретическую возможность сдать экзамены и стать чиновником.
В результате, говоря о конфуцианской политической культуре, можно выделить несколько ее характерных черт.
Представления об идеальном Порядке и Гармонии связаны не с горизонталью всеобщего равенства, а с вертикально организованной системой, выстроенной на каркасе указанных выше пяти моделей иерархических взаимоотношений. Таким образом, лозунг «Все люди – братья!» имеет иное наполнение, поскольку абстрактное понятие «брат» отсутствует: есть братья старшие и братья младшие. Требования полного равенства воспринимались как хаос и анархия, для недопущения которой следует идти на любые жертвы.
Следует отметить, что канон иерархии накладывает обязанности на обе стороны. Младший обязан слушаться старшего, старший обязан заботиться о младшем. На последнее хочется обратить особое внимание, так как «служение» предполагает взаимную заботу и налагает на начальника моральные обязательства по отношению к подчиненному.
Основной ценностью государства считаются стабильность и гармония. Поддержание таковых является более важной целью, чем индивидуальные блага отдельно взятого подданного, и обеспечивается сильной центральной властью. Статус правителя основывается на принципе Небесного мандата. Эта концепция, разработанная еще Мэн-цзы, утверждала, что право на управление Поднебесной тот или иной клан получает по воле Неба в награду за свою мудрость и моральные качества. Император подотчетен непосредственно Небу, которое выражает свое удовольствие или неудовольствие через природные явления или общее социальное положение народа. В отличие от европейской доктрины «божьего помазанника», легитимность правящего дома не вечна, и утративший мандат правитель должен быть низложен и заменен более достойным, но от легитимной и достойной своего места династии Небо не отворачивается по определению – и принципиальной оппозиции, деятельность которой направлена на изменение существующего миропорядка, у носителя Небесного мандата быть не может.
Правитель как главный распределитель Благодати наделен значительным количеством сакральных функций, но от него требуются решительные действия по ее насаждению. Именно поэтому мягкий и нерешительный правитель пользуется меньшим уважением, чем жесткий и решительный диктатор, так как внимание акцентируется не столько на страданиях народа в его правление, сколько на том, к чему это правление привело страну[12].
Вынужденное существование в рамках группы формирует систему ценностей, основанную на превалировании общества над человеком и коллектива над индивидом. Конфуцианская политическая культура исключает такие либеральные элементы политической традиции, как права личности, гражданские свободы, плюрализм или местную автономию и относится к ограничению индивидуальной свободы человека гораздо более спокойно, чем демократия западного толка. Европейское понятие «свобода», по сути, здесь отсутствует.
Меритократия тоже является одной из главных составляющих конфуцианской политической культуры. Личные качества были важнее родовитости, и теоретически любой крестьянин мог сдать государственные экзамены и стать чиновником, из которых и состояла основа господствующего класса. Отсюда повышенное внимание к образованию как к средству самосовершенствования и способу подняться вверх по политической лестнице, а также упор на создание человека нового типа не столько через изменение внешних условий, сколько через изменение его ментальности посредством политической индоктринации. Так как после долгих внутренних дискуссий конфуцианство пришло к идее, что человек по своей природе скорее добр, нежели зол, образование должно было служить способом наставления индивида в обретении добродетелей.
Правда, со временем содержание образовательного процесса стало выхолащиваться, и вместо практического знания требовалось просто заучивать наизусть тексты и помнить образцы, которым надо следовать. Типичный конфуцианский ученый не осмеливался заняться творческим поиском, ограничиваясь интерпретацией, анализом и комментированием классиков.
Важным моментом конфуцианской концепции государства является и то, что оно основано не на идее главенства закона, а на идее главенства достойных людей, которые управляют страной сообразно со своими высокими моральными принципами. Европейская концепция закона как сочетания прав и обязанностей отсутствует, и судебная функция государства воспринимается как система репрессивных действий. Это очень четко видно даже по этимологии: если латинское слово «юстиция» означает «справедливость» и предполагает, что закон предназначен для установления справедливости или защиты прав личности, то орган, выполнявший сходные с министерством юстиции функции в дальневосточной государственной системе, именовался «министерством наказаний» (кор. «хёнбу»).
Определенный изоляционизм тоже можно назвать деталью конфуцианской структуры мира, предусматривающей ограничение поездок за рубеж и контроль (а иногда и репрессии) в отношении чужестранцев, оказавшихся на территории страны. Таковой связан с геополитической моделью мира, где нет системы равноправных акторов (она исследуется только применительно к периодам Борющихся царств), но существует Срединное государство – империя, распространяющая благодать на окружающие страны и народы.
Наконец, очень важно, что в мировоззрении конфуцианцев не было такого понятия, как «материальный прогресс». История понималась ими как циклическая смена состояний гармонии и хаоса, исторический процесс интерпретировался исключительно с точки зрения усиления или ослабления роли морали, а идеал находился в прошлом. Последнее, увы, сыграло свою роль при столкновении с техническим прогрессом, важность которого была понята отнюдь не сразу.
Ясно, что, как и везде, между нормативной этикой и ее применением на практике был значительный разрыв, и добросовестное исполнение этических норм обычно не сочеталось с успешной карьерой.
Тем не менее этот раздел можно смело завершить словами южнокорейского политолога Ли Ин Сона: «Выражаясь кратко, народы, исповедующие конфуцианство, придают первоочередное значение семье, коллективизму, высшему образованию и нравственному самосовершенствованию человека… Пропагандируемый конфуцианством коллективизм в неменьшей мере способствовал тому, что население приоритетное внимание уделяло таким ценностям, как семья, работа, родина».
Перед тем, как поговорить о том, чем корейская вариация конфуцианства отличалась от китайской, отметим важность еще одного закрепляющего традицию фактора – иероглифическое письмо.
Плюсом письма такого типа является то, что текст, написанный иероглифами за тысячу лет до нашей эры, может быть прочитан нашим современником, ибо за это время могли трансформироваться начертания знаков, но не их значение: иероглифы подобны цифрам или математическим символам. «2 + 2 = 4» на разных языках звучит по-разному, но стоит написать это арифметическое действие, и его содержание будет ясно всем. Таким образом, передача информации во времени была гораздо более сохранной, ибо в процессе последовательного перевода с одного языка на другой любой текст искажается.
Но тут мы подходим к главному минусу иероглифического письма – рано или поздно число иероглифов стабилизируется, и принципиально новые знаки появляются крайне редко. Там, где в несимвольном языке можно было бы просто дать транскрипцию, в символьном приходится подбирать комбинацию примерно подходящих по смыслу знаков, вынужденно превращая «автомобиль» в «самодвижущуюся телегу». Происходит подстановка смысла, и принципиально новое понятие воспринимается не как что-то, чего раньше не существовало, а как новая комбинация старых знаков.
Когда же речь идет о философских понятиях, найти правильный символ для их обозначения еще сложнее. Характерным примером такой подстановки смыслов является слово «демократия» (кор. «минчжу»). Два иероглифа, взятых для его обозначения из «Книги песен», в оригинале означали «владыка народа» или «хозяин народа». Если же говорить о сути демократии как форме политического строя, основанного на принципах народовластия, свободы и равенства граждан, то внимательный анализ каждого из этих понятий в иероглифическом преломлении не дает нам точного перевода. Идея прямого представительства народных масс во власти в конфуцианском государстве отсутствует, а иероглифы, которые были использованы для обозначения этого понятия, «читаются» не столько как власть народа, сколько как власть во имя народа или от имени народа. Аналогичная проблема возникает и с определением понятия «свобода». Если мы внимательно проанализируем те иероглифы, которыми на Востоке обозначают это слово (кор. «чаю»), мы поймем, что буквально они переводятся «вольность» или «самоопределение».
В конфуцианской парадигме понятия «справедливость» отсутствует идея социального равенства и равных возможностей для всех, а этический аспект преобладает над социальным. То же самое касается понятий «долг», «совесть», «права», «обязанности» и т. п.
Что же до понятия «гражданин», то его иероглифический аналог «кунмин» состоит из знаков со смыслом «государство» и «народ» и может обозначать не только граждан в европейском смысле этого слова (ведь в Китае не было вольных городов и их свобод), но и народные массы вообще, а то и просто «подданных» как людей, живущих на территории данного государства. А «революция» (кор. «хёнмён») в иероглифическом прочтении превращается в «исправлять, менять [Небесный] мандат».
Из всех государств конфуцианского культурного региона Корея была связана с Китаем наиболее тесно. Объединение страны при помощи Китая закрепило ориентацию на Большого брата и относительно подчиненное положение по отношению к нему. Административное управление в провинции и система землепользования были организованы по китайскому образцу.
Во времена династии Корё (918–1392) китаизация политической системы продолжалась. В 928 г. в стране были введены государственные экзамены «кваго», что окончательно определило путь развития политической структуры страны как симбиоз чиновничества и аристократии. Власть определялась не правом рождения, а занимаемой должностью и соответствующим ей рангом. Установление централизованной бюрократической системы китайского типа окончательно завершилось только в XI в. С этого же времени начало складываться «дворянское сословие» янбанов, объединяющее гражданских и военных чиновников.
Важным для нас элементом корейской истории этого периода был мятеж монаха Мёчхона (1134), который пытался превратить Корею из вассала Китая в государство, равное ему. Опираясь на геомантические выкладки, он настаивал на переносе столицы из Кэсона в Пхеньян (бывшую столицу Когурё) и принятии ваном титула императора, но мятеж был подавлен и китаефилы окончательно утвердились у власти.
Правители династии Ли сразу же начали курс на окончательную китаизацию бюрократического аппарата. Историки считают государство Чосон, особенно в последние годы, наиболее неоконфуцианским государством, а сторонники «теории малого Китая» вообще полагали ее местом, где сохраняется «неиспорченная» традиция. Однако корейская традиция имела несколько только ей одной присущих характерных черт, отличавших ее от китайского канона.
Первой такой характерной чертой является более слабое, по сравнению с китайским, политическое лидерство корейского правителя, из-за которого ван был гораздо более стеснен в своих действиях и не имел возможности реализовывать свою абсолютную власть.
Здесь мы сразу отметим одну важную деталь. С формальной точки зрения Корея того времени была абсолютной монархией. В конце существования Объединенного Силла «правители замков» присутствовали, но в дальнейшем тенденция наличия независимых региональных властителей не закрепилась, и в эпоху Чосон никаких политических, культурных или экономических центров, кроме столицы, в стране не было.
Реальная власть вана как право «делать все что угодно» была ограничена целым рядом факторов. Обычно среди них выделяют слабую легитимность, ограничивающие влияние нормы социального поведения, слабый контроль над ресурсами и политическое соперничество янбанских фракций. Ведущую роль играли первые два.
Под слабой легитимностью, в первую очередь, понимается то, что корейский ван сам не имел Небесный мандат. Он считался вассалом китайского императора – единственного владельца этого мандата и получал от него инвеституру, каковая воспринималась в качестве финального этапа легитимизации корейского правителя, а не как документ, который приводил его к власти.
Отметим, что получение ваном инвеституры или лишение ее никогда не было для Китая средством политического давления. С практической точки зрения Корея была абсолютно независимой в своей внутренней политике, и ван мог делать на своей территории все что угодно, при условии, что он контролирует ситуацию внутри страны и не выказывает нелояльности по отношению к императору.
Слабость вана как политического лидера заключалась и в том, что, формально считаясь абсолютным монархом, он не был свободен от конфуцианских норм поведения и был связан по рукам и ногам серией обязательных ритуалов и предписаний. И. Бишоп обращает внимание, что ван почти не имел личного пространства и частной жизни в европейском понимании этого слова и практически не покидал пределы дворцового комплекса.
Возможность кардинально менять что-то в государстве также была ограничена. Ван не мог назначить или сместить чиновника без санкции министерства чинов. Цензорат был вправе критиковать деятельность вана, секретариат – управлять содержанием его указов, и если, с точки зрения ретивого конфуцианского чиновника, правитель пренебрегал нормами морали, дамоклов меч обвинения мог нависнуть даже над ним. Таким образом, бюрократия не столько проводила в жизнь решения вана, сколько превращала его в собственного пленника, хотя при этом монарх формально все же должен был проявлять решительность.
Надо отметить и характерное для корейского конфуцианства явление, при котором почтительность (кит. «сяо»[13]) стала считаться более важной, чем верность (кит. «чжун»). В результате характерной чертой корейского конфуцианства был приоритет сыновней почтительности над верностью государю. Взгляд на страну как на семью не способствовал укреплению вертикали власти, поскольку при сохранении иерархической системы «ближний круг» оказывался важнее, а это провоцировало регионализм, протекционизм, коррупцию и фракционную борьбу.
Слабость двора обуславливала и фракционное соперничество феодальных группировок. Уровень сложности феодальной интриги при этом был невелик и сводился или к террору, или к физическому уничтожению противников, или к писанию доносов, обвиняющих в моральном разложении или неправильном понимании конфуцианских догм и очерняющих их, таким образом, в глазах правителя.
При этом фракционная борьба сопровождалась своего рода «фракционной близорукостью», при которой на первом месте были не интересы страны, а обеспечение безбедного существования отдельно взятых фракций, ни одна из которых не была, однако, заинтересована в изменении всей структуры власти. Кроме этого, такое соперничество вынуждало бояться потерять свое место, что провоцировало желание выжать из своей должности максимум власти и доходов для себя.
Интересно, что ряд современных историков усматривает в слабости корейского правителя «исторические корни корейской демократии». Представляется, что желаемое выдается за действительное, а слабость центральной власти говорит скорее о несовершенстве аппарата, что не имеет ничего общего с демократией как с традицией народного представительства.
Вторая черта – более высокий уровень корпоративности правящего сословия. Круг людей, имевших доступ к большой политике, был очень ограничен. Ян Сын Чхоль ссылается на статистические данные, которые говорят о том, что правящая элита составляла примерно 1 % от общей численности населения. Силла и Корё были сословными государствами, и даже введение системы государственных экзаменов ситуацию не изменило. При династии Ли произошло окончательное слияние аристократов и чиновников. Янбаны превратились в закрытое сословие и, несмотря на формальный меритократический принцип организации власти, монополизировали право занятия чиновничьих должностей – даже их незаконнорожденные дети от наложниц (кор. «сооль») уже не относились к аристократии и не имели права сдавать экзамены на чин.
Сословные права и ограничения в Корее строго соблюдались вплоть до конца XIX в. Простому народу запрещалось жить в домах больше определенного размера, носить одежду из шелковой ткани и кожаную обувь. Требования янбана должны были выполняться, а представителям низших сословий вменялось в обязанность при встрече с ним совершать поясной поклон.
Прослойки, способной конкурировать с аристократами, при этом не было. В рамках традиционной политической культуры не существовало ни харизматического лидера, способного подняться «из грязи в князи» только за счет личных качеств, ни такого понятия, как интеллигенция. Сидение в глуши и писание трактатов было времяпрепровождением для тех, кто находился в опале и рассчитывал таким образом привлечь к себе внимание.
О судьбе незаконнорожденных отпрысков знатных фамилий расскажем подробнее. Многие, наверно, помнят фильм «Хон Гиль Дон», повествующий об участи незаконнорожденного сына знатного дворянина. Проблема таких детей была действительно очень важной и очень болезненной, и автор известного широкому читателю «Сказания о Хон Гиль Доне» поплатился головой за это произведение, которое было воспринято наверху как жесткая социальная сатира. Хотя в действительности большинство незаконнорожденных детей янбанов уходило не в разбойники или даосские маги, а пополняло ряды так называемых «чунъин», что часто переводят как «средний класс», однако надо знать, что они составляли около 1 % населения. Чунъин были врачами, переводчиками, юристами и в условиях конфуцианской системы играли роль как бы «технических специалистов», характер знаний которых имел меньший приоритет, чем умение цитировать на память конфуцианские трактаты.
Бюрократический аппарат, структура которого не особенно менялась со времен Корё, был достаточно развит. Ли Ён Хо определяет количество чиновников времен поздней династии Ли в 14 тыс. человек. Цифра эта кажется невысокой, но дело в том, что чиновники редко удерживались на своих постах длительный срок. Г. Хендерсон приводит несколько примеров, из которых наиболее ярким является тот, что за 518 лет правления династии Ли губернатор Сеула назначался 1375 раз, 5 сеульских градоначальников были сняты в день назначения, 10 пробыли на этом посту два дня, а 11 – целых три. Примерно такая же министерская чехарда была характерна для всех высших постов. Это было связано как с практикой недоверия, так и с тем, что занявший хотя бы на месяц престижный пост чиновник получал полный набор прав и привилегий, связанных с полученным рангом, в том числе право занимать посты, для которых наличие этого ранга было обязательным. Отсюда – желание властей «пропустить» через высшие должности как можно больше дворян, дав им таким образом возможность подтвердить свой привилегированный статус.
Оставляя в стороне критику таких кратковременных назначений, обратим внимание на еще один из ее корней – конфуцианскую традицию, в рамках которой считалось, что человек, обладающий высокими добродетелями, мог одинаково хорошо руководить чем угодно. Специализированной, отраслевой подготовки чиновников не было. Чиновника, как гражданского, так и военного (большая часть военной карьеры адмирала Ли Сун Сина прошла не во флоте), могли свободно перебрасывать с одного направления деятельности на другое. Как следствие этого незаменимых людей или узких профессионалов в той или иной области не было.
Подытоживая, хочется отметить, что корейская бюрократическая система обладала рядом структурных проблем, связанных как с низким средним качеством чиновников (подготовка которых эволюционировала в сторону подготовки начетчиков), так и с перекрытым социальным лифтом. Не работала и система обратной связи, которая формально существовала в форме секретных инспекций. В отличие от коллизии из «Повести о верной Чхунхян», в реальной Корее тайный ревизор был самым ненавидимым типом чиновника, который обычно сразу же являлся к губернатору провинции, предъявлял полномочия и объяснял, сколько стоит его положительный отзыв.
Третьей чертой можно назвать внешнюю зависимость, преувеличенную тягу к копированию внешних образцов и определенное упование на помощь сюзерена. В традиционной Корее таким сюзереном, безусловно, был Китай. Однако после открытия страны у нее появились новые «образцы для подражания».
Четвертой чертой я назвал бы ослабленную роль военных, которая была вызвана как конфуцианским отношением к войне (решать проблемы военными методами считалось моветоном), так и внутренней ситуацией, когда в условиях той политической стабильности, на фоне которой существовала династия Ли[14], армия была нужна или для подавления крестьянских бунтов, или служила лейб-гвардией, находящейся в столице для предотвращения (или осуществления) дворцовых переворотов. В случае же более серьезной угрозы всегда можно было попросить о помощи «старшее государство», как это было, например, во время Имчжинской войны.
Так как страна не испытывала постоянной военной угрозы, не было необходимости поддерживать и постоянно высокий уровень боеготовности. Более того, отсутствие всякой серьезной военной активности порождает иллюзии отсутствия необходимости в активной и боеспособной армии, а воинская традиция останавливается в своем развитии.
Несмотря на воспитание, Пак Чон Хи не был убежденным поклонником конфуцианства и не пропагандировал это учение в качестве главной причины экономического прогресса Кореи, как это делал, например, президент Сингапура Ли Куан Ю. К конфуцианским правилам и церемониям Пак относился довольно пренебрежительно, а в его работах (особенно первых лет) можно встретить критику конфуцианского догматизма как одной из причин отсталости страны. Однако он же говорит и о важности коллективизма, и о внимании к таким важнейшим для конфуцианства добродетелям, как преданность государству и сыновняя почтительность, которые, по его мнению, прекрасно вписываются в современные стандарты этики.
Чон Ду Хван критиковал Запад и США, где закон вытеснил моральные нормы и ценности, остающиеся приоритетными для корейского общества, однако, с точки зрения обращения к традиции, скорее покровительствовал «родноверам». Похожие заявления проявляются и у Ким Ён Сама, который говорил о том, что демократизация вызвала «фонтанообразный „выброс“ экономических нужд и требований и взрыв группового эгоизма», и чрезмерный акцент на достижение индивидуальных устремлений в ущерб общественным должен быть ликвидирован. Демократию Ким Ён Сам рассматривает тоже в традиционных конфуцианских терминах: демократичное общество в его представлении – то, где «воля народа» отождествляется с «волей небес».
Ким Дэ Чжун часто воспринимается как противник концепции «азиатских ценностей», которые он называл мифом, выдвинутым противниками модернизации стран Азии, но проведенный М. Резановой анализ его публицистики позволяет увидеть, что его протест вызывали не азиатские ценности, а их тенденциозное противопоставление ценностям общечеловеческим. Более того, с его точки зрения, все те черты, которые приписываются конфуцианству (склонность почитать правителей и презирать простой народ, стремление к жесткой иерархичности и т. п), на самом деле ему не свойственны[15].
В конце ХХ в. место конфуцианства и его соотношение с корейским национальным характером стали темой широких дискуссий. Где-то критике подвергалось не конфуцианство как таковое, где-то некие морально устаревшие элементы общества, тормозящие его развитие по пути демократии и глобализации.
С точки зрения профессора политологии университета Ханъян Ян Гына, набор ценностей, характерный для конфуцианской культуры, был самым большим препятствием на пути развития по этому пути: именно неприязнь конфуцианского менталитета к «деланию денег» и его невнимание к военным делам помешали Китаю, в отличие от Японии, развиться в сверхдержаву. Ян указывал, что, хотя государственная система РК сейчас построена на следовании европейской традиции, мысли и действия субъектов этой системы демонстрируют приверженность традиционной политической культуре, построенной на дискриминации, связанной с регионализмом, образованием и личными связями, которые сковывают движение общества вперед.
Несколько иное мнение о конфуцианских добродетелях, высказанное известным адвокатом и журналистом Чун Сон Чхолем, заключалось в том, что эта система ценностей традиционно ставит верность системе выше рациональности, а интересы группы выше интересов отдельной личности. Помощь человека человеку в рамках системы воспринимается как естественный долг, даже если это выглядит (или является) нелегальным актом или проявлением коррупции. Новая эра ставит на первое место индивидуализм и независимость личности от системы, абстрактные интересы страны оказываются выше, чем интересы узкого круга (семьи), и новое понятие честности отличается от традиционного понятия искренности. Умение находить нестандартные решения и творческое мышление важнее, чем общий высокий уровень знаний. Поэтому дело не столько в том, что отжили старые ценности, сколько в появлении новых. И главное – суметь творчески воспринять их, не потеряв свою национальную культурную идентичность.
Особенно много шуму наделал вышедший в 1999 г. бестселлер профессора университета Санмён Ким Гён Иля «Конфуций должен умереть, чтобы страна жила», где автор утверждает, что благодаря конфуцианству «мы… превратились в затоптанных „корейцев-конфуцианцев“ с промытыми мозгами, мы отстали от мира на 100 лет…» Однако, как отмечает Татьяна Габрусенко, идеи Кима «фактически повторяли все претензии к этой стране приезжих преподавателей английского, сердитых на Корею за то, что она – не 51-й американский штат»: роль конфуцианской традиции в экономическом чуде РК он игнорирует.
В рамках этой же дискуссии поднимался и вопрос о том, насколько действительно конфуцианство проникло в корейский национальный характер. Дескать, конфуцианская надстройка над природными особенностями корейской ментальности искусственно подавляла именно те черты, которые способствуют повышенному восприятию западных ценностей, и что, когда конфуцианские оковы окончательно падут, новое поколение корейцев взрастет на той самой протестантской этике, которая в свое время привела Европу к прогрессу.
По свидетельству ряда молодых ученых или публицистов РК (Ли Вон Бока и др.), в корейском национальном характере достаточно много черт, сочетающихся с западной моделью ценностей: корейцы более эмоциональны, более прагматичны, в значительной мере придерживаются горизонтального мышления, близкого к западному пониманию эгалитаризма («если это есть у него, это должно быть и у меня»), отличаются высоким мотивом достижения и, если отбросить конфуцианское напластование, определенной долей индивидуализма. Возможно, считают они, еще и поэтому Корея оказалась наиболее европеизированной страной на Дальнем Востоке.
Однако ряд других моих собеседников, признавая наличие у корейцев этих качеств, придерживался более скептической точки зрения. Так, политолог Ом Гу Хо, оценивая корейцев как нацию эгоистов, не видит в этом эгоизме фундамента для перестройки общества. В отличие от Японии, где действительно развит коллективизм, кореец помогает другим, только если уверен, что потом помогут ему. А такой подход не может обеспечить сплочение сил многих людей, необходимое для рывка. Кроме того, по мнению Ома, если прорыв в западной культуре был связан с сочетанием в ней эгоизма с рационализмом, в Корее эгоизм накладывается на иррациональность традиционного сознания, а также – на отсутствие такого важного элемента, как гуманизм.
И хотя в начале нулевых «три принципа и пять отношений» проходили в школе, конфуцианцами школьники и студенты себя не считали, и Габрусенко указывала, что в устах корейского студента того времени «слово „конфуцианский“ звучит часто как „домостроевский“, „кондовый“ („профессор у нас очень конфуцианский“, „он к женщинам относится по-конфуциански“)». При этом конформизм сохранялся, и студенты, критикующие такого профессора перед иностранцами, в общении с ним соблюдали весь приличествующий пиетет.
Важным элементом «деконфуцианизации РК» были реформы Но Му Хёна в сфере образования, когда, во-первых, 21 января 2003 г. был отменен предмет «начальная военная подготовка» и сокращено количество часов на «этику», а во-вторых, реформировал преподавание китайских иероглифов. Вообще, количество иероглифических знаков, обязательных к изучению в школе, было значительно сокращено, а там, где можно использовать хангыль, стараются писать на хангыле. Последнее автор считает очень важным шагом в стремлении властей разорвать связь с традицией: уход от иероглифов и форсирование интереса к английскому языку вплоть до насыщения корейского языка англицизмами – один из способов пропаганды новой политической культуры через подмену понятийного аппарата.
С этого времени начало сокращаться и число иероглифов в тексте[16], и меняться транскрипция. Так, если ранее китайские имена и географические названия (для примера – «Си Цзиньпин» и «Шанхай») на корейском записывались в соответствии с корейским произношением соответствующих иероглифов («Со Гымпхён» и «Санъхэ») к нынешнему времени преобладает запись «как слышится» («Сси Ччинпхин» и «Ссянхаи»).
Дискуссии о том, как сохранить конфуцианство, активно велись и 2020-е гг., причем такие участники обсуждения, как почетный профессор корейского, азиатского и ближневосточного языков в университете Бригама Янга в Юте Марк Питерсон, пытаются привязать его к современной «повестке». По мнению автора, «до определенного момента в конце XVII века корейское конфуцианство не было частью общества, в котором доминировали мужчины», но затем включило в себя «принципы патрилинейности и мужского доминирования». Если конфуцианство из религии снова превратится в идеологию, в центре которой снова окажутся верность, уважение к старшим и культ образования, у него есть шанс найти признание в обществе нового века.
Что-то меняется и на уровне нормативных актов. 27 июля 2024 г. Конституционный суд отменил статью уголовного кодекса, которая во имя укрепления семейных традиций автоматически прощала имущественные преступления, совершенные против ближайших членов семьи.
В современных материалах, попадающихся автору, о конфуцианской культуре говорят в основном в негативном ключе. Включая заявления о том, что «конфуцианство привело к падению нашей страны», «традиционное общество подавляло деятельность женщин из-за конфуцианства» или «конфуцианская иерархия антидемократична и контрпродуктивна». Даже после попытки Юн Сок Ёля ввести военное положение публицисты задавались вопросом, «может ли это быть связано с конфуцианской иерархической культурой, которая, по-видимому, все еще доминирует в сознании корейцев, с чрезмерно конкурентной атмосферой в южнокорейском обществе, разочарованиями, вызванными экономическим неравенством, и отсутствием уважения к закону»?
Ответ на вопрос в конце предыдущего раздела на самом деле заставляет задуматься. С одной стороны, о конфуцианском наследии продолжают говорить, а конфуцианский университет Сонгюнгван продолжает активно функционировать. С другой, по ощущениям автора, реальное конфуцианское наследие во многом выветрилось, и штамп «Южная Корея – общество, построенное на конфуцианских ценностях», к 2025 г. устарел и не объясняет нынешнего положения вещей.
Конечно, количество людей, которые «придерживаются конфуцианского мировоззрения в современной РК», сложно посчитать, особенно с учетом синкретизма. Однако по данным опросов 2018–24 гг., протестанты составляют 20 % населения, католики 11 %, буддисты 17 %, неверующие 51 %. Это уже говорит о доминировании условно христианской морали или светской этики.
По мнению автора, после 2003 г., когда отменили иероглифику и изменили содержание курса этики в школе, механизм воспроизводства традиционных/конфуцианских ценностей дал сбой, и от них остается только внешняя форма[17]. В современной жизни мы, таким образом, имеем дело с поколением 30–40-летних людей, которые учились по иным лекалам и воспитаны в иной этической системе.
Апеллирование к конфуцианским ценностям в этой среде имеет чисто шаблонный или рутинный характер, ритуалы исполняются по привычке и без понимания, а паттерны отношений наполняются новым содержанием, и вместо прежней модели, которая накладывала моральную ответственность на обе стороны, происходит следующее.
– В отношениях начальника и подчиненного появляется то, что в РК называют «капчжиль», который автор условно называет «административным садизмом» (синдром вахтера – лишь одно из проявлений, речь о получении удовольствия от унижения подчиненных).
– В отношениях мужа и жены все больше встречается домашнее насилие, которое становится системной проблемой.
– Отношения сонбэ – хубэ скорее стали аналогом армейской дедовщины, при которой сначала гоняют тебя, а потом гоняешь ты, отчего буллинг в школе и университете тоже стал рассматриваться как проблема национального уровня.
Более подробно об этих проблемах мы будем говорить во втором томе, но уже сейчас надо отметить, что каждая из этих проблем воспринимается в обществе как весьма серьезная.
Глава 3
Эволюция государственного строя Севера и Юга
Разделение страны и «синдром огненного кольца» в значительной степени помогли укреплению авторитарных тенденций по обе стороны 38-й параллели, ибо постоянная близость врага, необходимость действовать военными методами и приносить в жертву личное благосостояние во имя процветания страны требовали структур управления, естественно предполагающих ограничение свободы.
До начала демократических преобразований взаимоотношения власти и закона в Южной Корее имели следующие особенности. Закон находился в подчиненном положении, и меняющаяся власть каждый раз подстраивала его под себя, легитимизируя свои инновации. Иными словами, не президент руководил страной согласно существующей конституции, а конституция переделывалась под президента. Большинство изменений касалось в основном формы правления, системы выборов президента, меры его власти и сроков его полномочий. За время существования Республики Корея было принято шесть небольших по объему конституций, по числу которых и ведется счет республикам (при том, что на правление Пак Чон Хи приходилось две конституции[18]).
Согласно конституции Первой республики президент и Национальное собрание были наделены равными полномочиями, но затем различные поправки усилили власть президента. Первые из них были приняты в 1952 г. (введение прямых выборов, освобождение президента от прямой ответственности перед парламентом), а затем – в 1954 г. (отмена ограничений на число президентских сроков и право президента лично контролировать деятельность всех министров и государственных учреждений).
Редакция конституции 1960 г. создала основу для Второй республики, которая установила парламентское правление по типу Великобритании или Западной Германии, снова сведя роль президента к церемониальной. Он считался главой государства, но исполнительной властью не обладал.
Согласно конституции Третьей республики президент наделялся самыми широкими полномочиями и избирался прямым голосованием сроком на четыре года, но не более чем на два срока подряд. Однако, отбыв два срока, Пак Чон Хи сначала стал добиваться права на третий, а после победы на выборах 1971 г. совершил конституционный переворот Юсин. На его фоне в конституцию были внесены поправки, которые предусматривали увеличение срока президентства до шести лет, косвенную систему его избрания при помощи выборщиков, неограниченное количество переизбраний, наделение главы государства правом распускать парламент, назначать кандидатов в Национальное собрание через так называемое «собрание выборщиков». Таким образом, конституцию Четвертой республики 1972 г. можно считать «суперпрезидентской».
Конституция Пятой республики 1980 г. создавалась для того, чтобы не допустить прихода к власти второго Пак Чон Хи (впервые президент избирался всего на один срок, хотя этот срок составил семь лет и избирала его коллегия выборщиков). Тем не менее, несмотря на демократические формулировки и заявленные права и свободы, власть президента была существенно усилена. В случае, если в конституцию все-таки нужно было внести изменения, касающиеся продления срока полномочий президента, они не могли применяться по отношению к действующему президенту, а только к последующим. Президент мог распустить парламент, но парламент мог отправить в отставку Кабинет министров. Однако, пока парламент не приступил к выполнению своих обязанностей, законы принимал специальный Совет по национальной безопасности, возглавляемый президентом. В результате президент имел возможность менять политическое положение в стране в любую выгодную ему сторону.
Даже согласно относительно либеральной по сравнению с предшествующими конституции 1987 г. президент – символ и представитель нации, глава администрации и руководитель Государственного совета, главнокомандующий вооруженными силами страны (хотя решение об объявлении войны или отправке войск проводится через парламент), непосредственно отвечает за внешнюю и внутреннюю политику, но избирается прямым голосованием на один пятилетний срок без права переизбрания, что делает невозможными попытки удержаться у власти.
Президент может неограниченное число раз накладывать вето на законы, которые проводит парламент, может назначать министров (но не премьера) без одобрения парламента и наделен правом назначать трех из девяти членов Конституционного суда (остальных назначают председатель Верховного суда и парламент).
С другой стороны, согласно ст. 61 Основного Закона за нарушение конституции и законов при исполнении служебных обязанностей президент может подвергнуться импичменту. При этом парламент может объявлять его не только президенту двумя третями голосов парламента, но и премьер-министру, членам Государственного совета, министрам, судьям и другим должностным лицам, для чего требуется простое большинство голосов.
Президент не может создать новый или ликвидировать существующий правительственный орган, даже во внешней политике его действия ограничены. В соответствии со ст. 60 и 61 конституции парламент должен утвердить не только военное положение, объявление войны или направление вооруженных сил РК за границу, но и иные законы, влияющие на суверенитет страны или налагающие на нее существенные обязательства.
Парламент (Национальное собрание) на данный момент включает в себя 300 депутатов (число зависит от населения страны), большинство которых – депутаты-одномандатники, но 46 идут по партийным спискам.
Решения преимущественно принимаются простым большинством в минимум 50 % + 1 голос. Две трети депутатов требуются для импичмента, поправок в конституцию или преодоления президентского вето при попытке повторно провести отведенный им закон.
Парламент может принимать решения по кадровым вопросам, однако де-юре они носят только рекомендательный характер и формально президент не обязан к ним прислушиваться. Обязательного одобрения требует только кандидатура премьер-министра. Иное дело, что действия наперекор парламенту могут быть восприняты как противодействие воле народа и его избранников.
Спикер Национального собрания избирается на два года, и на это время его членство в политической партии приостанавливается. Он не может руководить ею, даже если делал это ранее.
Депутатам запрещается занимать посты в государственных учреждениях. Они обладают неприкосновенностью, но иммунитет распространяется на них лишь во время парламентских слушаний и то за исключением особо тяжких преступлений. Арестовать депутата во время сессии можно только с одобрения парламента, причем на сессии должно присутствовать больше половины членов Национального собрания. Для этого министр юстиции должен получить разрешение от президента и премьер-министра и направить в Национальное собрание специальное письмо, и в случае, если после обсуждения этого письма Собрание даст «добро» на арест своего члена, ведущий его дело судья должен вызвать депутата к себе и окончательно убедиться в необходимости заключения его под стражу.
Ни у президента, ни у Конституционного суда нет конституционных возможностей распустить парламент или досрочно прекратить его полномочия. Профессор политологии Сеульского национального университета Кан Вон Тхэк в связи с этим указывает, что «когда между президентом и Национальным собранием возникает конфликт, президентской системе не хватает институциональных механизмов для разрешения таких споров. Когда эти конфликты обостряются, законодательный орган может добиваться импичмента президента, в то время как президент может рассмотреть возможность использования военной силы…».
Добавим к этому, что если президент избирается на пять лет, то парламент на четыре, отчего президенту зачастую приходится иметь дело с парламентом, расклад сил которого отражает ситуацию прошлых лет.
Главным исполнительным органом страны является Госсовет. В него входят президент (его председатель), премьер-министр (вице-председатель) и руководители других общенациональных министерств и ведомств. Премьер назначается президентом с одобрения Национального собрания, а члены Госсовета – президентом по рекомендации премьера. Функции премьер-министра, таким образом, сводятся к организации общего планирования и координации действий членов Госсовета.
При неизменной роли президента премьер часто выступает «мальчиком для битья», и два года на должности для южнокорейского премьера – почтенный срок.
Министры в РК тоже меняются достаточно часто – в период между августом 1948 г. и апрелем 1969 г. сменилось 19 министров образования, причем только четверо из них продолжили линию своего предшественника. Но, что при Но Му Хёне, что при Ли Мён Баке, средний срок пребывания министра на своем посту составлял 13–14 месяцев. Ситуацию отчасти спасает то, что министр является политическим назначенцем, который отвечает за «линию партии», а обеспечение функционирования структуры лежит на профессиональных бюрократах.
Существует несколько управлений и комитетов, имеющих права министерств, в том числе – Комитет контроля и инспекции (при Ким Ён Саме преобразован в Бюро аудита и инспекции), занимающийся надзором за деятельностью государственных структур, инспекцией компетентности и правильности поведения госслужащих. По своему месту в системе он является не столько «второй прокуратурой», сколько аналогом Комитета партийного контроля при ЦК КПСС или традиционных конфуцианских учреждений, призванных надзирать за моральными качествами чиновников. Хотя палата формально не является силовой структурой, проводимые ею расследования (например, по фактам коррупции или злоупотребления властью) становятся основанием для возбуждения уголовных дел.
Важную роль играют и структуры власти или при власти, связанные с главой страны. В правление Пак Чон Хи аппарат президента, роль и функции которого были скопированы с Белого дома США, играл роль второго Кабинета министров. Президент же возглавляет Совет национальной безопасности (СНБ), который состоит из восьми членов[19] и координирует все виды деятельности, связанные с национальными интересами.
Особенным элементом южнокорейской структуры министерств является созданное Пак Чон Хи министерство по делам воссоединения, курирующее блок отношений с КНДР и подчеркивающее особый характер межкорейских отношений, исключающий взгляд на Север как на «другое государство на Корейском полуострове». Сюда же относится такой элемент системы, как Управление пяти провинций – практика назначения чиновников на «виртуальные» должности губернаторов провинций, «временно оккупированных Севером».
И если КНДР к настоящему времени отказалась от претензий на объединение, признавая существование на полуострове двух враждебных государств, ст. 3 конституции Юга определяет территорию PK как территорию всего Корейского полуострова. КНДР фактически рассматривается как незаконное государственное образование. А ст. 4 обязывает государство стремиться к объединению страны в соответствии с принципами свободы и демократии.
В конституции РК, так же как в советской, есть не только глава, посвященная правам граждан, но и глава об их обязанностях. Это важно, так как в государствах с «развитой демократией» такого раздела в Основном Законе страны нет. Среди прав стоит отметить отсутствие государственной религии и свободу вероисповедания (ст. 20), формальное отсутствие цензуры (ст. 21)[20] и обязанность родителей давать детям хотя бы бесплатное образование (ст. 31).
Отстранения президента от власти, которых в Шестой республике было целых ТРИ, заслуживают отдельного раздела, потому что, с одной стороны, импичмент показывает, что в Южной Корее начали работать предусмотренные конституцией демократические механизмы, а с другой – процедура импичмента стала инструментом в руках политиканов.
В 2004 г. внешне все выглядело следующим образом. После того, как президент Но Му Хён нарушил конституцию и открыто высказался в поддержку новой пропрезидентской партии, а его окружение оказалось вовлеченным в серию коррупционных скандалов, две оппозиционные партии, ранее бывшие политическими противниками, сумели объединиться и конституционным путем отрешили его от власти…
Однако на деле все сложнее – внутри правящей Демократической партии нового тысячелетия было несколько фракций, но основная борьба шла между старой гвардией Ким Дэ Чжуна (фракция Тонгё) и сторонниками Но. Сразу после победы Но Му Хёна на президентских выборах Ким Дэ Чжун как бы сам распустил фракцию Тонгё в обмен на обещание Но не отступать от основных постулатов политики Кима.
Это предполагало, что новый президент не будет устраивать масштабных чисток, однако они произошли, и под удар в основном попали представители Тонгё[21], после чего репрессии в отношении старых членов партии воспринимались целым рядом респондентов автора как предательство по отношению к тем, кто ввел его во власть.
Затем Но вышел из рядов Демократической партии и создал собственную партию «Ёллин Ури», куда вслед за ним ушли все молодые реформаторы. И когда на фоне ряда непопулярных решений власти (включая отправку корейских войск в Ирак) в преддверии парламентских выборов апреля 2004 г. Но в нарушение конституции открыто выразил поддержку своему детищу, парламентское большинство предложило объявить ему импичмент, за который 12 марта 2004 г. высказались 193 законодателя из 273.
Как видно из итогов голосования, две трети набрали еле-еле, так как кредит доверия Но исчерпан не был. Более того, 75 % населения поддержали президента, который развернул ситуацию в свою пользу и представил дело так, что импичмент – это попытка консервативных сил затормозить его прогрессивный курс. К тому же, против импичмента выступили и те ревнители традиции, для которых свержение главы государства есть большее покушение на миропорядок, чем те обвинения, которые стали ему причиной.
В результате решение парламента было воспринято как политическая месть с использованием демократических ресурсов государства, а не как желание укрепить демократию. К тому же, 15 апреля 2004 г. должны были пройти выборы в парламент, и Конституционный суд не спешил с вердиктом, ожидая их итога.
Новый парламент радикально отличался от старого – «Ёллин Ури» обрела 152 мандата из 299, причем голосовали не столько за новую партию власти, сколько против старых политиков. В такой ситуации 14 мая 2004 г. Конституционный суд вернул Но Му Хёна во власть, а «придворные» аналитики РК описывали «синдром президента из народа», делая акцент на том, что успех Но в процессе неудачного импичмента убедил простых граждан в торжестве демократических идеалов, показав, что власть может на самом деле принадлежать народу, а не только элитным слоям общества. На деле Но Му Хёну позволили удержаться на плаву изменение политической конъюнктуры и неиспользованный кредит доверия.
В 2016 г. положение Пак Кын Хе с самого начала было сложнее, чем у Но Му Хёна. Кандидатом в президенты Пак Кын Хе оказалась не столько потому, что она была женщиной или дочерью Пак Чон Хи, сколько потому, что остальные лидеры фракции уже побывали президентами либо были заведомо непроходными из-за их радикальной и одиозной позиции.
Хотя в начале своего президентского срока по своим политическим взглядам Пак была наиболее умеренным из лидеров консерваторов, левое крыло парламента наотрез отказывалось сотрудничать с ней по любым вопросам, а большинство в правом лагере торпедировало ее проекты с более консервативных позиций.
Кроме того, если в 2004 г. импичмент прошел в преддверии новых парламентских выборов, отчего воспринимался и как «попытка старого парламента хлопнуть дверью в бессильной злобе», ситуация 2016 г., наоборот, развернулась после весенних парламентских выборов, на которых оппозиция получила большинство голосов.
Накопление недовольства также было более высоким. К концу 2016 г. Пак восстановила против себя значительную часть населения, а ее кредит доверия почти исчерпался. Сказались и действия ангажированных СМИ, и ряд непродуманных и непопулярных решений, и личный стиль руководства. Пак не проводила популистскую политику, и наоборот, многие ее попытки решить насущные проблемы вызывали общественное неприятие. А ее «нежелание слушать», во многом связанное с ее интровертным характером, подавалось как игнорирование требований народа.
Таким образом, к моменту, когда разгорелся скандал вокруг Чхве Сун Силь, у корейцев «накипело» значительно больше. К тому же, «змее быстро пририсовали ноги», и как правая, так и левая пресса обнаруживали «ее вмешательство» в каждом громком скандале, формируя нарратив, что президентом манипулировала неграмотная шаманка, которая своими решениями довела страну до ручки. Замечу, правые подхватили его еще охотнее, чем левые, поскольку это позволяло списать все неудачи правительственного курса на «злокозненную шаманку» и вывести из-под удара действительных авторов неудач.
Помимо этого, масла в огонь добавила старательно раздуваемая тема семичасового отсутствия президента во время трагедии парома «Севоль», отчего к Пак Кын Хе появилась серьезная этическая претензия: «Пока наши дети гибли, президент была на любовном свидании/совершала вместе с Чхве шаманские ритуалы/делала косметические процедуры…»[22].
Если же отсечь фальшивые новости, основания для импичмента президента формально были. Подтвердилось, что с января 2013 по апрель 2016 г. ее близкая подруга Чхве Сун Силь с ведома Пак получала конфиденциальные документы, касающиеся в том числе содержания заседаний Кабинета министров или расписания зарубежных поездок президента. Таким образом, был нарушен закон о гражданской службе.
Так как пропрезидентская точка зрения практически не была представлена в СМИ[23], вывести на улицы значительные массы народа не составило труда, и число участников еженедельных демонстраций за отставку Пак даже по самым скромным подсчетам достигало нескольких сотен тысяч человек только в Сеуле. Такой размах требований игнорировать было уже нельзя, и оппозиция и недруги президента в правящей партии поставили вопрос об импичменте.
В ответ Пак намекнула о возможности почетной отставки, рассчитывая на то, что это утихомирит хотя бы правых. Однако фракционная борьба оказалась сильнее стратегических соображений. Тем более что ряд консервативных политиков разумно решил, что раз погасить скандал не удастся, то необходимо максимально отстраниться от Пак, критикуя ее еще громче, чем оппозиция. В результате голосование за импичмент 9 декабря 2016 г. прошло с более разгромным для Пак счетом, чем голосование 2004 г., – 234 голоса «за», в том числе 171 голос оппозиции.
10 марта 2017 г. Конституционный суд РК подтвердил импичмент. Судьи с самого начала подчеркивали, что это не уголовный процесс, и политическая конъюнктура / общая атмосфера в стране будет ими учитываться. Потому неудивительно, что все заседание уложилось в 25 минут и судьи проголосовали единогласно.
В обвинительное заключение, однако, вошло далеко не всё – «преступное бездействие при крушении парома „Севоль“» оказалось среди отвергнутых, как и наиболее громкие обвинения типа «Пак изменила политический курс, потому что шаманка рассказала ей про свои видения».
В 2024 г. оппозиция начала требовать импичмента еще до попытки Юна ввести военное положение, пытаясь повторить сценарий 2016 г. Ассоциированные с демократами НГО засыпали парламент петициями, благо для успешного голосования от консерваторов надо было «отколоть» всего 8–9 голосов. Подконтрольные СМИ усилили кампанию по демонизации Юна и его первой леди, и хотя прямых улик не было, «народ» требовал специального прокурора, а в правящей партии по этому проявились разногласия между президентом, считавшим, что, раз улик нет, нет смысла в расследованиях и извинениях, и руководителем правящей партии Хан Дон Хуном, полагавшим, что официальное расследование очистит репутацию и уберет почву для компрометирующих слухов.
Параллельно парламент попытался провести импичмент целой группы официальных лиц, среди которых были генеральный прокурор, министр обороны, глава Бюро аудита и инспекции, министр внутренних дел и чиновники рангом ниже. Как правило, объектом импичмента становились представители силовых или контролирующих структур, которые либо представляли угрозу для председателя Ли, либо отказывались «копать» под президента. Поводы часто были надуманными, символическая ответственность мешалась с реальной, и в этом случае характерен кейс министра внутренних дел Ли Сан Мина, которого импичментировали после массовой давки в столице. Однако 25 июля 2023 г. Конституционный суд восстановил его в должности ввиду отсутствия реальной вины.
В итоге, по мнению автора, неготовый к такой стрессовой ситуации Юн сорвался, после чего у оппозиции появился вполне официальный повод для импичмента. К тому же руководство консервативной партии сразу же резко осудило шаг президента (благо планировалось запретить деятельность всех политических партий, а не только оппозиции), и в голосовании за отмену военного положения принимали участие и депутаты-консерваторы из числа сторонников Хана.
Одновременно против Юн Сок Ёля было заведено и дело о мятеже, – а это (наряду с государственной изменой) одна из статей, по которой можно осудить и действующего президента, не отстраненного от власти. Первая попытка арестовать Юн Сок Ёля 3 января 2025 г. провалилась из-за противодействия службы безопасности президента.
Зато 5 декабря Национальное собрание РК утвердило импичмент главы Бюро аудита и инспекции Чхве Чжэ Хэ, главному прокурору Центрального административного округа Сеула Ли Чхан Су и двум его подчиненным. Чхве Чжэ Хэ обвиняли в ошибках, допущенных при проверке нарушений, связанных с перемещением администрации президента РК, но на деле требования его импичмента начались после того, как Бюро обнаружило доказательства финансовой нечистоплотности экс-президента Мун Чжэ Ина. Прокуроров уволили за то, что они не предъявили обвинение первой леди после расследования ее причастности к манипулированию ценами на акции, пойдя таким образом против «мнения народа».
При такой ситуации правящая партия оказалась между двух огней. С одной стороны, стоило дистанцироваться от президента, а с другой – быть против президента означало «дать дорогу демократам», у которых наконец-то появились резонные основания для импичмента. В результате первая попытка объявить президенту импичмент 7 декабря не удалась: консерваторы бойкотировали заседание, и демократам не удалось собрать кворум.
Последующую неделю руководство консерваторов и премьер-министр Хан Док Су пытались уговорить президента уйти в почетную отставку, но он решил бороться до конца. Мотив понятен. Отставка – это дорога в один конец, а в Конституционном суде есть шанс доказать свою правоту. После этого, пометавшись, консерваторы отказались от бойкота заседания, после чего 14 декабря голосование состоялось, и за импичмент проголосовали 204 депутата из 300. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су.
Следующий шаг был за Конституционным судом, однако у трех из девяти его судей к этому времени истекли полномочия. Между тем шесть судей могут обсуждать дело, но для вынесения окончательного вердикта требуется минимум семь. В этом контексте и. о. президента и действующий премьер-министр Хан Док Су отказывался утвердить новые назначения (две кандидатуры предлагали демократы, одну – консерваторы), заявляя, что, будучи и. о. президента, а не президентом, он не имеет права принимать подобные решения[24].
В ответ 25 декабря Хану тоже объявили импичмент, причем «уволили» не как и. о. президента, а как премьер-министра, для чего требовалось простое большинство голосов. После этого в стране, оставшейся без президента и премьера, временным главой стал министр финансов Чхве Сан Мок, который старается не принимать знаковых политических решений.
15 января 2025 г. Юна задержали и заключили под стражу. Впервые в истории страны был арестован действующий президент. Но кризис на этом не заканчивается.
22 февраля 2025 г. завершились слушания в Конституционном суде, и хотя обсуждение вердикта заняло больше месяца, 4 апреля судьи единогласно проголосовали за отрешение Юна от власти. За это время 8 марта Юн вышел из тюрьмы из-за технической ошибки следствия, 24 марта был отклонен импичмент Хан Док Су, а 26 марта 2025 г. апелляционный суд Сеула полностью отменил обвинительный приговор Ли Чжэ Мёну.