Проводник Ангарский
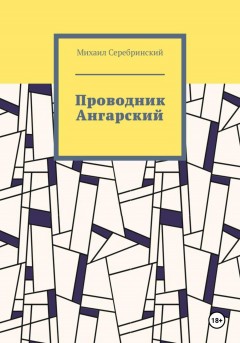
Говорят, что люди, имеющие около трех часов свободного времени в день, чувствуют себя счастливее тех, кто этих часов не имеет. Проводник Роман Ангарский, черноволосый молодой человек, небритый, с несколько топорными чертами и вздернутым носом, полудремал в своем законном купе отдыха. Эта поездная комнатка, также называемая на профессиональном жаргоне двухместкой, узкая и вытянутая вверх, вся была сложена из неаккуратных прямоугольников. Вертикальные прямоугольники бело-серых панелей на стенах, сдерживаемые металлическими углами, еще один вертикальный затертый прямоугольник окна – он же основной источник света (шероховатые мимозины тусклых лампочек – не в счет, к тому же они были выключены). Два горизонтальных прямоугольника – мягкие полки. И еще несколько подобных разбросанных фигур – полосатая, как штрих-код, наволочка, простыня, одеяло. У окошка откидной столик – единственный квадрат.
Вся ночь впереди была свободна. Пассажиры спали, до утренней пересмены дежурил напарник Ангарского Веня, жуткий малый: высокий, с жидкими русыми волосами и зашитой заячьей губой. Ангарскому полагалось спать. Но не спалось. Из-под полки он достал бутылку водки и стал размышлять, зачем живет.
Близкий (но, если измерять в километрах, весьма далекий) друг Гриша Медяк по телефону однажды сказал, что у него, у Медяка, есть десять-двадцать счастливых дней, к которым он мысленно возвращается. Во время этого возвращения выбрасывается какой-то гормон радости, и Медяк испытывает вдохновение. Немудрено, Медяк – писатель, а потому Ангарскому казалось, что это всего лишь выдумка, писательский конструкт. Еще после выброса гормона Медяк якобы чувствует острое желание жить, работать, что-то созерцать и создавать. Ангарский забыл, как гормон называется, но помнил, что слово это походит на название немецкого бомбардировщика. Да это не важно. При чем здесь гормон? Важнее, что Медяк говорил: «Моя жизнь удалась, потому что в ней были те самые дни. Дни, к которым я возвращаюсь». Удалась ли жизнь проводника, если применить Гришину формулу? Было ли к чему возвращаться?
О детстве в Иркутске мало что удавалось вспомнить. Первое и самое яркое впечатление маленького Ромы – вид с Глазковского моста на самую красивую реку в мире – Ангару. Отец, обладавший лицом, растянутым вширь, рыхлым и пористым, как шарлотка, с неаккуратными пушащимися усами, состоящими из пучков коричневых, рыжих и седых волосков, в черном пальто, в коричневой шапке-формовке сперва стоял, держа Рому за руку и рассказывая о том, как люди издревле строили города на реках, а потом подхватил сына, усадил на шею и стал показывать виднеющиеся вдалеке здания. Маленького Ангарского больше всего впечатлил железнодорожный вокзал – бирюзовый с белыми вставками и двумя башенками, как праздничный торт с двумя свечками. На вокзале Рома сконцентрировал все свое внимание. О пожарной каланче, особняках и усадьбах он слушать не хотел – несколько раз перебивал отца, расспрашивая о том, как ездят поезда, кто и как работает на железной дороге и, наконец, сколько весят рельсы. Несколько дней спустя отец подарил Роме его любимую впоследствии игрушку – поезд на батарейках, идущий через Бруклинский мост, потом – по кругу, потом – в тоннель, а затем снова – через мост.
Бруклинский мост Ангарского не впечатлял. Поезд на батарейках – однозначно да. «Вот бы найти игрушечный Глазковский и пустить по нему мой поезд», – думал Рома и представлял, как пластмассовый состав пересекает четыре дугообразных пролета. На самом деле, совсем рядом с Глазковским находился другой, Иркутный мост, через который гусеницей в металлических латах ходил самый настоящий поезд, но маленький Рома либо этого не знал, либо уже в четыре года проявлял известное упрямство.
Эти первые воспоминания, безусловно, вырабатывали гормон, похожий на немецкий бомбардировщик. Память проводника Ангарского, набирая обороты, как локомотив, помчалась дальше, по дороге цепляя один вагон за другим.
После обретения бесценной игрушки маленький Рома просил и впредь дарить ему на праздники поезда (еще – мосты – в надежде на миниатюрный Глазковский). И Роме дарили. Но игрушки эти, так как не имели сакральной ценности, потерялись где-то в бесконечных переездах, а самый первый состав оставался стоять в детской и даже ездил, когда кто-то в семье вспоминал про покупку свежих батареек.
Потом отец несколько раз подрался с матерью. Было это совершенно внезапно, ничего подобного между родителями Роме прежде видеть не доводилось. В результате последнего столкновения мать долго плакала. Ангарский тогда весь вечер один просидел на красном ковре, рассматривая черные узоры, водя пальцем по ним, как по игрушечной железной дороге; тоже плакал из-за того, что его оставили на бесконечно долгое (как ему тогда казалось) количество времени. Наутро отец ушел и больше не вернулся. Жаль. До того вечера он казался Роме незлобливым и смешным. Коротко стригся. Ангарский любил, восседая, как царь-завоеватель, на отцовской шее гладить черного морского ежа его коротких седеющих волос. Как-то отец взялся подстричь маленького Рому, не справился и обрил налысо. Рома плакал и с тех пор вмешиваться в свою шевелюру разрешал только тете-парикмахерше из дома напротив, которая стригла его одним единственным образом: «под шапочку». Если парикмахерша болела, Рома наотрез отказывался идти к другому мастеру, и капустообразно обрастал до выздоровления тети Нади, до появления свободной записи к ней. Все эти воспоминания (в частности – об отце) вызывали у проводника Ангарского одну только неприязнь и тоску. Застланные слезами глаза и расплывающиеся узоры красного ковра – что тут может быть приятного?
Перед началом школьной поры, заблаговременно, мать с сыном переехали в Петербург к родственникам, а потом приобрели собственную двушку. Мать в противовес отцу была собранной и чуть-чуть угловатой, как Рома. Блондинка с высветленными в неестественно белый цвет волосами, всегда убранными в тугой пучок; с острыми скулами, будто сделанными из листа какого-то металла (нечто среднее между титаном и алюминием) и каре-зелеными глазами с выраженным жилкованием, сходящимся к середине, как у подорожника. Обыкновенно пристальный, даже суровый взгляд, формировали маленькие узкие зрачки – казалось, радужки сжимают их в кулак.
Про школу вспомнилось больше, но в основном отрывками. Трехэтажное коричневое здание, квадратное, как шкатулка для пряжи, прямо под окнами только что сданного дома, куда, собственно, и заселилась семья, состоящая из двух человек. Мать контролировала каждый шаг маленького Ромы, отслеживала даже девочек, с которыми он дружил, настаивала, чтобы сын фундаментально учился. Если подружки мешали учебе –либо науськивала Рому разорвать отношения с ними, либо являлась в школу и разговаривала с девочками лично. Если не помогало – с их родителями. Никто не хотел иметь дело с Анной Семеновной (так ее звали), поэтому переговоры завершались точно так, как мать хотела: Рома возвращался к урокам. Поначалу он слушался – что оставалось? Всю среднюю школу просидел за учебниками. Единственный в классе на уроке истории наизусть ответил домашнее задание про Цусимскую трагедию: в пятнадцать лет обожал царя Николая II. То ли потому, что царь был себе на уме и целую Думу мог разогнать, проявить своеволие, то ли потому, что в ворон стрелял. Вороны по ночам постоянно каркали под Роминым окном (в кроне близрастущего дерева было свито гнездо), поэтому Рома конкретно этих пернатых искренне ненавидел. Купил в комнату имперский желто-черный флаг. Но не из политических соображений, конечно, а из-за того, что царь Николай был любимым книжным героем. Ему даже как-то снилось, что сам он спит, а царь Николай ночью выходит в его комнату прямо из черно-желтого флага, как из двери или какого-то портала, с охотничьей винтовкой в руках, идет на балкон, как в тире, сбивает шумное гнездо, воцаряется тишина. Тогда хозяин земли Русской возвращается к спящему Роме, садится у изголовья и начинает читать вслух учебник по истории. Конечно же, параграф про Цусиму.
В школьных занятиях было мало приятного, и совсем ничего, провоцирующего выработку немецкого гормона. Надоело слушаться мать – Ангарский стал ругаться с ней, единожды пытался драться, как отец, – бесполезно – был оттаскан за волосы и выпорот ремнем. В личном дневнике написал «ненавижу маму». Мать нашла дневник, прочитала, но опекать сына не прекратила. Рома только лишний раз был оттаскан за волосы и повторно выпорот. Из протеста Ангарский на большой перемене ходил курить за трансформаторную будку со старшеклассником то ли Сальниковым, то ли Санниковым (Ангарский помнил: с похожим названием был фильм про невидимый остров в Ледовитом океане, но фамилия чуть-чуть отличалась). Не важно. В этом, рассуждая логически, тоже было мало приятного. Если обратиться к чувствам: покалывание в кончиках пальцев, горечь на корне языка, секундное чувство эйфории и некоторая отрешенность. За ней (поначалу) – легчайшее, быстро проходящее чувство тошноты. Забывалось даже, что рядом стоит и что-то непрерывно вещает кудрявый Сальников (или Санников), обтянутый черной косухой не по размеру (так длинная тесная наволочка пережимает вылезающую из-под нее подушку), курит по-пижонски и смотрит при этом куда-то в сторону.
Пачку сигарет Ангарский прятал в трансформаторной будке, а вторую, запасную, – в своем подъезде под лестницей. Перед возвращением домой обильно, чуть ли не с ног до головы обливался одеколоном, чтобы мать не уличила. Она, тем не менее подозревала, но подловить Рому не удавалось: сын говорил, что это Сальников-Санников рядом курит.
В качестве протеста матери Ромой организовывались и другие акции. Наиболее мягкими были попытки Ангарского уйти ночевать на улицу или к Грише Медяку, но они, как и все предыдущие, не увенчивались успехом. Мать либо сама находила Ангарского, либо звонила в полицию, и домой его забирали уже блюстители порядка. В любом случае все заканчивалось привычным ремнем.
Параллельно, чтобы не посещать поднадоевшие уроки, Рома начал ходить в театральный кружок (его руководитель был уполномочен давать записку от имени директора, освобождающую от занятий по случаю важной репетиции или выступления коллектива в другой школе). Там Рома как раз-таки подружился с Гришей Медяком (тот писал сценарии для кружка). Еще посещая кружок, Ангарский влюбился в девочку, старшеклассницу. Эту связь Роминой матери отследить не удалось, но девочка взаимностью не ответила. Говорила, что никого любить не готова, говорила, что отношения ей не нужны, а все ввиду полного отсутствия свободного времени: она якобы четко нацелена на поступление в театральный институт, а какие-либо прогулки под ручку несомненно помешают ее трансформации из куколки в бабочку: из рядовой участницы школьных спектаклей в актрису Московского театра и кино первого плана. Но буквально через полгода девочка, не сдержавшись, закрутила роман с каким-то выпускником и по случайности забеременела. В театральный так и не поступила. Ангарский злорадствовал, почитал сложившиеся обстоятельства справедливым отмщением: нечего было его обманывать и вообще, если девочка не досталась ему, то пусть пирует за столом последствий. Вот он, Ангарский, сделал бы ее счастливой, сделал бы из куколки имаго (или как оно там называлось на уроке биологии).
Воспоминание было мимолетным, но неприятным. Проводник Ангарский отпил водку, не закусывая. Девочка тогда быстро исчезла из его поля зрения, театральный кружок тоже был плохой затеей: на сцене Рома торчал настоящим бревном. Что особенно показательно играл он дерево, но и с этой ролью не вполне справлялся: не знал, куда себя деть, кому именно рассказывать текст (другим горе-актерам или учителям в зале?), наконец, – в какую сторону поворачивать голову и как симметрично растопыривать руки-ветки. Эту чертову пьесу написал Медяк. В финале на дерево-Рому в довершение всех унижений падал театральный снег. Спасибо, что не птицы садились!
Но Гриша в отличие от улетучившейся пассии в жизни Ангарского остался. Не просто остался – закрепился, стал одним из немногих, кого Рома как человека полюбил надолго. Было в Медяке что-то резонирующее душевным порывам Ангарского: схожий образ мыслей, перетекавший во многочасовую болтовню по телефону и вполне любопытные литературные изыски, которые Гриша зачитывал прямо в трубку, чтобы друг не смог отвертеться от прочтения. Еще Грише был присущ схожий с Роминым задумчиво-отстраненный и немного взбалмошный характер единственного сына своих родителей и нежелание учиться в школе во имя чего-то большего. Все это вкупе вызывало у Ромы неизменную симпатию – а иначе как вообще можно было полюбить человека по имени Гриша? К тому же выглядел он забавно: весь тощий, сухой, небольшого роста, но с пухлыми щеками. Медяк в школе усердно посещал только русский язык, литературу и историю. С ним можно было поболтать о царе Николае. Из-за него же – поссориться. Все остальное время Гриша сбегал с уроков, сидел где-то на подоконнике и на обратной стороне тетради писал стишки, короткие рассказы или любовные записки. Учителя не сильно его ругали, знали: талантливый.
После перехода в старшую школу друзья оказались в одном классе. Стали плотнее общаться, иногда драться, если не могли что-то поделить (например, когда проходили гражданскую войну, Гриша был за красных, а Рома, безусловно, за белых). В драках Ангарский был непредсказуем и даже опасен: быстро вспыхивал, распалялся, хватал любой инвентарь (швабру, лобзик, вполне возможно – стул), и понеслась душа в рай – раззудись, плечо, размахнись, рука! Медяку оставалось только уворачиваться или валить Ангарского на пол, держа за руки (мог ведь и душить начать). Потом, на перемене, вместе шли курить или пить то, что Сальников-Санников припрятал в трансформаторной будке (если тому, конечно, удавалось достать).
Ангарский был внимателен на уроках физики, математики и обществознания. Уже ставшую ненавистной школу хотелось поскорее закончить и поступить в Петербургский университет путей сообщения, чтобы исполнить детскую мечту – работать на железной дороге. Еще Роме почему-то казалось, что во внутреннем дворе университета за стеклом обязательно должен стоять настоящий паровоз, совсем как на Финляндском вокзале. Отыграли последний звонок по сценарию Медяка, оба хорошо сдали экзамены и поступили, куда хотели: Ангарский – в железнодорожный, Медяк – в Институт культуры на филолога.
К тому моменту Анна Семеновна наконец-то поняла, что жить ей с сыном невыносимо, сыну с ней – тем более, и отправила чадо в качестве подарка на выпускной в квартиру покойной бабушки, в Московский район. С бабушкой в детстве у Ромы контакта не было, прародительницу он почти не помнил (в памяти всплывали только редкие визиты в гости в начальной школе). Со дня ее смерти к моменту заезда Ангарского в квартиру прошло уже несколько лет. Чувства, вызывающие холодок по спине, связанные с умиранием пусть даже неблизкого, любого, человека улеглись. В день, когда Рома узнал о том, что к бабушке в гости он больше никогда не придет, ходил и размышлял: «Умер человек. Вчера он существовал, проживал на планете Земля, разговаривал, зимой – дышал паром изо рта и вдруг в одночасье покинул свой постоянный адрес без возможности вернуться». Несколько лет спустя маленькая, пусть и омраченная, радость обретения жилплощади и долгожданного обособленного ведения быта все же присутствовала. К тому же проявился отец, на тот момент уже эмигрировавший в Израиль. Он обрадовался ссоре Ангарского с матерью и стал отправлять Роме деньги (лишь бы ссорились дальше, отец имел виды на сына). Деньги перечислялись строго на период обучения в институте, чтобы сын посвящал время одним только занятиям (в этом Ромины родители были схожи, несмотря на то, что тихо ненавидели друг друга). После учебы планировалось переманивание сына на землю обетованную в качестве помощника в кибуце (отец в тот период жизни решил попробовать себя в качестве фермера). Чтобы усугубить разрыв Ромы с Анной Семеновной, отец стал писать сыну письма, обличающие бывшую супругу. И неверной она якобы была, и сама Роминого отца всячески угнетала, а на любовные послания в стихах, будучи человеком практическим, реагировала сухо, если не с иронией, чем ранила душу драчливого романтика.
«Ведь было так, Ромочка: я сижу спокойно суп ем, и тут она мне как даст по лицу! А я же – мужчина. Не ответить не могу, авторитет дома потеряю. Так все у нас и сломалось. Глупая она, Аня. Не понимает, кого потеряла. Сначала мужа изжила, потом – единственного сына (муж, может быть, и не единственный был). Я от нее подальше уехал, в другую страну, и ты, сынок, беги!». Рома, только-только съехавший от докучавшей родительницы, конечно, не верил в отцовские фантазии, но сам был рад в переписку выплеснуть накопившийся негатив по отношению к матери.
Ничего хорошего. Впрочем, какая-никакая независимость заставляла заветный гормон маленькой ящеркой, прячущейся под камнем, наконец, показать голову. Это стоило закуски. Проводник Ангарский достал из-под полки припрятанную палку колбасы, откусил и положил на квадратный столик.
Московский район поразил Ангарского своей монументальностью. Каждая гранитная стена казалась исполинским гробовым камнем на могиле Иосифа Виссарионовича. Изучая дворы, Ангарский то и дело думал, что набредет на тело вождя, изъятое из Кремлевской стены и помещенное в тематический паноптикум под открытым небом. Постройки, покрытые исторической пылью былого величия, нравились Ангарскому. Не нравилось только чувствовать себя песчинкой на их фоне, мушкой-дрозофилой, которую просто так, от нечего делать, можно раздавить ногтем.
В институте учиться было тяжело. Новый коллектив, преподавательский состав с сумасшедшинкой. Чего только стоил Фридрих Бергман, читавший математический анализ и другие предметы, связанные с высшей математикой; кричавший, что выпускников школ ничему за одиннадцать лет не научили, что догонять школьный курс он не намерен, что всех неуспевающих на сессии он будет нещадно отчислять. После этих слов Бергман запрыгивал задом на письменный стол, стоявший у него в аудитории вместо кафедры, обмякал, как тряпичная кукла, и на глазах у изумленных студентов вдруг начинал паясничать: ковыряться пальцем в носу, как болванчик, болтать тяжелыми ножками и кричать известную фразу из фильма: «Зима близко! Близко!», подразумевая грядущую зимнюю сессию и неминуемые отчисления.
Ангарский в первый же день сдружился с обалдуем по фамилии Ерофеев, который тоже ничего не понимал на занятиях Бергмана. Ерофеевские смоляные волосы, не знавшие расчески, завивались, сбивались исключительно в правую сторону и на затылке напоминали предписывающий знак – белую стрелку на синем фоне, указывающую поворот направо. Вместе новоиспеченные приятели на большом перерыве пошли в библиотеку, взяли учебники по математическому анализу и ужаснулись: внутри их ждали какие-то значки, буквы, формулы без единого объяснения на русском языке. Короче говоря, китайская грамота. На занятие к Бергману (весь первый день состоял из пар по его предметам) опоздали на минуту: запутались в разбросанных по разным этажам аудиториях, которые в совокупности своей представляли настоящий лабиринт минотавра с числовыми и буквенными обозначениями дверей – разобрать эти шифры, наверное, мог разве что Алан Тьюринг. Как бы студенты ни оправдывались, Бергман на лекцию не пустил: никто не мог зайти в аудиторию после него – таково правило. Dura lex, sed lex.
Ерофеев предложил еще раз попробовать почитать учебники и заодно перекусить. В столовой он занял место, заказал у буфетчицы два больших стакана черного кофе без сахара и молока, попросил приятеля забрать напитки по готовности и подождать, пока он, Ерофеев, сходит в туалет. Но исчез надолго. Вернулся назад через полчаса, радостный с какой-то бумажкой, и сказал: «Поздравляй! Я сходил в деканат, отчислился!».
Дней через десять Ерофеев пригласил к себе праздновать отчисление. В Университет путей сообщения он поступать не хотел, пошел под давлением деда и отца (чета Ерофеевых полвека работала на железной дороге, в частности проектировала вагоны, в еще большей частности – электрички). Ерофеев младший сам не знал, кем по-настоящему хотел стать: то ли музыкантом, то ли вольным гулякой (его привлекал образ хиппи Трубадура из мультфильма «Бременские музыканты», несмотря на то, что хиппи давным-давно вышли из моды). На карманные деньги, выданные отцом на первую неделю обучения, он купил на рынке акустическую гитару, и ко дню визита гостей даже научился играть на ней что-то из Цоя.
В гости он пригласил Ангарского и Дрючина – худого, бледного, подслеповатого одногруппника, похожего на ленточного червя без глаз, ориентирующегося в темноте на ощупь. Дрючин не имел собственного угла, денег и навыков коммуникации. Жил в общежитии, при включенном свете забивался в угол, как таракан, но был, по словам Ерофеева, настоящим гением. Дрючин поступил в институт без экзаменов: выиграл какую-то всероссийскую олимпиаду, увлекался физикой и техникой, до поступления за сущие копейки спроектировал какую-то доселе невиданную цифровую систему вроде сервера, впоследствии проданную заказчиком в Нидерланды. Заказчик сорвал куш, а Дрючин, не умевший общаться с людьми, на первый взгляд, выросший в пещере без еды, света и общавшийся на языке Маугли, работал только за идею.
Комната Ерофеева (по совместительству – гостиная), куда хозяин вечеринки пригласил проследовать молодых людей, впрочем, тоже мало отличалась от пещеры: однотонные серые стены, люстра со свисающими прозрачными и черными ониксовыми стекляшками неправильной формы, черный ковер, на котором шипел кальян с ярко-оранжевым углями («И не боится ведь прожечь, – думал тогда Ангарский, – и ремня материнского за прожжение не боится»). Ерофеев хотел сделать сразу два добрых дела: покормить голодного Дрючина и познакомить гения с Ангарским (вдруг в обучении поможет). Дрючин стеснялся, мялся: съел заказанную пиццу и спросил, нет ли в доме кефира. Ерофеев возмутился, мол, это не серьезно, и налил гостям водки. Водку Ангарский прежде не пробовал, а потому, поддавшись общему куражу, напился так, что после посиделок не смог добраться до дома: упал на лестничной клетке у мусоропровода. Ерофеев с Дрючиным тоже были косые – тело не обнаружили. Через несколько часов с энной попытки Ангарскому удалось набрать Гришу Медяка, который поехал на север города забирать друга и отвозить домой.
В памяти проводника всплыла картинка: Медяк в черном пальто и бордовом шарфе, сам длинный, как Слендермен из компьютерной игры, опирается на длинный зонт, смотрит на Ангарского, лежащего у мусоропровода, как на жука, который барахтается, переворачивается с бока на бок, но встать не может; потом Медяк произносит: «Ну ты и животное, Роман. Не роман, а какое-то чтиво бульварное». Ангарский страшно обижался на эти слова (Медяк был уверен, что друг наутро ничего не вспомнит), но Гришу любил, поэтому простил. А фразу все же помнил. И еще помнил мотив песни «Троллейбус, который идет на восток». То ли потому что ее в тот вечер играл на гитаре Ерофеев, то ли потому что сам Ангарский в троллейбусе, идущем до метро, пытался Грише ее воспроизвести, но не вышло: едва Рома открыл рот, его тут же вырвало прямо на прорезиненные коврики салона троллейбуса.
Проводник Ангарский вспомнил это с омерзением. «Ну ты, Гриша, полный медяк!» – подумал он. Потом еще подумал: «Длинным, ты, Гриша, казался только потому, что я на тебя смотрел снизу вверх. Коротышка!» и сразу представил, как Медяк парировал бы это фирменным: «Низкие люди правят миром». В каком значении в присказке употреблялось слово «низкие», Рома до сих пор не понимал. Или же оба значения одновременно были необходимы для каламбура? В очередной раз застигнутый врасплох этой фразой, Ангарский когда-то даже пытался свести в уме всех правителей невысокого роста, но быстро зашел в тупик. Точных сведений о росте любимого царя Николая не осталось. В Интернете было сказано: «от 165 до 170 см». Прямо как Медяк! Удивительное совпадение.
Дружба с Дрючиным после совместных посиделок, закончившихся пьяным фиаско, действительно сложилась: социально неадаптированный вундеркинд здорово помогал Ангарскому по всем техническим предметам. Ангарский по методе Ерофеева кормил и поил нуждавшегося товарища, а тот терпеливо объяснял Роме темные места математических наук.
Что еще происходило в этих независимых стенах? Вспомнился эпизод со старостой Машей. Это была не девочка, а воплощение эфемерной мечты Ангарского о красоте, о женственности, о вдохновении и прочих абстрактных словах, употребление которых так критиковал Медяк, (к тому моменту, функционер крупной всероссийской писательской организации), но в которые истово верил опиравшийся исключительно на чувства Ангарский. Рома влюбился в Машу с первого взгляда. Какая Беатриче, какая Лаура, какая Любовь Менделеева, о которых так красноречиво говорил Медяк, – все это было давно и не правда, а Маша реально существовала. Настолько реально, что Ангарский был уверен: прямо сейчас, в своем проводничьем купе отдыха он мысленно позовет ее образ, вертанет бутылочку, как на спиритическом сеансе, и Маша появится здесь, в двухместке, перед ним, отвернется, чтобы случайно не встретиться взглядом, будет смотреть в подмерзшее окно; Ангарский протянет руку к ней, к ее черным волосам, а она, строптивая, как обычно посмеется, руку оттолкнет в пренебрежительном жесте, наконец – исчезнет. Ангарский расположился на койке поудобнее. Немецкий гормон обратного захвата подступал прямо к горлу.
В железнодорожном университете Маша была отличницей. Не за знания – за красивые глаза – причем совершенно справедливо. Ее глаза были не просто красивые: темные, большие, немного раскосые, всегда с иронической усмешкой, как яблоко с червоточинкой. В этих глазах была стихия, цунами. Они могли устроить смотрящему в них настоящую Цусимскую трагедию, а в минуты гнева – Хиросиму и Нагасаки одновременно. А как эти глаза – с ядерным взрывом в каждом – она умела профессорам строить. Тут никогда не констатируешь «хорошо», разве что – «хороша!». Маша увлекалась сбором японских лубков и современной графики, читала популярных японских писателей (Мураками, Огаву, Марату), современные японские комиксы (Ангарский не помнил, как они называются), смотрела Куросаву и японские спектакли в Интернете. На институтские занятия иногда одевалась стилизованно, под гейшу.
Она и сама была будто из Японии. Миниатюрная, с белой, как у куклы, кожей, маленькой стопой, помещавшейся в маленькую туфельку на деревянной подошве. Но больше всего Ангарский любил совсем не японские (хотя и черные) безукоризненные (на его вкус), длинные, всегда блестящие, расчесанные волосы. Не как с картинки – живые и текущие, они напоминали ему самую красивую в мире реку – Ангару.
Ангарский ухаживал за Машей, поначалу даже успешно: водил гулять вдоль Фонтанки, как чижик-пыжик (Маша давала ему подержать ее за руку, пить водку отказывалась). Ангарский заявлялся в общежитие, они вместе готовили печенье (Рома для этого даже добыл формочки в виде паровозов). Чтобы произвести впечатление, просил Ерофеева научить его играть Цоя, а у Машиной соседки брал в аренду гитару. Но «Звезду по имени солнце» Маша не оценила: не слушала русскую музыку. В ее комнате в общежитии висел маленький черно-белый постер какого-то Кенши Йонезу – тот хоть и был музыкальным исполнителем, а разрезом глаз и шевелюрой слегка напоминал Цоя (на этом сходства заканчивались), по мнению Ангарского, с Виктором Робертовичем и рядом не стоял. «Ерунда какая-то», – сказал Рома, снимая Машины пушистые наушники, и продолжил попеременно зажимать Am и Em.
Потом все как-то пошло к разладу. Ради шутки, ради хорошего времяпрепровождения Маша была готова гулять с Ангарским, но Рома был настроен серьезно. Серьезность в планы старосты не входила. Пойти в кино и под видом выхода в уборную, потешаясь над Ромой, сбежать со свидания ей, безусловно, приносило удовольствие. Перетереть кости подругам и одногруппникам – тоже. Посмеяться над самим Ангарским, у которого печенье, вышедшее из паровозной формочки, приобретало вид детской неожиданности, было святым. А вот рассуждать о любви, предаваться высоким прениям или, не дай бог, слушать про Глазковский мост было выше ее сил.
Тогда Ангарский в один день пошел ва-банк: пригласил Машу в театр на «Вишневый сад». Пьеса была стилизована под Японию: с национальными костюмами, веерами и цветением сакуры. После спектакля позвал домой, предварительно купив суши и саке, и, когда Маша, смеясь, отказала ему в совместном ужине и близости, сам опустошил единым залпом прозрачную бутылочку с иероглифом, а потом высказал все, что о Маше думает. Она тоже за словом в карман не полезла – встала спиной к Ангарскому, лицом – к окну и стала отвечать колкостями. Особенно Ангарского разозлила шутка про его утиный нос. Рома рассвирепел, схватил Машу со спины (то ли чтобы придушить, то ли чтобы поцеловать, то ли чтобы взять силой – сам не разобрался), и завязалась драка. Маша, несмотря на внешнюю хрупкость, была той еще штучкой, поэтому молодые люди покатались по полу, потаскали друг друга за волосы (Маша вырвала приличный клок из затылка Ангарского), съездили друг другу по лицу, разошлись, и больше не общались.
На первом-втором курсе Рома злился на Машу из-за ущемленного самолюбия. Теперь же, через призму времени, то обстоятельство, что Маша никому не сказала об их потасовке, не пошла жаловаться подругам или, более того, в деканат, в полицию, замела следы и просто не разговаривала с Ангарским, он счел проявлением высшего благодушия. Чего уж греха таить, Машу он так и не смог до конца разлюбить. А задетое эго простил давно.
Медяк параллельно с учебой работал писателем. Характер его со школьных лет пообтесался, углы сгладились, и, рано перебесившись, Гриша сделался скучным. Как настоящий функционер, писал он не книги, а какую-то халтуру, вроде сценариев для детских праздников и грантов для привлечения в писательскую организацию денежных средств. За это он получал зарплату и возможность вращаться в одной компании с настоящими писателями, а еще приобрел кличку «дипломат» за сговорчивость на выполнение любой ерунды помимо творчества и лояльность по отношению к похожим на него функционерам-заказчикам, в силу возраста давно выжившим из ума.
Медяк, дабы помочь другу оправиться от разрыва с Машей, позвал его на писательский междусобойчик. Там, в богемной компании, проводила вечер крашеная блондинка Лена – знакомая Медяка из Института культуры, учившаяся на драматурга. Невысокого роста, миловидная, однако выглядевшая несколько младше своего возраста, с детскими глазами, сбитой прической и проступающими корнями волос, она стала интересоваться Ромой, а после полуночи – попросила проводить ее до дома. Потом они еще несколько раз пересеклись в кругу друзей и товарищей Гриши, и Лена окончательно влюбилась в Ангарского. Подкупала неприятность его манер, некоторая циничность, отстраненность. На контакт он идти не хотел, все время думал о своем, в Интернете отвечал неохотно: раз в несколько дней, но вовсе от общения не отказывался, чтобы чувствовать себя востребованным и иметь возможность отвлекаться от будничных дел (учеба на втором курсе изрядно поднадоела, шла из-под палки, Ангарский искал любые пути не сидеть за тетрадями). Лена решила сделать Ангарского героем своей пьесы – тот отнесся к затее холодно: хватало стихов и сценариев Медяка, который теперь отправлял свои детища Роме по электронной почте (писатели, адепты косности, в своем неуклонно стареющем кругу имели странную привычку общаться именно этим неактуальным способом), иной раз Медяк безо всякого предупреждения заявлялся читать стихи лично. Лена жаловалась Грише на отстраненность возлюбленного. Тот слушал ее бесконечные монологи, утешительно кивал, прочитывал тысячи сообщений, горько угукал, но в их дела не лез, знал: себе дороже. Сначала пытался поддерживать и давать советы, а потом понял: Лена себе на уме.
Тем временем в институте Ангарский попытался помириться с Машей и возобновить отношения. Купил цветы, конфеты, взял билеты в кино, как вдруг оказалось (Машины подруги нашептали), что она любит другого. Ангарский ушел с занятий. Хотел выяснить, где живет этот другой, хотел ехать разбираться, даже – бить его, хотел задействовать Медяка и Ерофеева, но, оценив масштабы города и в целом бесполезность затеи, сдался: пригласил вместо Маши – Лену. После кино молодые люди пришли к Ангарскому домой (Лена была не против), и Рома, воспользовавшись положением, чтобы выпустить пар, взял ее. Не силой, нет: Лена не сопротивлялась. Как позже узнал Ангарский, он был у нее не первым, а потому решил, что с него снимается всякая ответственность.
Вот только выгнать подругу из дома впоследствии никак не удавалось: она хотела ежечасно быть с Ангарским, одна она не находила себе места. Рома поначалу соглашался. Лену не любил, но накопившуюся животную страсть выплескивал. Холодность подкупает, невнимание – притягивает. Лена перевезла вещи к Ангарскому, готовила ему завтраки, гладила в институт рубашки. Ангарский только ухмылялся. Справедливости ради, он открыто говорил (предупреждал), что чувств не испытывает, но Лена не слушала и докладывала Медяку: «Это у него маска такая, Печоринский психотип. Я его перевоспитаю». По утрам Ангарский просыпался, будил Лену, занимался с ней нелюбовью, а потом уходил на весь день: на пары (тут уже и занятия не казались столь пугающими), к Ерофееву, к Медяку, к писателям, в общагу к Дрючину – куда угодно, но не к даме, от которой спасу не было. Но дама везде находила блудного попугая и тащила домой. Учебой заниматься перестала, а собой – и подавно. Подруги, Медяк, писатели уговаривали Лену уйти от Ангарского, бессчетное количество раз указывали на дурные поступки Ромы, на что-то сказанное им впроброс, но все без толку: на глазах у Лены были не то что розовые очки – бесконечная розовая пелена, если не розовая глаукома.
Рома терпеть не мог навязчивости, особенно в свой адрес. Против Лены ничего не помогало: говорить о том, что любит другую, бывшую девушку, – бесполезно. Лена считала, что Ангарский сам себе врет. Говорить о том, что нет точек соприкосновения и общих тем для разговора, – еще более бесполезно. Лена отвечала, что будет между делом читать учебники Ангарского – тогда и диалог пойдет, хотя ничего, разумеется, не читала. Сам Рома едва понимал, что в учебниках написано. Тысяча других причин: финансовая составляющая, неустроенность быта – все, что ни шло в ход, Леной отметалось.
Тогда Ангарский, наконец, решил, что Лена его больше утомляет, нежели удовлетворяет потребности, да и надоела – смерть как. Что-то новое в виде постели уже было опробовано и, лишенное чувств, Роме быстро опостыло («опостелило» – пошутил он про себя). Лену – выгнал из дома, сказал, что между ними возможна только дружба. Максимум – та самая постель, и то по праздникам. Лену это не остановило. Она стала напиваться в компании Гриши и писателей, а потом возвращаться к Ангарскому буквально на руках Медяка, расхристанная, бормоча, что ей негде преклонить главу, что ее дом – здесь. Потом, когда Медяк стал отказывать ей в просьбах «проводить до Ромы», в ход пошли другие аргументы: с бабушкой поругалась, все дома заболели, а Лена боится подхватить грипп, лифты в доме не ходят, в подъезде обнаружен очаг туберкулеза…
Конечно, Лена была глубоко потерянным человеком, не умевшим оставаться наедине с собой. Она боялась одиночества, а еще – пустых пространств. Так, например, поездка в электричке через чистое поле была ей невыносима: приходилось закрывать глаза, брать наушники и что угодно в них проигрывать – лишь бы не тишина, не пустота. Из-за недолюбленности в детстве (Лену воспитывала бабушка), из-за боязни мысленно поговорить с самой собой, еще из-за десятка других причин – в молодых людях (в список которых попал и Ангарский) она не искала к себе хорошего отношения, а те уступки, что ей оказывали, почитала за благо. Дыру в груди «размером с Бога» она ежедневно затыкала Ромой.
Ангарскому это было не интересно. Выслушивая ее откровения, в сердцах он даже сказал, что не умеет сопереживать: «Сострадание – это не по мне. Мне оно чуждо. Нет той эмпатии, о которой сейчас модно говорить. Так что не жалуйся, не выйдет. Я ничего не чувствую». На самом деле, Рома даже не знал, блефует ли он, но был точно уверен: Лену не любит, а от каждого лишнего часа, проведенного с ней, его трясет от злости. Он не придумал ничего умнее, чем предать девушку, надругаться над ее чувствами, точнее: изменить ей. «И тогда, может быть, розовая глаукома чудесным образом прояснится», – думал он.
Ни с кем не советуясь, Рома познакомился со случайной девушкой в Интернете, маломальски отвечавшей его мужским интересам, пригласил к себе на фирменную водку, но дела пошли не по плану. Девица масштабов «Палеолитической Венеры» (сейчас Ангарский даже имени не помнил) оказалась большой любительницей выпить, а возле дома обнаружился круглосуточный магазин. Начался марафон. Почти без закуски в квартире в Московском районе мешались любые напитки: водка с темным ромом, виски с мартини, даже абсент на ложке поджигали (чудом квартиру не спалили) и мешали с каким-то ликером. Наконец, на банковской карте Ангарского закончились деньги, а гостья, передвигаясь на четвереньках между катающимися по полу бутылками, не смогла выползти за порог. Так и уснула на полпути. Ангарский все же добрел до кровати, но забраться не вышло: рухнул рядом и уснул, облокотившись о деревянный борт. Даже нос ободрал во время падения. До стеклоочистителя дело не дошло.
Анна Семеновна то ли почуяла неладное, то ли сын на протяжении чересчур длительного срока не обменялся с ней ни единым словом (путь даже и грубым), то ли она просто решила удостовериться, что у Ромы все в порядке, – опять-таки, не важно. Главное, утром она своим ключом открыла замок квартиры и обнаружила погром, бутылки, сына спящего на полу, местами – последствия гулянки и неопознанную Мопассановскую пышку на кухне. С первых шагов мать подняла крик. Девица испугалась и побежала будить Ангарского, тот не сразу понял, что произошло, а когда понял, обрушился на мать с проклятиями.
– Ты мне жизнь испоганила! Загубила! Это ты во всем виновата, – кричал он в ответ, потом вспомнил слова отца и выпалил. – Папу чуть со свету чуть не сжила, теперь меня хочешь? Не выйдет! Правильно он тебя воспитывал, уму-разуму, – тут Ангарский икнул, – учил! Не твое дело, где я и с кем. Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было!
Последствия наступили мгновенно: и Рома, и девица были выставлены на улицу. Сыну был дан трехдневный срок, чтобы собрать вещи, найти съемное жилье и съехать с глаз долой. Денег не было. Отец вроде бы посочувствовал, дал понять, что уважает и хвалит Ангарского за смелость, но помогать не стал, сказал в лучшем случае ждать до зарплаты. У Медяка прописаться не вышло: жил с родителями.
Рома стал обзванивать родственников. Тетка по отцовской линии обещала помочь, пригласила переждать грозу у нее, в садоводстве Иркутской области. Ангарский согласился и уехал. На шестисоточном участке, сидя верхом на плохо сбитых козлах под яблоней, припорошенный первым снегом (это было почти в аккурат пять лет назад с текущего момента), он страшно на всех рассердился: на мать, на отца, на Машу, на Лену – все были по-своему виноваты в его несчастье; решил перечеркнуть прошлое, вспомнил разговор с Ерофеевым в институтской столовой за стаканом крепкого кофе без молока и почтой подал заявление на отчисление из института. На другой день съездил в Иркутск, прогулялся по улочкам (помнил не все), нашел свой детский сад на улице Свердлова, прошелся по набережной, свернул на Глазковский мост. Когда он увидел Ангару с того самого ракурса из первых воспоминаний, будто это было дежавю; когда, как дурак, показывая трясущимся от напряжения пальцем, снова нашел сначала – железнодорожный вокзал, потом – пожарную калачу, а следом – все особняки и усадьбы, утопленные в плоских крышах новостроек, не смог справиться с эмоциями. Он сел прямо посреди отгороженной пешеходной зоны, мешая людскому движению, спрятал лицо в ладони, и несколько минут плакал в перерывах между порывами удушья, жадно хватая воздух, смешанный с тяжелым свинцом выхлопов и другими автомобильными нечистотами, поднимавшимися над прозрачной, тонкокожей рекой, реагирующей на людскую возню мелкими мурашками.
Рому тянуло назад, в беззаботное детство, сюда, поближе к настоящей железной дороге. Не зря он порвал (так он думал) с прежней жизнью. Отдышался, отряхнулся, еще немного прошелся и отправился устраиваться работать проводником.
Теперь, когда в своем купе отдыха Ангарский не вспомнил – заново прожил это потрясение, этот день, ставший поворотным моментом в его жизни, глаза проводника, как тогда, на мосту, сделались по пять копеек. От вновь пережитого эмоционального напряжения, его тряхнуло, по телу прошла легкая судорога. Он выпил много и залпом.
Дальше в воспоминаниях ничего интересного, как ни странно, не обнаружилось. Была длительная возня с паспортными данными: чтобы не иметь ничего общего с матерью, он сменил свою настоящую фамилию на нынешнюю – Ангарский. А материнскую (не отцовскую), присвоенную ему от рождения, предпочел забыть. Прошел военную комиссию по месту жительства, был признан негодным из-за родовой травмы головы (как шутил Медяк: «Поэтому ты, Рома, вырос таким эмоциональным калекой»), получил военный билет и, наконец, поступил на курсы проводников. Там познакомился с коллегой Вениамином Томми – самым странным человеком из всех, кого когда-либо знал. Веня пользовался кнопочным телефоном, убирал его, как пульт, в засаленный пластиковый пакет; ходил в берцах (говорил, что это лучшая обувь по законам ортопедии) и портянках вместо носков (считал, так ноги лучше дышат). Речь Вени была нечленораздельной из-за заячьей губы, голос уходил в нос. Сам детина был под два метра ростом, при всем при этом – питал необъяснимую симпатию к Ангарскому. Как пес, на курсах проводников, в депо всюду ходил за Ромой, в рейсах при распределении просился напарником в тот же вагон, что и Ангарский. Там тоже ходил за Ромой хвостиком и нес какую-то несусветную чушь, например о вреде использования микроволновок. Как иронически подмечал Ангарский, странно, что шапочку из фольги не носил, чтобы инопланетяне не зомбировали. Вене было под тридцать. Ангарский как-то соврал: «А мне сорок». Дурак Веня поверил, какое-то время обращался к Роме на «Вы», пока Ангарскому этот цирк не надоел, и он не сознался в шутке. Веня посмеялся как-то нервно и неприятно.
А больше ничего знаменательного за пять лет и не произошло. Отец перестал присылать деньги – закончилось общение. Выезжать из страны Рома не собирался. Про Лену и Венеру Алкоголическую Ангарский не вспоминал, поручил Медяку разобраться с ними, а сам сделал так, чтобы обе ни позвонить, ни написать не смогли. Рейсы, рейсы, рейсы. Иркутск-Москва, Иркутск-Тайшет, Иркутск-Усть-Кут… Депо-садоводство.
– Точно! – Ангарский вспомнил. Еще квартиру близ резерва проводников снял, почти у самого Глазковского моста, в продолговатом трехэтажном доме, окрашенном в красно-желтую клетку, напоминающем шахматную доску, сложенную пополам и поставленную на попа. По льготе железнодорожника, чтобы скорее съехать от тетки. С тараканами на кухне, зато близко к работе. Квартира была дешевой из-за условий проживания: старый ремонт, постоянный отзвук проходящих поездов в единственной комнате и кухне, будто состав заезжает в одно окно, а выезжает, как из тоннеля, в другое. Стекла дребезжали, потолки сыпали пылью и мелом, как перхотью, но Ангарскому было не привыкать. По крайней мере, здесь, он верил, его временное пристанище, в то время как основным домом был, конечно же, вагон. Так и провел он последние пять лет, не пережив больше (за исключением каких-то мелких упущенных историй) ничего интересного.
Так удалась ли жизнь? Думалось, что нет. Прежние мечты и амбиции казались более привлекательными, чем теперешняя реальность. По формуле Медяка, были счастливые моменты, счастливые дни, было много хорошего, но разве это искупало общую… пустоту? Да, пустоту. Прожитая жизнь сейчас казалась Ангарскому полупустой. Даже на две трети пустой, как бутылка водки в руках. Роме было всего двадцать четыре года, но, как полагается максималисту, он был уверен, что две трети, если не три четверти, уже утекло.
По вагону, как призрак коммунизма по Европе, тенью бродил согбенный Веня, напоминающий огромную оглоблю. Казалось, он начинает лысеть. То ли потому что линия роста и без того жидких волос с каждой сменой отодвигалась все дальше и неумолимо тянулась к затылку, то ли потому что после Вениного дежурства весь вагон оставался перепачканным русыми волосами.
Ангарский смотрел в окно. Светила луна. Как на смазанном фото, взгляд цепляли то нечеткие, растянутые вширь, обглоданные кусты, то перепроявленные черные деревья. Изредка появлялись одинокие постройки, если не аварийные, то уж очень неприглядные. Фотокамера взгляда запечатляла их как зернистые, нечеткие. По каждой такой лачужке Ангарский определял: через двенадцать минут будет станция N, через тридцать пять с погрешностью в минуту – станция NN. Его глаза отражались в стекле. Они были прозрачные и одновременно беловато-серые, как остатки водки.
*
Когда Ангарский все-таки задремал, он в очередной раз (в третий или четвертый) увидел мучивший его сон про работу. Снилось подобное не впервые, поэтому прямо там, во сне, проводник преисполнился отвращения к происходящему, каким-то образом сгруппировался, напрягся всем телом, сжал скулы – отдало в виски, и проснулся.
– Негодяи! Как таких земля носит! – прошипел он вслух, садясь на полке. – Я и сам дурак, опростоволосился, – за годы работы на железной дороге Рома выработал привычку говорить с самим собой (чаще – ворчать), не обращая внимания на то, какое странное впечатление подобный монолог может произвести. На кого? Вот именно, не на кого. Дурак Веня не в счет. Передразнивая сам себя, вспоминая ночной кошмар с налетом поездного быта, при этом страшно кривляясь и поглядывая на свою тень на стене, Ангарский воспроизвел диалог из сна:
– Ребята, где учитесь?
– В Саратовской академии права.
После этих слов с отвращением к самому себе он совершил холостой плевок в сторону, искусственно поменял тембр и продолжил свой импровизированный, почти кукольный, спектакль:
– А едете куда, если не секрет?
– В Кисловодск. Сигареткой угостить?
«Идиот!» – вслух отругал себя Ангарский. Залпом осушил металлическую кружку воды, лег обратно на полку. Проводник уже начал по-жучьи копошиться, укладываясь, но дверь в купе отворил Веня.
– Ангарский, пересмена, – нервно дернувшись, сказал он и то ли сглотнул, то ли хватанул вагонного воздуха в результате желудочного спазма.
Ангарский (его застали врасплох) соскочил с полки, отряхнулся от остатков пищи, что могли случайно оказаться на одежде (спал, не снимая формы). Сознание еще не вполне вернулось, тем не менее проводник огляделся. Происходящее его рассердило. В окне все еще светила луна, а Веня каким был дураком, таким и оставался.
– Какая пересмена? Ночь на дворе!
– Я боюсь, Ангарский. Нужно пассажиров посадить. Там на платформе опять эти двое.
– Чего? – Ангарский весь скривился. Осознавая, что Веня в который раз говорит и одномоментно претворяет в жизнь свой несусветный бред, Рома с демонстративным раздражением толкнул плечом напарника и пошел разбираться.
Поезд стоял в Минводах. Других проводников на выходе из вагона не наблюдалось («Разумеется, Веня же приперся сюда», – подумал Ангарский). Поезд за прошедшую ночь изрядно опустел и стоял похудевший, осунувшийся, как призрак. Морозная ночь прилипала ко всему, до чего дотягивались ее потные ладошки, и как последствие прикосновения – оставляла пятна инея на металлических дверях состава, на коробах фонарей, как бы дымящихся от света, на круглых плафонах, насаженных на фонарные столбы по два, как виноградины на шпажку (конструкции эти, выстроенные в ряд, напоминали череду огромных шарнирных массажеров для шеи, воткнутых в платформу). Даже на горе Змейке вдалеке наблюдались следы ладоней ночи и поверх – отпечатки луны. Гора стояла в тумане, как в пару, а пар валил отовсюду: из теплых вагонов, от ламп, от дыхания Ангарского. На платформе в ожидании посадки курили двое молодых людей в причудливой униформе с фуражками. «Студенты!» – догадался Ангарский, хотя униформа больше походила на военную, и зимой даже в южной части России в такой одежде должно было быть холодновато. Еще какой-то мужик со взлохмаченной бородкой и мешком через плечо бродил туда-сюда, но садиться явно не собирался. Он был весь чем-то перепачкан, а сверху припорошен мелким сухим снегом, как шоколадное пирожное сахарной пудрой. Но на шоколадного солдатика был все же не похож: больно страшен и неопрятен. «Рабочий какой-то», – проводник срочно направился к молодым людям. Чтобы скрасить неловкий момент (никто молодых людей до сих пор не посадил, не обслужил), с несвойственной ему приветливостью, наигранно бодро, спросил:
– Ребята, где учитесь?
– В Саратовской академии права, – ухнул голос.
– А едете куда, если не секрет? Курите?
– В Кисловодск. Курим. Вас сигареткой угостить?
– Нет, спасибо, у меня свои, – Ангарский вытащил из брюк фирменный портсигар «РЖД» с паровозом, достал сигарету, закурил. Дополнительное облачко пара полетело в морозное небо.