Певец страны Тангейзера. Избранные стихотворения и драмы Уве Ламмла в переводе с немецкого Романа Кошманова (Пилигрима)
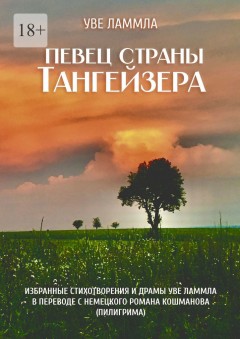
Переводчик Роман Кошманов (Пилигрим)
© Уве Ламмла, 2025
© Роман Кошманов (Пилигрим), перевод, 2025
ISBN 978-5-0067-6157-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Поэт-переводчик Роман Юрьевич Кошманов
(лит. псевдоним Роман Пилигрим, род. в 1973 году, г. Воронеж, Россия). По окончании Воронежского музыкального училища (факультет дирижирования академическим хором) поступил в Воронежскую Государственную Академию Искусств, где закончил два факультета: дирижирования академическим хором и факультет сольного пения. После окончания академии, в 1999 году, приглашён на работу в Германию как тенор, где и работает по сей день. Серьёзно увлекается живописью, литературой, с 2012 года – поэтическим переводом, пишет музыку. В 2014 г. выпустил музыкально-поэтический опус – компакт-диск «Квестенберг: гимны и песни для солистов, хора и оркестра», с музыкой, написанной на стихи поэта Уве Ламмла.
Эта книга – лишь краткая ретроспектива творчества выдающегося современного немецкого поэта Уве Ламмла, скоропостижно скончавшегося на взлёте своих творческих сил, который оставил после себя светлую память, неизгладимый след в искусстве и множество незавершенных планов. Она издана в память о многолетнем благодатном поэтическом и духовном союзе двух друзей и соратников. В книгу вошли избранные стихотворения из тридцати сборников. Кроме того, здесь представлены драмы «Полифем», «Медея», «Орфей», «Анна Луиза». Вступительное эссе объясняет, почему немецкий поэт желает обратиться к русскоязычной аудитории.
Уве Ламмла (21.01.1961 – 16.03.2024)
родился году в городе Нойштадт-на-Орле, Тюрингия; с ранней̆ юности писал стихи в классическом стиле, и на классические темы. Поэт всегда сознательно держался в стороне от современного литературного истеблишмента, который по большей мере отрицает традиционные формы, намеренно умалчивая о национальных особенностях, зачастую искажая постулаты христианства.
С 1995 зарабатывал на жизнь книготорговлей и издательской деятельностью, имея собственный̆ бизнес – издательство «Arnshaugk-Verlag».
С 2009 года, помимо стихотворений, писал драмы и литературные эссе. В своём творчестве поэт опирался на народную песню и церковные песнопения, на лучшие образцы немецкого классицизма, романтизма, а также драматизма Клейста и Граббе. Автор часто обращался к темам, намеренно умалчиваемым в Западном мире, тем самым развенчивая его современную мифологию.
Господь меня сюда привёл
«Счастья тот вкусить не сможет,
Кто на бреге адских вод
Не осмелится украдкой
Преломить небесный плод.»
ШИЛЛЕР
Бесспорно, это довольно необычно для поэта, опубликовать свои произведения в переводе с оригинала, ещё до того, как он получил известность и признание на родине. Древняя истина гласит о том, что нет пророка в своём отечестве, – она давно сильно подешевела, хотя вряд ли найдётся такой поэт, который не считает, что заслуживает гораздо большего внимания, чем это происходит на самом деле. Лично мне всё это совершенно понятно. И, тем не менее, так как я в течение 40 лет занимаюсь литературной деятельностью, поэзией и прозой, и получил довольно большое признание среди многих знаменитых людей, и в личных беседах, и в частной переписке, но, по какой-то странной причине, – только не в публичной сфере, мне не нужно быть знатоком «теорий заговора», чтобы не заподозрить этакое спланированное умалчивание обо мне и моём творчестве. Я ни в коем случае не отшельник-еремит, не изгой, я успешен как издатель и продавец книг, состою в переписке со многими деятелями культуры и многочисленными СМИ, но я всё равно натыкаюсь на глухое молчание, как только где-либо заходит речь о моём литературном творчестве.
На эту тему у меня есть масса историй и даже анекдотов, но меня интересуют не создавшиеся условия для моего творчества в Германии, а – русская публика, с которой хочу познакомиться, надеясь увлечь её этим изданием. Во-первых, немецкая поэзия традиционной направленности уже давно воспринимается в России с гораздо большим интересом, чем в немецкоязычных странах. Например, произведения поэта Рильке в России издаются тиражом, примерно на 20 процентов большим, чем где бы то ни было. Во-вторых, благодаря болезненному опыту вестернизации в девяностые годы прошлого столетия, русские люди гораздо больше открыты для альтернативных интерпретаций истории или концепции понятия свободы, чем тот же избалованный «зажиточный» Запад. В-третьих, и это является решающим пунктом для моего начинания: марксистский террор, чего бы не предпринимал, не смог лишить россиян их набожности, религиозного сопричастия чему-то высшему, и глубинного мужества веровать, да и понятие – «народ» здесь по-прежнему священно, также, как и чувственное отношение к искусству. Несмотря на то, что народную песню, церковные псалмы и гимны я считаю одними из главных вдохновителей и источников моего поэтического творчества, я совершенно не хотел бы ограничиться обращением только к так называемой – «церковной аудитории». И, кроме всего прочего, – то воодушевление, которое происходит от глубочайшей веры в Бога, остается важной предпосылкой для проявления вышесказанного в моих стихотворениях и драмах, способствуя в поиске душевной радости, не желая вызвать у читателя раздражение или гнев.
Поэт, мне думается, должен остерегаться попытки самому истолковывать свои собственные произведения. Но, тем не менее, я должен следовать просьбе переводчика – о подробном вступительном слове, о моём предисловии, чтобы раскрыть намерения, которыми я руководствовался в подготовке этой публикации, с целью пояснения выбора произведений, вошедших в эту книгу.
Цель первая – по возможности, попытаться исправить мнимый образ современной немецкой литературы, той, что ныне, с большим успехом, распространяет тенденции индустрии так называемой западной культуры, которая охотно подхвачена и воспроизводится русскими интеллектуалами, ориентированными на запад. Но есть «потаённая» Германия, есть целая плеяда поэтов, которые не особо желают подчиняться общепринятым, сегодняшним, требованиям государства и гражданского общества, в плане выбора темы или формы творчества, предпочитая не попасть в число раболепных друзей сильных мира сего и крупных издательств, участвующих в раздаче всяческих литературных премий.
Когда, в 1986 году, я основал издательство «Arnshaugk», моя собственная поэзия – ещё ходила в «детских сандаликах», но уже в то время мне был чрезвычайно интересен альтернативный форум, другое звучание, выбивающееся из общей гармонии. С конца 1970-х годов я был активным участником в различных литературных обществах в Мерзебурге, Айзенахе, Потсдаме, Лейпциге и, наконец, в Нордхаузене. Однако в то время я разделял широко распространённое заблуждение о том, что подавление самобытной немецкой литературы было связано только с правлением коммунистической партии в центральной Германии, но, когда я переехал в Мюнхен в 1984 году, то с удивлением обнаружил, что здесь с этим ситуация ещё более катастрофична. В то время, когда коммунисты запрещали – национальное, мифическое и религиозное содержание, «свободный Запад», сводным хором, пел в унисон, преклонившись перед англосаксонским диктатом, считая, что классическая форма произведений является тоталитарной, с которой просто необходимо бороться. Рифма, структура, форма, и, в общем, любая грань подхода к речи, к родному языку, как к языку высокого литературного уровня, выходящему за рамки повседневной жизни, допускались только в области – сентиментальной, такой как музыкальный хит, или комедия, шутка и пародия, и, в тоже время – в произведениях, которые должны были восприниматься «всерьёз», также не должно было быть так называемых «анахронизмов». «Запрет» на рифму был несколько ослаблен после начала этого тысячелетия, но это произошло только потому, что публика совершенно потеряла чувство ритма и чувство гармонии настолько основательно, что пробуждение в массах тяги к народной песне, или чувство радости от фольклора и традиций, всё равно должны были остаться – парадоксальным «нишевым» явлением. Если мне удастся привлечь внимание читателя этой книгой, то наверняка многие поэты-переводчики будут готовы представить русским людям целый ряд немецких авторов, о которых, пожалуй, любитель поэзии не мог и мечтать. В связи с этим – я стою в форпосте этого движения.
Вторая цель, которую я хочу достигнуть, изданием этой книги, – касается отношений между немецким и русским народами. Американские политики уже не раз проговаривались о том, что поддержание, на должном уровне, враждебности между немцами и русскими было основной заботой англосаксонской политики со времен Бисмарка, здесь Америка твёрдо шла по стопам Англии. Бисмарк же, как ярый прусский патриот, попытался Германию – «овосточить», но Аденауэр, как враг Пруссии, делал всё, чтобы страну – «озападить». Исходя уже из того факта, что ни одна немецкая область не произвела на свет столько поэтов, сколько Силезия, что Кенигсберг объединяет антагонистов Канта и Гамана, то можно сделать вывод, что немецкий дух философской мысли, по сути своей, – континентален, скорее восточный, и ни в коем случае не атлантической направленности. Близость Бисмарка к России, о которой мы знаем из его воспоминаний о Санкт-Петербурге, объясняется не только политической тактикой удержания Франции на расстоянии, но и схожестью менталитета наших народов. Нам хорошо известно, что концепция Гердера о славянах направлена на изучение чисто лингвистического феномена, который позднее интерпретировался биологизмом 19-го века в сторону расистской направленности. Если мы хорошо вглядимся в дохристианскую мифологию вендов и других племён Восточной Европы, то мы ясно увидим здесь тесную связь с германскими традициями. Я убежден, что русские «по крови» намного ближе к нам, немцам, чем, например, французы. Таким образом, я хочу сказать, что речь идет не только о мире на всём фронте между незнакомцами и чужаками, но о том, что необходимо осознать нашу глубокую связь, которая многим старше всеобщего связующего элемента – христианства.
Третья цель – может также показаться политически направленной. Хотя поэт определённо должен держаться подальше от повседневной политики и особенно пропаганды, и ему желательно не примыкать к одной или другой партии, всё же искусство всегда – светское, и, следовательно, не может не выражать стремлений и чаяний людей. В моих произведениях часто говорится о «рейхе», самом главном, центральном мифе немцев. Тот факт, что несведущие люди использовали этот термин, это понятие в унизительной форме, и произносить его сегодня лучше не стоит, то эти доводы столь же несостоятельны, как и аргументы против использования понятий: «народ», «преданность», «свобода» или «мир». Существует царство (рейх), которое, согласно слову Спасителя нашего, не принадлежит этому миру, но это не то, что мной подразумевается. Нельзя не отметить того факта, что объединение германских племён немыслимо без христианского универсализма. Идея царства (рейха), как универсального, общезначимого, в немецком понимании – государства, соответствует идеи о универсальности Бога и конкретному воплощению «Назарета» (в понятии – ветвь). Центральное место в немецком рейхе занимает Кифхойзер, где дремлет в своей пещере-гробнице Ротбарт (Фридрих Барбаросса), в легенде о котором, так уж случилось, смешались два императора. Это поразительно, что Фридрих II, «Чудо Света», который согласно мифу Кифхойзера о «величии империи», как говорится, унёс её с собой в могилу, – умер спустя 269 лет после воцарения короля Генриха I Птицелова. Поэтому подавляющая часть немецкой истории проходила как бы в осознании того, что было утеряно что-то лучшее, самое важное – сердцевина. Это совершенно не совместимо с представлением Шпенглера о росте, цветении и увядании культур. Согласно этой идее, немецкая история была обезглавлена ещё в младенчестве, и поэтому была заведомо обречена на вечную незрелость. Конечно, речь идёт не просто о проклятии, но и о мечте о великом возрождении. «Величие империи» следует сразу за «темным средневековьем», периодом истории, о котором мало что известно, о времени, которое, как утверждают некоторые исследователи, – вообще не существовало.
Этот тезис подтверждается, по крайней мере, странной близостью готики к позднеантичной романской архитектуре и музыке, и необычно блеклыми списками правителей с их свершениями, которые не нашли должного отражения в поэзии. В целом, историки должны придавать искусству прошлого гораздо больший вес, чем дошедшим до нас историческим документам, потому что в отличие от хроник, пактов и договоров, искусство не могло быть сфальсифицировано. «Песнь о Нибелунгах» восходит ко времени периода великого переселения народов, но, известная нам, гениально разработанная версия этого шедевра, датируется 13-м веком. Когда в ней упоминается «император», речь идёт не о Риме, но о Константинополе, и идея какого-то давнего и нерушимого или обновлённого западного Рима, в то время, несомненно, не была устоявшейся и общепринятой. Несмотря на все неопределенности в средневековой истории, следует отметить, что возрождение Рима сопровождается чередой инсинуаций и интриг, причем венецианцы, «предки» нынешних специалистов секретных служб, играют в этом действии не последнюю роль, которую нельзя недооценивать.
В любом случае, Немецкое Величие, вернее стремление к нему, всегда находилась в конфликте с Римом, – невероятно мстительной «инстанцией», действия которой Константин Великий никогда не одобрял, не соглашаясь с стремлением последнего утвердиться в качестве «Центра мира». Древний Рим ведь уже являлся культурным центром, и христианство утвердилось в эллинистическом мире, благодаря подвижничеству апостола Павла и его последователей. Разграбление Константинополя в 1054 году, и последующая схизма (церковный раскол) не должны были просто «кануть в Лету», как посчитал Второй Ватиканский Собор, но явиться предпосылкой к планомерному усилению позиций Рима, что и пытается Папа Франциск осуществить сегодня. Папа Римский всегда носил титул Pontifex Maximus, то есть – имеет титул римского чиновника, который должен стоять выше всех мировых религий. Теперь иезуит от Уолл-стрит вновь не теряет надежду стать если не хозяином, то точно властителем дум мусульман и буддистов. Мне не верится, что этот «великий план» может быть успешным, но намерение – дьявольское.
В этой ситуации немцы, несомненно, должны обратиться к Византии, – опять же к рейху или империи, которая однажды уже была поддержана властителями германских земель. Осознание этого тезиса совпадает с тем мнением, что якобы новый рейх-империя больше не может существенным образом опираться на немецкий народ. Но ведь тогда получается так, что новую Византию могли создать только немецкий и русские народы, и с исторически гораздо более сильным основанием, чем так называемая германская Римская империя. Это не что иное, как – «дальнейший проект», который, в отличие от территориального понятия «Евразия», не является материалистическим, но сможет помочь немецкой молодёжи хотя бы подумать над этой перспективой. Одно из моих основных убеждений заключается в том, что у Бога по-прежнему существуют большие планы на нас – немцев, а проигранные войны, оккупация, упадок и подъём – всё это лишь испытания крепости нашего духа. Возможно, что когда-нибудь появится нечто такое, что будет носить название – Великая Византия. Если это не повод высказываться об этом в России, то, это было бы, как минимум, довольно странно.
Тогда почему это книга выйдет в свет не как манифест, а как сборник лирических и драматических стихотворений? Прежде всего следует помнить афоризм Ницше о том, что мысли, изменяющие мир, управляющие им, ступают «голубиными шагами». Не хочу обидеть политика или военачальника, но я убеждён, что самое главное – человеческое, исходит из сердца. Это большое несчастье, что немцы всех политических направленностей игнорируют поэзию, считая её даже неуместной в реальной истории, в происходящем сегодня. В связи с этим я не устаю повторять, что расцвет Германии в 19 веке был бы невозможен без Фридриха Шиллера, чьи произведения в то время лежали на каждой полке, на каждом камине. Я ни в коем случае не претендую на то, что создал произведения, того же масштаба, которые могли бы иметь подобный эффект, но надеюсь внести посильный вклад, который мог бы поощрить молодые таланты попробовать свои силы на литературном поприще. Немецкий классицизм парил в тени невероятного прогресса, Гердер не мог знать, что несравненный Гёте пойдёт по его стопам. Воскресение поэзии может создать предпосылки к появлению совсем другой элиты, чем та, которую мы имели последние сто пятьдесят лет. Современный прессинг, подавляющий стремления к такому воскрешению, при необходимости, наоборот, может повлиять на то, чтобы приложить все усилия, в течение собственной жизни, для достижения этой цели, которую, к сожалению, сегодня следует понимать, как – особо тяжкий грех. Настоящая поэзия имеет большее значение, чем собственный жизненный путь.
Мои стихотворения тесно связаны с природой и историей. В стихах о природе я пытаюсь быть рядом с поэтами 1930-х годов, которые внесли в поэзию точное наблюдение природы, описание животных и растений, которые больше не проводили параллельных связей всего живого с изменениями в человеческом настроении. Кроме того, я пытаюсь доказать, что предметом поэзии может быть не только каждое живое существо, но и каждая гора или камень, и даже, например, – химические вещества и элементы, причём не только природные, но и как результат человеческих исследований. Ни в коем случае мне бы не хотелось, чтобы мой «консервативный» взгляд на мир был бы заподозрен в фундаментальной враждебности к науке. Разумеется, я следую гётевскому подходу, согласно которому – познание природы нельзя проводить с помощью закручивания тисков и струбцин, поскольку настоящие знания могут быть достигнуты только благодаря любви и смирению. Для меня учёные – не «звездочёты» и «ускорители частиц», но – искатели, искатели нашего всеобщего исцеления. И мне известно, что извечный враг Христа – всегда будет врагом человека.
Помимо природы, в моих стихах я обращаюсь к немецкой истории, которая не может не быть моим попутчиком. В дополнение, к уже несколько раз упомянутому Гёте, не могу не упомянуть имя Мартина Лютера, о переводе Библии которого на немецкий язык, Гёте говорил, что возможно он сделал бы перевод лучше, и здесь нужно обязательно ставить акцент на слове – «возможно». Малоизвестно, что Гёте восхищался Лютером, и даже эпохой средневековья, что удивительно, но это действительно – факт. Но вот от людей, которые продолжают скрывать неприязненное отношение Гёте к Ньютону, и приписывают поэту оптимизм по отношению к прогрессу, другого ожидать и не стоит, и это тоже – факт.
О Лютере в России наверняка тоже циркулируют довольно авантюрные представления. Для этого есть две основные причины. С одной стороны, – неослабевающая с веками католическая инспирация, при которой Рим простил массу еретиков, а вот Лютера – нет. Это потому, что Лютер воткнул палец в очень больную рану. Он отрицает святость церкви как учреждения, лишая её той святости, которая на протяжении веков поддерживала мощь Рима непересыхающей золотой рекой, без которой тот не может, и не хочет обойтись. Речь идет совершенно не о святости Таинств или Благовещении Богородицы, а о святости бескомпромиссного права церкви. Религиозное право давно является «торговой маркой» Рима, а римское право, которое церковь перенесла в современность, является не чем иным, как правом собственности. Введение его в немецкие земли в конце средневековья было не только побудителем крестьянских войн, но и проявилось в росте враждебности по отношению к Риму, что в конечном итоге и привело к Реформации. В которой, в отличие от римского права, – германские луга и леса, а также, что важнее – слуги, женщин и дети не являются вещью, но становятся людьми, как минимум, – подопечными свободного человека. «Премодернистский» немец не знал понятия частная собственность, получив лицензию творить произвол, а имел только пожизненный феод, неся ответственность за него перед Богом и господином.
Здесь мне не хочется умалчивать о том, что Рим, в ответ на действия Лютера, а также на работу печатного станка, который сделал невозможным сохранение «тайны» Священного Писания, практиковал особое благосклонное отношение к астрономии, и потворствовал установлению новому антибиблейскому мировоззрению, хотя иезуиты прекрасно знали, что новые веяния и концепции появились именно в противовес Церкви. Но любой, кто ныне сомневается в Копернике, может быть уверен в том, что в его адрес всё ещё раздаются проклятия, которые много суровее, чем они были во времена Лютера. Смею пророчествовать, что последнее слово по этому вопросу ещё будет сказано.
Вторая причина появления искажённого образа Лютера, проистекает из смешения лютеранства с учениями Цвингли и Кальвина, то есть реформаторской церкви. Вообще я довольно хорошо отношусь к Фридриху Вильгельму I – «королю солдат», (в отличие от его сына, который «продал» Пруссию масонам, что, следовательно, означает – Англии), который, исходя из семейных обстоятельств, к моему сожалению, внес значительный вклад в объединение противоречивых протестантских учений. Лютер противоречит безальтернативности римского права, не ставя религиозное понятие «Предопределение» во главу угла, но описывает создавшиеся противоречия как неразрешимый конфликт, соответствующий миру падшему, в котором, несмотря ни на что, всё ещё правит Святой Дух, где по реформаторским понятиям – добро с самого начала свято, ну а зло, по понятным причинам, может даже иметь частицу светлой стороны. Прямым следствием этой доктрины сегодня является – англосаксонское высокомерие, которое рассматривает власть и богатство, достигнутые любым способом, – свидетельством Божьей помощи и благодати.
Последнее, чего бы я желал, чтобы мое понимание личности Лютера было воспринято так, что будто бы протестантские церкви чем-то лучше, или даже предпочтительнее католических. В римской церкви сегодня существует гораздо больше сопротивления тенденциям однополярного мира и трансгуманизму, чем в иных, совершенно нелепых альтернативах. Лютер сформировал не только немецкий язык, но и немецкое чувство святости. Его Реформация была реакционной, он хотел вернуться к средневековому благочестию, уйти от упадка эпохи Возрождения, в то время как кальвинисты стремились «обюргерить» церковь, превратить её, говоря о б этом в двух словах, в подобие – учреждения сферы услуг.
Православным христианам, желающим лучше понять суть немецкого народа, я рекомендовал бы ближе познакомиться с трудами Лютера. Между прочим, я считаю, что Лютер не был бы отлучен от церкви в России, здесь никогда не торговали индульгенциями.
Моя приверженность Лютеру часто осуждается, называется «kleindeutsch» (мелко-немецким), вероятно потому, что Лютер не был великим правителем, и предпочитал драке – тихую беседу под липой. Ницше однажды сказал, что Лютер провел Реформацию только потому, что ему не разрешили ступать по прекрасным коврам Ватикана своими грязными крестьянскими ботинками. Это верно подмечено, но я всё равно буду стоять на стороне Лютера. Потому что для меня быть крестьянином – не означает быть «недонемцем» или нехристианином. Я не был рождён крестьянином, но я преклоняюсь перед Господом, Хозяином Земли нашей, превращающего воду в вино, а глину в хлеб. Настоящей аристократии не противен комок земли, даже если он прилип к сапогу.
Моя литературная деятельность, также является чествованием сельской жизни, вдали от шумных городов, которые из-за ярких техно-проблесков забывают о том, что есть главное в жизни. Здесь, в тиши и размеренности, – природа и история объединяются в одно целое, здесь вы живёте рядом с животными, и не можете не уважать предков. Тут человек не будет их осуждать за ошибки и промахи, а схватит себя самого за нос. Но, конечно, появляется опасность того, что человек постоянно пытается сделать, а именно – успокоиться, достигнув якобы некоего предела. Человеческий «предел» является центральным пунктом всей поэзии вообще. Каждый объект – поэтичен, если его охватить в человеческом сущностном понимании, выйдя за собственные пределы. И этому нужно учиться снова и снова.
Мне особенно близки мои драмы, в которых я ровнялся на Клейста и Граббе, они – мои путеводные звёзды. С тех пор как они творили, мало что схожего в этом направлении по стилистике, по величине мысли было создано, современная деградация была разрушительна для искусства в целом, и губительна, в частности, для драм. Драма предполагает, что космос и его человеческий аналог – подобны. Естественно, что наше «открытое общество» не в состоянии создать никакой серьёзной драмы, и современный театр имеет мало отношения к стремлению участвовать в классическом воспитательном процессе, всё больше прибегая к ярмарочным средневековым шуткам, или, используя современную терминологию, – к каруселям и карнавалу. Больше нет желания представить зрителю сложные произведения разговорного жанра, а завлекают разными видами театральных технологий. «Развлечения и отвлечение» являются полной противоположностью избранных мною произведений для этого издания книги.
В избранных драмах, что вошли в эту книгу, я постарался по новой интерпретировать известные древние сюжеты. Общеизвестно, что англичане являются исключительными поклонниками «Одиссеи». Но и многие немецкие поэты, следуют за англичанами, приняв их суеверие, что победитель, всегда персонаж – положительный. Поскольку я неизменно видел себя троянцем, то позволил себе взглянуть на происходящее в разных историях – глазами побеждённых. Сицилийский Полифем не более людоед, чем кто-либо из туземцев, которым, как утверждали колонисты Её Величества, они принесли английскую цивилизацию. Полифем не желает ничего иного, как просто в тишине и спокойствии заботиться о своих овцах, которых он любит, как любой другой человек какого-либо мира. Но вдруг приходит некто, очень подходяще называя себя «никто», можно сказать этакий «Anywhere», который учит страху «Somewhere». Тут ассоциативные параллели с немецкой историей – лежат в плоскости интересов автора. Колонистское высокомерие также показано в путешествии Аргонавтов. Но более всего страшна судьба Медеи, которая мечтает о Западе и предает своё отечество. Античный ужас этой трагедии все больше и больше смягчается в наше время, даже уже у Грильпарцера – бедная женщина оказывается жертвой обстоятельств, а у Кристы Вольф, она даже становится героиней-освободительницей. Я пытался обратить вспять развитие таких интерпретаций, доведя жуть произошедшего – до крайности, потому что наше время порой гораздо мрачнее, чем античный мир.
«Орфей» – моя любимая драма. Всем очень хорошо известно, что певец, не смотря на запрет, оборачивается, чтобы увидеть возлюбленную, и тем самым теряет её навсегда. Однако я не нашел ни одного литературного материала, который бы достаточно аргументированно мотивировал эту ошибку в поведении героя. Как вообще такое могло случиться, что поэт- певец, заставляющий своим искусством рыдать растения и животных, который смог даже смягчить сердце самого бога Смерти, вдруг совершил такую ужасную глупость? В моей пьесе Орфей имеет сильного противника, который также является «художником», я имею в виду – Гермеса, посланника богов. У этого бога самая роскошная загробная жизнь из всех греческих богов, будь то в гермафродизме, в герметизме или в герменевтике. Пришло время с ним посчитаться! Гермес – делец, может быть даже прообраз искусственного интеллекта, который презирает чувственность человеческого сердца. Лира Орфея не имеет на него никакого влияния, – да, он презирает сына муз, как математик – мечтателя романтика. Его, якобы, правота была и остается поверхностной. Орфей осознаёт скоротечность жизни, и его мать говорит ему пророческие слова о том, что скоро появится тот, кто завершит то, что он пытался делать всю свою жизнь. В своих пьесах я пытаюсь показать, что только с Христом можно лучше понять глубину античных мифов, разглядев их особенности словно в зеркале. Ведь благоразумие и состоит в том, чтобы в каждой мудрости найти истинное зерно.
В драме «Анна Луиза» проводится нить от спора героев о наследии Ницше до упадка литературы времён ГДР, который, далее, уже во время объединённой Германии, оказывается даже меньшим злом, чем бессовестное осквернение могилы главной героини произведения. Княгиня, преследуемая модернистами всех мастей, несмотря на невзгоды и горести, проявляет истинное благородство, найдя свою опору в вере.
Места действий, дух и направленность драмы согласуются со строкой: «Господь меня сюда привёл…“, взятой из стихотворения княгини Шварцбург-Рудольштадтской. Ко всему прочему это изречение я беру и для себя за основу, лишь утверждаясь в том, с благодарностью и радостной надеждой, что Господь был и будет моим заступником, что Он укрепит меня в моих трудах, позволив мне и далее наблюдать, и писать об увиденном.
Уве Ламмла
ЭНДИМИОН
(1979—1988)
Чернолесье
- Не доверю я другому:
- Леса чёрного имён,
- Ветер, луг, дорога к дому,
- Это – гибель, смертный стон.
- Песня, и стихов страница,
- Страх, любовь, поспешность, пыл,
- Это смерть, кончины лица,
- Что я втайне сохранил.
- Бог забытый, в робе рваной,
- Слово в звёздной вышине,
- Были смертью, смертной раной, —
- Тяжелей любви вдвойне.
- Дальше следуй, до забвенья;
- Там, где в маках гаснут дни,
- Чёрной смерти сновиденья,
- К ним напевы протяни…
Смородина
- Там, где в горку, через поле,
- К югу тянется наш сад,
- Куст расцвёл, по чьей-то воле,
- Много лет тому назад,
- Вкруг него другие тоже
- Разрастались покучней,
- Всюду ягоды, но всё же,
- Всех смородина красней.
- Слаще чёрная натура
- Тех, с кислинкою, гроздей,
- Но багряная микстура
- Старше памяти моей.
- И в кисель, и в морс пригожи,
- Ешь горстями наконец,
- Ягоды храни, о, Боже,
- И смородины багрец!
- Поредеют мириады, —
- Буду чуждый небесам,
- Сада моего наряды
- Откровение глазам.
- Пусть малина – наважденье,
- Ежевику – не унять,
- Только сад – моё владенье,
- В нём – смородинная рать.
- Мне отведанное было
- Роста позднего родней,
- Но мытарство иссушило
- Этот знак судьбы моей.
- Призрачны мои старанья,
- И любовь обречена,
- Но у грёз есть очертанья,
- В них – смородина одна.
- Если дамбы все прорвутся,
- Дней превратность обовьёт, —
- Вновь пристрастья призовутся,
- Пусть им ласточка споёт.
- Гнев себя же низвергает,
- Выстоит уклад вещей,
- Ведь эдем оберегает
- Куст смородины моей.
РЫЦАРИ КУВШИНОК
(1989—1993)
Тинтагель
- Гордо над морской волною
- Корнуолла берег встал
- Грозной каменной стеною,
- Властной крепостью средь скал.
- Утер, Мерлином здесь тайно
- В герцога был превращён.
- Так обрёл король, случайно:
- Замок, жезл, жену и трон.
- На скалистый трап ступая,
- Знаешь, что Артур не раз
- Гордо шёл по кряжам края,
- Что светлы тем и сейчас.
- Но свидетелей былого
- Нет средь пыли и камней,
- Власть у отпрыска иного, —
- Князя бури и теней.
- Бьются об утесы волны,
- Куртка вымокла твоя.
- Мощью великаны полны,
- Мифы в глубине тая.
- О чудесном знают руны,
- Но хронолог молчалив,
- Спицы колеса Фортуны
- Моет дочиста отлив.
- Шатки у вершины стали
- Вдруг ступени, и круты.
- Беззащитен в мощном шквале,
- Будто лист кленовый ты.
- А руина ждёт седая,
- Где всё сагой говорит,
- Там рудник, не иссякая,
- Песнь твою посеребрит.
- Провожатый Безымянных,
- Праотец печальных снов,
- Рад ты, что с равнин туманных,
- Кельтов культ глядит из мхов,
- Ведь как бард, друид, – со рвеньем,
- Из источника он пил,
- Где поздней, с монашьим пеньем,
- Знак трискель лишился сил.
- Но когда седую стену
- Проблески смогли порвать,
- Ты пришёл ему на смену,
- Греешь дланью рукоять,
- Рифмы лягут в лук взведённый,
- С песнопеньем слог – един,
- Лебедем на брег свезённый,
- Дуб сажает – Лоэнгрин…
Хвала семёрке
- Тот, кто камень первым бросит —
- Семь припрятал за спиной.
- Рост шестого чувства спросит
- Для себя тайник седьмой,
- Если делят в Вавилоне, —
- Не обжулить, не украсть:
- Пять и шесть – как на ладони,
- В кулаке – седьмая часть.
- Семь огней горят у трона,
- Семь рогов у агнца есть,
- Семь князей – Армагеддона
- Ждут, кляня Благую Весть.
- Семь планет – разнообразней
- Рун, что в будущее зрят,
- Семь – философов, семь – казней,
- Семь, как – время и квадрат.
- Пядей семь во лбу, – светило,
- Менее семи, – глупец,
- Дней, всего семи хватило,
- Чтобы создал мир Творец.
- Семилетье – урожая,
- Столько же – пшено одно,
- Молви, можно возражая,
- Семь – не Богом ли дано?
Сон Навуходоносора
- Узри себя в зерцале времён:1
- Ветрами твой облик сметён,
- В грядущего линию лёг.
- Тот ствол, что несёт небосвод,
- Коренья во мрак пустил,
- Но там, где летит мотылёк
- Сквозь сон, – набирается сил
- Валун, что царства снесёт.
- Сусáль там смогла обернуть
- Богов венценосную суть,
- Светило излилось в царей
- Покорным теплом, и легко
- Играет на чистом лице.
- Но в кожу, всех знаков мудрей,
- Прописанный на изразце, —
- Валун, что пока далеко.
- Свой культ охраняют жрецы,
- Упорно вбивая в столбцы
- Всё то, что служило всегда.
- Не скроет сребряный кошель
- Божеств белоснежную прядь,
- Их сумрак подточит вода,
- И явно уже не сдержать
- Валун, что наметился в цель.
- В пластах глубочайших сокрыт,
- Сияньем отброшенный щит,
- Бесславен и некрасив.
- Мечом повинуется медь
- Тому, с кем смятенье грядёт,
- Во злато века превратив,
- К триумфу богов, но падёт —
- Валун, коронующий смерть.
- Ты в кузню вглядись, и внемли
- Державе из óгня земли,
- Железом возвысит она
- Напрасно людей и богов.
- Всё это валун распылит,
- Как к Господу взглянет страна, —
- Его мотылёк усмирит
- Златыми крылами из снов.
СВЕТ ИДЕЙ
(1994—2006)
Атлантида
Рольфу Шиллингу
- Гемма предмира, волна перламутра златая,
- Геи любимица, в час когда спит божество,
- Берег прилива, где высшее с чистым скрепляя,
- Ключ от извечного круга обрёл естество.
- Мягкий Зефир оперяет крыла над тобою
- Отпрыскам Неба, их танцев замрёт чехарда
- В дивном поклоне, пред нежной твоею красою,
- Ты – Океана жемчужиной будешь всегда.
- Дева, что лирики краше, свежее чем проза,
- Скрыла свой лик пеленою мажорных прикрас,
- Сон уходящий, в нём бог, словно киноварь-роза,
- Свято трепещет, в драконе увидев твой глаз.
- Клад нерождённых прелюдий, не отданных миру,
- В храме Урана ночном, ты – Горгоне сестра,
- Будет проверен тобою певец, взявший лиру,
- Смехом одарен иль запахом Дафны листа.
- Рифы кораллов тобой восхищаются мило,
- Чистый источник, в глубинах теряющий лот!
- Солнце, век меди – эпохой железа сменило,
- Страшно без меры рождённое Гея вернёт.
- Время стальное мерцаньем влечёшь за собою,
- Там, дерзновенно, тобой овладеет храбрец,
- Или погибнуть тебе, – мотыльком над свечою,
- Вечен Сатурн, лишь ценнейшее прячет в ларец?
- Утро, с тобою забвенные ночи благие
- Никнут, у Леты, не изгнанной в мрачную тень,
- Проповедь дней, чтобы ей измерять дни другие,
- Чудо своё ты сокрыла под тёмную сень.
- Нимфа-сильфида, с закатом ушла твоя сила,
- Счастья атолл, что на картах остаться не смог,
- Ты храбрецам Золотого Руна уступила,
- Но, лишь погаснет свеча, – оживёт мотылёк.
- Овны, клеймив её лоно, поля истоптали,
- Соколы звали героев, под рыканье львов,
- Но меченосцы портал к ней пока не сломали,
- Даже любви не разрушить тяжёлых оков.
- Как олимпийцы беспомощны вдруг оказались,
- Ночью поведает сага, забытая днём,
- Славой богов и людей, что нещадно сражались,
- Скорбь коронует прошедшее в храме своём.
- Всё же её величавость иссякнет на бреге,
- Где Афродита из пенной взросла красоты,
- Но, пред стареющим миром, избранницей Неги,
- Быть королевой тебе средь атоллов мечты.
Ундина
- Позднее чадо творца, что избег дел насущих,
- Волос, ниспадший святой белизной с ледников,
- Пагуба, в час предрассветный всех полдней грядущих,
- Свет манишь в суводь маиса и бездну лугов.
- Лёгкой стопою, сребряных зеркал не ломая,
- Лик окуная, от скуки, в дней сонных миры,
- Входишь как в рощу, познаниям тайным внимая,
- Ягоды их раскатив, словно отрок шары.
- В полном покое уснувшего бога рождённый
- Глаз, утопивший мечту в синеву навсегда,
- Чуешь во звоне оружия пыл затаённый
- Грозных течений, несдержанных пряжками льда.
- В мраке, под ивами, выпь расточает угрозы,
- Шепчет источник певцу свою магию слов,
- Ты – чудо влаги лобзаний, погибели слёзы,
- Нега приливов ночных у любви берегов.
- Ты обхватила рукою, неся по стремнинам
- Зовы страны, куда юноша редко вступал,
- Вихрю сродни и добра потаённым глубинам,
- Вал, что морей божество в Атлантиду умчал.
- Сердца простор, где слились родники луговые,
- Чистая верность, среди колдовства облаков,
- Потчуешь смехом огонь и панно расписные,
- Вечно идущих ваять твой разлив смельчаков.
- Жажда разбиться на капли, и вглубь просочиться,
- Луч, увивающий иву в бездонный поклон,
- Всё ж, лето в силах, кувшин свой закрыв, – удалиться,
- Прежде чем будет жнецом первый стебель снесён.
- С рогом военным пронёсся король за отмщеньем
- Воль по реке, раздающей наследство его,
- Снова сражённой тебе быть своим отраженьем,
- Лишь потому, что хозяин твой рад от того.
- Гроздь истощится, усохнув с октябрьской листвою,
- Соки вернутся домой, бросив ветви слабеть,
- Лягут туманы, и лавр позовет за собою
- Рифмы певца, расплетающих памяти сеть.
- Ранних мгновений сестра, в междутеньи живущих,
- Счастья посланница всем, кто о счастье мечтал,
- Позднее чадо творца, что избег дел насущных,
- Ты возвратишься к истокам, в начало начал.
Синдбад
- У очага, где к ночи в караване
- Забыли пыль, и всех трудов гранит,
- На лучшем месте, как предтечи ране,
- Поэт, в роскошном царственном тюрбане,
- Просторы, и дорогу к ним хранит.
- И во дворцах, где таинством фонтаны
- Купели полнят мраморных твердынь,
- Слезой поэту воздают султаны, —
- Что чудится: снуют через барханы
- Гиены, и ревут цари пустынь.
- И повествует он, поборник слова,
- Иной раз в рифму, если та придёт,
- То, что бахши перепевали снова,
- О призрачных морях, рвах змеелова,
- И как семь раз ходил в морской поход.
- Всегда в рассказ введёт хитросплетенье,
- Смертельный бой, коварство тёмных сил,
- Но из любой петли есть избавленье,
- Наверное, – Всевышнего веленье,
- Чтобы герой до старости дожил.
- Атоллы, там где грёза возгорится,
- Оберегает море от господ,
- Но разуму и делу покорится
- Первейшего, в ком время ободрится,
- Чей план ни власть, ни случай не сорвёт.
- И острова бывают, без навета,
- Кошмарные, что и не передать,
- И хоть века расспрашивай поэта,
- Он сам, в осколках сновидений это,
- Быть может, и сумел бы увидать.
- Вот первый остров, щедрый и зелёный,
- Китом уснувшим оказался вдруг,
- И кто, не веря слухам, впечатлённый,
- Глазам поверил, – рухнул изумлённый
- В пучину, и в мучений новых круг.
- Не знает часа смерти тварь живая,
- Неведомо когда задушит тьма,
- Мы погибаем, сетуя, страдая,
- И нам надежда дорога любая,
- Так как спасение – она сама.
- Иной пустяк, невидимый порою,
- Явиться может чудом в час невзгод,
- Когда команда гибла под волною,
- Герой, бочонок ухватив рукою,
- Над чуждым брегом углядел восход.
- И снова остров, тут кобыл Михрджана
- Крыл вышедший из моря жеребец;
- Целованного богом в лоб, охрана
- Доставила немедля до султана,
- И добрый у похода был конец.
- Вернувшемуся, жёны, мир – желанны,
- Но коротко, знакомого с хандрой
- Не сдержат ни святые, ни шайтаны,
- И видно, что вынашивает планы,
- Ещё горит огонь в крови младой.
- Мудрец не переспорит Безрассудство,
- Что наполняет вдох своей мечты,
- В знакомых лицах видится занудство,
- В словах о смысле, долге – словоблудство,
- В советах нет отваги, правоты.
- Все острова – уснувшие царевны,
- В сердцах их зачарован нежный пыл,
- Коль в дрёме слушал волны, что напевны
- У гавани чужой, – дела плачевны,
- Ведь твой корабль давно уже отплыл.
- И оказалось странствие второе
- Труднее, чем вести корабль в залив,
- Кто птицы Рух яйцо нашёл большое,
- Тот знает, не оставленный в покое,
- Утащен будет на далёкий риф.
- А дальше – змеи, с пальму толщиною,
- Джин, обезьяны, гуль и людоед,
- Могильный холод, смерть над головою,
- А уж как в рай попал, какой тропою, —
- На то пусть ночь другая даст ответ.
- Смолчит про Соломона гроб, какое
- Богатство взял, как смирну и сандал,
- Миндаль, рубины, жемчуга, алоэ,
- Добыл, и приумножил скоро вдвое, —
- Рассвет ведь на востоке засиял.
- Выходят в путь из караван-сарая,
- Султан ещё поспит часок-другой,
- Чужда поэту суета людская,
- Он всюду грезит, преданно шагая,
- В труде и муках, следом за мечтой.
Искусство акварели
- Лёгкость, что мудрость Китая ведёт за собою,
- Мягким над наитвердейшим победно встаёт.
- По сердцу это кому, – не железной тропою,
- Но вслед за дымкой волнительной грёзы идёт.
- Чутко, лавируя в царстве воды уходящей,
- Волос куницы, до крайности в силе скупой,
- Лёг меж творцом и покорной истомой дрожащей,
- Вечно сконфуженной перед его чистотой.
- Непредсказуемо всё, но всему есть законы,
- С ними, в лазури, – дробится, сливается свет,
- Даже паук, заплетающий сети-препоны, —
- Бог-демиург, естества создающий секрет.
- Так мать-земля обучает титана смиренью,
- С тем и герой промолчит о несчастьях своих,
- Зная: в ошибках поспешных скрывается тенью
- Путь через сад, преисполненный тропок иных.
- Звуки укрыли мечты под своей пеленою,
- Тени и блеск обретают цветистую вязь,
- И пестрота, примирившись в воде с чистотою,
- Раннее в позднем проявит, ручьём становясь.
- Цвет вожделенный прельщает ваятеля око,
- Что осторожно глядит на прозрачность небес,
- Скрытый, как жёлудь сухой, но совсем неглубоко,
- – Явственен Бог, пригибающий шепчущий лес.
- Всюду – начало, нет шага назад; где теченье
- Брачного зова надеждой и смыслом живёт,
- Может покинуть мыслителя вдруг озаренье,
- И лишь художник тогда пред Горгоной встаёт.
- Тот, кто взгляд каменный силы ужасной лишая,
- Твёрже чем мрамор был, воля чья – словно скала,
- Выйдет на бархатный путь, – там змея вековая,
- Мира владычицей, кольцами храм обвила.
- Лёгкие линии жаждут державных деяний,
- Дарит искусника дух влажным статуям вес,
- Будто бы он прародитель превечных созданий,
- Не преклонённых ещё пред величьем небес.
- Твёрд, каждым утром, внезапным триумфом рождённый,
- Словно в клинке отражённый, лучистый зенит.
- Но лишь в воде, кистью мягкой всегда защищённый,
- Свет, заигравшись, художника с богом роднит.
Критский пастух
- Всё зная о себе, доволен он,
- С вершин оглядывая берег свой,
- Вихры седы, умащены росой,
- Свободного с адамовых времён.
- Он пас животных, с нарожденья их,
- Стада оберегая от невзгод,
- Свой завтрак, неоскудный дикий мёд,
- С богами не делил, и страсть других —
- Людей, овец, пернатых или коз,
- Не тайна с давних пор для старика,
- И далека, как в небе облака.
- Повсюду им построены вразброс
- Пристанища, где терпкое вино
- Под шкурами в кувшинах бережёт,
- Не связанный ничем, Гермеса ждёт,
- Что неразлучен с Летою давно.
- Он знает, что растительность мертва,
- Сгорев на склонах, иль горька подчас,
- Лишь возле леса, где бродил не раз,
- Растёт в июле сочная трава.
- Оврагов зелень, мурава лощин,
- Годна его разросшимся стадам,
- Немногочисленным, когда и сам
- Был помоложе добрый господин.
- Едва ль на бедный берег враг придёт,
- Наследует стада ль пастух? – как знать…
- Уйдёт ли с ними он, иль Пан блуждать
- Заставит по местам, где создан скот?
- Смеётся в шторм, но молния, дрожа
- Врезаясь в полинялый свод светил,
- Ему внушает: это Бог схватил
- Его, как будто самка малыша.
- Он не встречал давно души живой,
- Заносит в горы редко рыбака,
- Чтоб нимфа оцерцеила слегка, —
- Готов принять отравы травяной.
- Кронидов злато находя кругом,
- Им бронзу колокольцев расписал,
- Горюя, что трезвон ничтожно мал,
- Чтоб услыхал весь белый свет о нём.
- Усопнет он спокойно, как всегда,
- Как должно, бытия смыкая круг,
- И мягким ветром обратится вдруг,
- Что дерзновен, но не творит вреда.
- Коль тёмная по венам хлещет кровь,
- В сирингу дует он или шалмей —
- О том, что божий сын, что всех вольней,
- Что всё ещё не вечер, – утра новь.
СТРАСТИ НЕМЕЦКИЕ
(2006—2007)
Под липою
- Мирно, под липою, в этом
- Лучшем для опусов месте,
- С ветренным пасхи рассветом,
- Шёл ты к источнику Квесте2.
- Звонко, под липою, лира
- Пела, являя селянам
- Жаркую глотку Фафнира3,
- Символ в карбункуле рдяном.
- Был ты, под липою, Богом
- Благословлён, и при этом
- Рёк тебе Ангел о многом,
- Шпаги кующий поэтам.
- Здесь мы, под липою, вняли:
- Будет у царства рачитель,
- И, коль анафем не сняли,
- Пой, словно страж и учитель.
Кифхозерский дух
- Всех ратей великих властитель,
- Чащобы и ветра король,
- Присяги и чести блюститель,
- Немецкой духовности соль,
- Велит, где нифлунгское злато
- Кристаллы сумели взрастить,
- Зажечься печам, как когда-то, —
- Кифхойзерским4 духом святить.
- Мы, словно кузнец Ютербога5,
- Известны, исполнены сил,
- Не ищет почёта, восторга,
- Кто Беса и Смерть укротил,
- Но кто не снискал благодати,
- Пока шлёт послов небосвод,
- В Кифгроте6 пускай, себя ради,
- Кифхойзерским духом вдохнёт.
- Назад, к Птолемея вселенной,
- Ни Папа сведёт нас, ни царь,
- В грядущем, – с борьбой вдохновенной,
- Свободу добудет бунтарь,
- Нам римская в тягость дорога,
- Наш корень с ней кровоточит,
- Но в дебрях, где слаб голос рога,
- Кифхойзерский дух прозвучит.
- Пусть нет в нас невинности боле,
- Нет в птицах, и даже в волках,
- Наивно, по собственной воле,
- Глядим на орла в облаках,
- Мечами сильны, и умелы —
- Сковать титанический щит,
- И всё же, как Вертер7, незрелы; —
- Кифхойзерский дух всех сплотит.
- Как жаль! Наше время ветшает,
- Засохли у дуба ростки,
- Фанфару – мотор заглушает,
- Слаб полюс, текут ледники,
- В огне гибнут руны, дороги,
- Ключ Жизни в плену нечистот,
- Ведут нас не маги, пророки, —
- Кифхойзерский дух нас ведёт.
- Что быль есть, и что ослепленье, —
- В рядах сотни лучших11 поймёшь,
- И вера придёт в исцеленье,
- Исчезнут и подлость, и ложь,
- Покуда нас факелы греют
- Дыханьем святой старины,
- Отцов земли не захиреют,
- Кифхойзерским духом полны.
- Порой вспоминают пииты,
- Что Киффа хранят валуны,
- Престолы, владыки – забыты,
- Развенчаны, осквернены,
- Вкруг нас ненасытны вандалы,
- Предательски ждут свой черёд,
- Нам крепость – не Эмдена валы12, —
- Кифхойзерский дух наш оплот.
- Как знать, быть ли дубу с листвою,
- Когда воронью13 улететь?
- Безмерно нам врали с тобою,
- Безгрешны, – кто верует впредь:
- Державной стране не зазорно,
- Мечтать о расцвете своём,
- И мы, маршируя упорно,
- С Кифхойзерским духом умрём.
Пилат
- Хорош с утра палящий гнёт,
- В воде спасенье, не в вине.
- Мой кактус-канделябр цветёт,
- То добрый знак наверно мне.
- Цветеньем я не обуян,
- Кругом невежи да пески,
- И люди, – скучны для римлян,
- Темны, надменны и дерзки.
- Вновь праздник Пасхи у ворот,
- Поймёт ли кто суть веры сей?
- С ним каждый раз, из года в год,
- Резня иль бунт, как апогей.
- И вечно ругани напасть, —
- Племянниц будто гам пустой,
- Те прежде, как в забавы впасть,
- Рвут косы, в дрязгах меж собой.
- У здешних сект одна черта:
- Разумность, Рим, – противны им.
- Потеют, с пеною у рта,
- Как зверь, что гоном возбудим.
- Мне виснет бремя на плечах:
- Святош, отребье и пройдох,
- Визжащих о «последних днях»,
- Унять, чтоб в корне бред засох.
- Пока все тихо, – впредь бы так;
- Но со стены взгляну-ка сам.
- Для желчи с кровью, – не пустяк,
- Поверить собственным глазам.
- Я самых громких кощунов,
- Чьих ядовитее слюна,
- По счастью, запер без шумов,
- И к ним, – Варавву драчуна.
- С докладом стража. Я б поспал,
- Да где тут… пекло, – не сдержать!
- Опять какой-нибудь бахвал…
- А если, – нет меня, как знать?…
- Но нет, первосвященник ждёт
- У врат моих, с людьми его.
- Ему плевать, что мне – не мёд,
- Быть скверной штуке, жду всего.
- И только ропот, день-деньской;
- Отвсюду о протестах весть,
- А мне, – тащи груз, но такой —
- Атлантам четверым не снесть!
- Я жалобе внемлю его,
- И дам уверенно ответ:
- Что Рим не скажет ни ничего
- По делу, мне – желанья нет.
- В тюрьме у них, как мне не жаль,
- Один молодчик заключён.
- Шельмец тот не болтлив, не враль,
- Что даже мне по нраву он.
- Имел ночлег, но схвачен всё ж,
- И скромность не чужда ему.
- За блуд здесь отдадут по нож,
- Надеюсь, больше я пойму.
- «Первейший» молвит, хуже быть
- Едва ль удастся граду стрел;
- Об Иисусе тянет нить,
- И вот уж с жалобой насел.
- Там вся провинность молодца
- В том, что сказал: он, – божий сын;
- И больше что-то, без конца,
- Дальнейшего, – известен чин.
- Предчувствовал я: вновь скандал
- На почве веры мы узрим;
- Елей терпения шептал,
- Что это не тревожит Рим.
- Но мне доносят, что царём
- Израиля назвался он,
- Хотят, чтоб гневно, этим днём,
- В измене был бы осуждён.
- Без бряцанья мечом, – царёк!
- Монарх, что бродит босиком;
- Жара ль пошла ему не впрок,
- Иль образно болтал тайком?
- Да, стоил сна мудрёный ход!
- Тень солнечных часов бежит,
- Никак священник не уйдёт,
- Всё сетует, всё говорит…
- Пришёл терпению конец,
- Пусть парня приведут сюда,
- Но банда эта, мой дворец
- Оставит вряд ли навсегда.
- Спросил ответчика, и вот —
- Стал сам не рад: своей вины
- Пособник он, и речь ведёт
- Похуже Иова жены.
- Меня зачем втянули в грязь!?
- Покуда чудака – запру,
- И пусть уходит не боясь,
- Сгинь лишь святоши подобру.
- Едва ль, как гонг мой прозвенит,
- У Рима враг, – кощун-стервец,
- Убудет свора без обид,
- И я прилягу наконец.
- Но вдруг волненье стало жечь,
- Как будто кнут познал спиной,
- Тут жарко слишком, чтобы лечь,
- И делать что-то, – шкварит зной.
- Я – воин, нужен мне приказ,
- В крови, – усердия нектар,
- Что нынче вышло напоказ
- Нервирует; ну что за жар!
- Смекаю я: обычай есть..,
- Верну на пасху я плута
- Евреям, их судил – не счесть,
- Глядишь, смягчится нагота.
- Опросят мигом пусть народ:
- Варавва или Иисус,
- Свободным воздухом вдохнёт,
- Так «царь» сгодится снять мой груз.
- Зову охрану, строг как плеть:
- Виновным двум встать на дворе!
- Пусть там решат: кому висеть,
- На праздник, в этой голь-дыре.
- Толпа охотно проревёт,
- И кто-то воле будет рад;
- Кого не пощадит народ, —
- Немедля должен быть распят.
- То замысел не лучший был,
- Подначен люд святош рукой,
- Единодушно он вопил:
- – «Варавва!» в первый раз, в другой…
- И я вердикта стал рабом,
- Давно всё надоело мне,
- Приму-ка ванну, а потом,
- Случись, что ясно всем вполне.
- И здесь покоя не найду,
- К мольбам приказ, известно, – глух.
- Надеюсь, скоро я уйду
- Из края, где хиреет дух.
- Багровым сделался закат,
- Гляжусь, и понял: постарел,
- О смерти шельм мне говорят;
- Насилу воздух охладел…
- Казнил я многих бедолаг,
- Порою даже без вины,
- Щадил отдельных, – просто так,
- Те были позже мне вредны.
- Как в спальню я мою вошёл,
- Там кактус в редкостном цвету…
- Но сломлен я, как раб, что гол,
- Главы жалею наготу.
- Ведом ли силой я чужой,
- Весь труд мой, – злобою тернист?
- Кто на ночь думает, – больной,
- То мука, словно флейты свист.
- Мне кактус не принёс чудес,
- Его колючки, – просто вздор.
- Легко я оттянул навес,
- И выбросил цветок во двор.
Господь меня сюда привёл
Псалом памяти графини
Шварцбург-Рудольштадтской
- Господь меня сюда привёл,
- Мой путь невзгодами тяжёл,
- До сей поры хватило сил,
- Чтоб ворог руки опустил.
- Творец не ведает времён,
- Но будет им обман сметён,
- С ним обольщений яркий лёд
- Душа младая разобьёт,
- Они утратят власть навек,
- Когда прозреет человек.
- Господь меня не отдал злу,
- Он в длань мою вложил стрелу,
- Надежда, что я берегу,
- При майских бризах, и в пургу,
- Из года в год ценней всего, —
- Залог спасения моего.
- Она лучом пронзит обман,
- Его могущества дурман
- Касаться не перестаёт
- Всего, что любит и поёт.
- Господь меня упрочил так,
- Чтоб взор мой не окутал мрак, —
- В любом обличье нужно знать
- Того, кто губит благодать.
- Лентяев, трусов любит он:
- Тщеславец – златом наделён,
- Завистник с ним накоротке,
- Он стиснул алчных в кулаке,
- Обжорство, похоть, всё гнильё,
- Сбирает в воинство своё.
- Господь ко мне благоволил,
- И в сердце пламя распалил,
- Счастливцы мёд его вкусят,
- Отвергнув нечестивый яд.
- Творение кровоточит,
- Держите крепче в битве щит,
- Где полчища ему грозят, —
- Молитве страстотерпец рад,
- И только верою храним,
- Борец со злом – непобедим.
- Коль сломан меч, рука дрожит,
- Смиреньем будет грех изжит,
- Но это бремя не легко
- И тем, чьё сердце велико,
- Кто свой клинок не затупил,
- Сражаясь из последних сил.
- И даже бедность не позор,
- Будь разум чист, и ясен взор,
- Тому, кто вплоть до смерти знал:
- Он Господа не запятнал.
В каморке
- У лестницы под крышей
- Ступеньки нет, – влезай
- Проворней, и повыше,
- В свой потаённый рай,
- От сплетен нет покою,
- Шум кухни злит слегка, —
- Приветствуй блох с мошкою
- В каморке чердака.
- Хоть свечка под запретом,
- Чтец жёг её не раз,
- И стих слагал при этом,
- Сквозь сычий глядя лаз,
- Черкал под ветра звуки,
- В капель, – тверда рука,
- И не бывало скуки
- В каморке чердака.
- Кто чист душой, стремится
- В простом искать щедрот,
- И закутив – постится,
- И смело песнь поёт,
- Коль зависть, споры, склоки
- Прижали бюргерка, —
- Рифмуй покрепче строки
- В каморке чердака!
- Здесь ты найдёшь немало,
- И древний меч поди.
- Всё, что в шкафах мешало,
- Возьми, – перегляди.
- Кто в бездне сей копает,
- Дойдёт до тайника,
- И полон рог черпает
- В каморке чердака.
- Почти забытый нами
- Времён ушедших звон,
- На пашне с мотыльками
- Сбил стеклодуву сон.
- Где сливки, масло, соты —
- Не мучит боль-тоска,
- Там мамины заботы —
- В каморке чердака.
СТРАНА ТАНГЕЙЗЕРА
(2007—2008)
Воздухоплаватели из Пёснека
- В стране педантов, и «слегка особых»,
- Восторг огромный, если вдруг дитя
- Господ высоких, сплошь – высоколобых,
- Родство с людьми докажет не шутя.
- А в Пёснеке, – стрелки везде, и мины,
- У рубежа не видно даже блох,
- Но кто-то знал, – чтоб пересечь долины,
- В баллоне воздух пламенный не плох.
- Что сказано, то свято, – раздобыли,
- И сшили две семьи две простыни,
- И вот шипят горючие бутыли
- В мешке конструкторском, горят огни.
- Луна полна, на север ветры дули,
- В корзину влез, и смотрит свысока
- Весь экипаж, – от внука до дедули,
- Но, как на зло, сгустились облака.
- Хоть глаз коли, то вверх, то вниз мотало,
- Иди свищи, – где летуны, где кладь,
- Дознался Мильке14, – пудры не хватало,
- Синюшно-красное лицо застлать.
- История плутам грозит опалой,
- И власть – сама беспомощна порой,
- Всё чаще безоружным, с честью малой,
- Сияет ночь, как гений и герой.
Паулинцелла
- В долине Роттенбаха15 ждёт,
- Без кровли, глянца и ворот,
- Тебя портал меж колоннад,
- Что целомудренно молчат.
- Почувствует паломник тут,
- Что немцы в сердце берегут:
- Как Север с Римской выстой
- Сплотились, в милости святой.
- Спасенья ради, вырос храм16,
- С трудом одной из светских дам,
- И тот, кто здесь ступал, поймёт
- Всю полноту её щедрот.
- Дар Приснодевы, нерушим,
- Был посохом её храним,
- И возрастал приют благой
- Гуманной рыцарской мечтой.
- Что губят пламя, ветер, тлен, —
- Порой не облик перемен,
- Мечты немецкой виден крах,
- Без ангелов в родных стенах.
- Нет больше набожной страны,
- Псалмов посевы лишены,
- Минувшим веет от церквей,
- Что не дождутся сыновей.
- Ты вопрошаешь, от невзгод,
- Когда Спаситель наш придёт,
- И жжёшь ему свой огонёк,
- Пока густой туман не лёг.
- Нам не дано предугадать,
- Что возвратит нам благодать,
- Но здесь, ты будешь наделён
- Частицею святых времён.
Высокая Геба
- В плотных пологах туманных,
- Словно исполин – точь-в-точь17,
- Чтоб сиять средь несказанных,
- Возросла Гефеста дочь.
- Соревнуясь с рослым Рёном18,
- Но приняв скромнее вид,
- В круге куполов мудрёном,
- Нимфа облеклась в гранит.
- Окунись-ка в загляденье,
- В небо, в путь, что разветвлён,
- Здесь язычник, в преклоненьи,
- С окрещённым породнён,
- Ивы – вешни, нивы, веси,
- Вперемешку между скал,
- Их, приволья птаха, – с песней
- Под гитару штурмовал.
- Некто думает: долины,
- Что манят к себе певца,
- Станут вряд ли благочинны
- Для незрелого юнца,
- Но, как знать, куда стремятся
- Ноги в рваных башмаках,
- Сердцем юн, так может статься,
- Будет он при стариках.
- Немощи наступит время,
- Но разбудит на гряде
- Дух свободы птичье семя,
- И Гермеса в бороде,
- Кто в леса, перед обедней,
- Разыскать богов ушёл,
- Для того, и в час последний,
- Ложе смерти – дивный чёлн.
- Взор далёкий на вершине —
- Твой, теперь и навсегда,
- Асов стороной отныне
- Путника душа горда.
- Тот, кто мир не замедляет,
- Зная, что живей всего,
- Верит, – Геба окрыляет,
- Как двойник тоски его.
Реннштайгская песнь
- Вверх, смелее, к небу взор,
- Через сердце, – через бор,
- На гребни19 мгла смеясь легла.
- Мы от Верры20 вплоть до Заале21
- Сотни раз измерим дали,
- Хёрзель22, Берберг23, столб резной24
- Путь укажут нам с тобой.
- На таких высотах нет
- Дрязг партийных и сует,
- С кем ты ни будь – едина суть.
- Гессенцы и саксы вскоре
- Тут забудут о раздоре,
- Где собор – небес чертог,
- И без Рима явен Бог.
- Путь плющом стремится вдаль,
- Времени совсем не жаль,
- И сталь лучей всё горячей!
- Ни будильника, ни звона,
- Ни брюзжания, ни стона,
- Дух привольный ясен, нов,
- Средь шиповника цветов.
- Край премудрый, удалой,
- Нас встречает шпиль златой,
- В стекле легки здесь ангелки.
- Чтоб лились добра потоки —
- Ширят ноздри, дуют щёки,
- Блещет воздух детским сном
- И трепещет мотыльком.
- Быть поэту праздным тут,
- На подводах хмель везут,
- Прославлен бук средь спорых рук,
- Через Ильм25 идут паромы,
- В поднебесье – камнеломы,
- Божий стих с трудом людским
- Для тюрингцев – неделим.
- Но бесстыдно продаёт
- Ветров западных народ
- Всю неба власть себе во сласть,
- Жизнь сливая в злата реки,
- Позабыв о человеке,
- Самобытность, честь и труд,
- Ниц стервятники гнетут.
- Не дадим отпор мы им,
- Внемлем торгу, не святым,
- То станет вше – всё по душе.
- Неурядь в земле немецкой,
- В сёлах будет, как в мертвецкой,
- Не пади засов тугой
- Пред бесовскою деньгой.
- Путник, брось ты от врагов
- Брать советы, груз долгов,
- Свой счастья пай – не продавай!
- Если сердцем чист, душою,
- Рухнут курсы их, с маржою,
- Будешь храбр, как путь ни крут, —
- Замки из песка падут.
- Нив, лугов – богаче нет,
- Земляники красен цвет,
- Орех лесной здесь рассыпной,
- Встать желаем над грядами,
- Петь хвалу весне – дроздами,
- Дятлами тревогу бить,
- Если чёрт решит дурить.
- Ты поёшь, приволью рад, —
- Вмиг намордником грозят,
- Где банкомат, – лешки молчат.
- Не обучит клир святому,
- Верь мерилу вековому,
- Что веками бережёт
- Немцев ясный небосвод.
- На высокий пик взойди, —
- Их довольно на пути,
- Реннштайга вид разоблачит
- Все лукавства пред страною,
- И отрадно нам с тобою
- Там, где жив немецкий слог,
- Милостив радетель Бог.
Квестенберг
I
- Ствол дубовый и венок26,
- Лист сухой, да ветки в стог,
- Солнца диск над бел-горой,
- Гимн, – ветров холодных вой,
- Гротов ночь, кристалл воды,
- Страсть и боль во лбах гряды,
- Огнь холмов, осенний звук,
- Пасхи луч вслед зимних мук.
- Не был стих ещё велик,
- Что глубоко так мой лик
- Растревожил, оглупил,
- Чтоб тот беспричастным был.
II
- Мы встали к подножью
- Владыки холма.
- Мы каемся с дрожью,
- В умах – полутьма.
- Мы лагерь разбили,
- Святыню27 поправ.
- Стыдливые в были
- За мешкотный нрав.
- Мы в дремлющей яви,
- Но кочета глас,
- Как он только вправе,
- Разбудит сейчас.
- Мы дар примем споро
- От снеди скупой,
- С востока ведь скоро
- Зардеет зарёй.
III
- Уложен спальник, – убран прочь,
- Набор походный рядом лёг,
- С рукой промозглой скрылась ночь,
- Лишь первый луч забрезжить смог.
- Нам не до выкладки сейчас,
- Нет времени, стремимся ввысь,
- Петух горланит в третий раз,
- Не стой, назад не обернись
- Подъём крутой, – недолог всё ж,
- Средь трав, в ложбинках, на краю,
- Я снова взмок, спешить негож,
- От провожатых отстаю.
- Исчезла мука без следа,
- Величество даёт приём,
- Пред ним стоишь, и череда
- Искусных рифм годна с трудом.
- Я дивом этим поражён,
- Так Афродиты вспыхнул свет,
- О, ущипни меня, – то сон,
- Гашиша, мескалина бред.
- Трепещут жёлтые листы,
- Из гроба солнце восстаёт,
- Коль верую ещё в мечты, —
- Здесь блага моего оплот.
IV
- Крестьянин чтит
- Без счёта лет,
- Лишь стол накрыт, —
- Светила свет,
- И столб возрос,
- Был спорым труд,
- Где встал колосс,
- Там счастлив люд.
- С Христом идёшь,
- Безбожник будь,
- Но солнца всё ж
- Восхвалишь суть,
- Кумир седой,
- Вершины флаг,
- Внутри пустой,
- Снаружи наг.
- Чего он плод,
- Зачем таков? —
- Не разжуёт
- И богослов.
- Лучист, знаком,
- Поднялся ввысь,
- В нём крест с венком
- В одно слились.
- Яснее рун
- Рассеял мрак,
- Но чем вещун
- Волнует так?
- С ним верен след,
- И взор искрист,
- В нём трещин нет,
- Он светел, чист.
- Мудрее есть,
- Полны в томах,
- Адепту – весть:
- Он вмиг в сердцах.
- Его юдоль
- Былого долг:
- Он страсть и боль.
- Он агнец, волк.
- Ты помни впредь
- Светло о нём, —
- Восполнил ведь
- Во мгле проём
- Пространств, эпох,
- В который ты
- Умчаться смог
- В свои мечты.
V
- Однажды, Квестенберга раб
- Судим был, и затем казнён.
- Вглядись в шедевр сей, – станешь слаб,
- Представив жертвы страшный стон.
- Но в хрониках утерян след,
- В чём древа ересь жития,
- На то есть у меня ответ:
- Не видел Квесте судия.
- Подчас ошибкой мы сильны:
- Ход мира, маятник она, —
- В крови, протекшей без вины,
- Есть мощь, что древесам дана.
- И мы пленились красотой,
- Ведь Бог, презрев смертельный прах,
- Всегда свершает суд святой,
- С луной и солнцем на весах.
VI
- Бывает, кое-кто решит:
- Венок – ему принадлежит.
- Но правдолюб съязвит вруну:
- Стеречь удумал пёс луну!
- По ним двукратно плачет плеть,
- Нельзя святыню запереть,
- Коль некто падок до неё,
- Не всех запишешь – в дурачьё.
- О Квесте в книгах прочитай,
- В них только предрассудков лай.
- Вглядись в него, встав над скалой,
- Поймёшь: взаправду ли он твой.
VII
- От горных вихрей изнемог
- Листок, что в охру облачён,
- Эльфийской пылью стал венок,
- И обновленья просит он.
- Из сёл соседних, стар и млад,
- Идут осеннею порой
- Целить его, надеть в наряд,
- Украсив Гарца28 бахромой.
- В дубовой бочке хмель обрёл
- Ликующего Квесте цвет,
- Селяне здесь и круг, и ствол
- Чтить будут много тысяч лет.
- Лежат клочки на гребнях скал,
- Что выбил прошлогодний град,
- Но тот, кто ныне заветшал,
- Пасхальной верою объят.
- Ведь символа, – глубинна суть,
- Эпохи бьют пред ним челом,
- Светило-Квесте греет грудь
- Тому, кто вечно пел о нём.
VIII
- Расставанье…, день прощальный
- Бесконечным стал уже,
- Квесте лик, в мольбе печальный, —
- Отпечатался в душе.
- Может вихрь венок низвергнуть,
- Может вянуть лист его.
- Злу, – оружья не избегнуть,
- Что горит, храбрей всего.
- Чтоб груди, как ни высоко,
- Скалы были нипочём,
- Врос в мечты он преглубоко,
- Освещая день за днём.
Бледная поганка
- Грибок, что не знает отравы
- Посулов, чесоткой не жуток,
- Свихнёт венценосные главы,
- Навыворот вынет желудок,
- Неделя пройдёт, как мгновенье,
- Печёнка от мук истощится,
- Уморит и сердца биенье
- Лесной шелковистый убийца.
- Кончается книга грибная,
- Где с черепом скалится кротко
- Известная штука дрянная,
- Геенны разверстая глотка,
- Кто ждет на пиру терпеливо,
- Не этим днём им насладится, —
- Назавтра встревожит шкодливо
- Лесной шелковистый убийца.
- Сумеет, всего лишь единый,
- Отправить гиганта к Аиду,
- Без разницы – сильный ли, длинный,
- Он справит по всем панихиду,
- Во тьме подкрадётся, и будит,
- Чтоб воплем, проклятьем упиться,
- И без компромиссов осудит
- Лесной шелковистый убийца.
- В полях, иль на троне лютуя,
- Надёжен дешёвый разбойник.
- Он шепчет: Ты знаешь, где жду я,
- Подложишь кому, тот – покойник.
- Сам слизью врачует всё разом,
- Но малость её – не сгодится,
- И высмеет печень и разум
- Лесной шелковистый убийца.
- Он пахнет – как мёд, даже слаще,
- И мякоть, с орешком, лесная,
- Разинь распечёт надлежаще,
- В слезливой подливке купая.
- А боли утихнут немного,
- Но кто не глупец – прослезится,
- Ведь властью управится строго
- Лесной шелковистый убийца.
- Комочек оливково-зелен,
- Но знать бы, как мягкий жестоко
- Во злобе и подлости целен, —
- Его зрит оракула око.
- И если припрятал хоть долю
- От шкурки, тут саге и сбыться,
- Куснёт кто, – утащит в неволю
- Лесной шелковистый убийца.
Огненный танец
- Огнееды, огнеловы,
- Плети, цепи, жезл, канат
- Жаркий танец, звёзд покровы,
- Круг златой, и стрел каскад,
- Первобытных троп главенство,
- Молний блеск, дурманный сон:
- В глубочайшее блаженство
- Очевидец погружён.
- Огнь – из мрачного полона
- Рвётся, кружится клубя,
- Отрастил хребет дракона
- Змей, глотающий себя,
- То воспрянет, то уймётся
- Жар летящий в высоту,
- Шепчешь и кричишь, – неймётся
- Вспомнить детскую мечту.
- Словно феникс, луч из пепла
- Озарил теней прилив,
- Чтоб душа твоя окрепла,
- Зришь, дыханье затаив.
- Но танцовщик хладнокровно
- Унимает бойкий пыл,
- Он мечтателя любовно,
- По-отцовски укротил.
- Адски страсть вокруг пылает,
- Только мысли ровен шаг,
- Рифмы власть ниспосылает
- Веру, что беда – пустяк.
- Заплетённое в сонату,
- Пламя целостно с творцом,
- Опьяненному собрату, —
- Быть с недвижимым лицом.
- Это – знак тебе, родного
- Элемента дух царит,
- В нём ты возродишься снова,
- Если масло прогорит.
- Смелость, что открылась миру,
- Песнь сомкнёт в дневном венке,
- То, что по плечу факиру, —
- Бог являет в мотыльке.
Лангевизен
- Здесь29, от Шобсе вплоть до Шорте30,
- Ломе, Оре, Риттерсбах31,
- Средь прогалин, как в эскорте,
- Ленгвитц32-девица в трудах,
- Тянутся усадьбы-строки,
- Лает у запруды пёс,
- Дольше ощути истоки, —
- Катит солнце под откос.
- На песчаники кипуче
- Брызжет бурная вода,
- Сноп лучей, густые тучи
- Жжёт зарница иногда,
- Запад блещет в поволоке,
- Гром не расточал угроз,
- Дольше ощути истоки, —
- Катит солнце под откос.
- Горы близко, изваянных
- Ручеёк воспел красу,
- Будто гномов серебряных
- Слышишь в буковом лесу,
- Мили ныне предалёки,
- Явны Дьявол и Христос,
- Дольше ощути истоки, —
- Катит солнце под откос.
- Если Ильмовы33 седины
- Тешишь бормотаньем ты,
- То без плевел и мякины,
- Погружаешься в мечты.
- Тропы стелются – высоки,
- До верховья путь вознёс,
- Дольше ощути истоки, —
- Катит солнце под откос.
- Но сорока34 тьму и холод
- Убелит в одно пятно,
- Котелок, кузнечный молот
- Целью, смыслом заодно.
- Словно мальчик Телль, в итоге
- Рад, что голову не снёс,
- Дольше ощути истоки, —
- Катит солнце под откос.
ЛЕСНОЕ УЕДИНЕНИЕ
(2008—2009)
Хамелеон
- Шлем, рога и гребень, – отличают
- Жуткий клан твой испокон веков,
- Все медлительным тебя встречают,
- Даже если ты – посол богов.
- Можешь быть листком, сухой корою,
- И прельстишь цветастой похвальбой,
- Дуновеньем средь ветвей, игрою,
- В силах жребий обмануть любой.
- Если враг тебя решит коснуться,
- Замертво падёшь, хитёр ответ —
- Изворотливо перевернуться,
- Показав обидчику хребет.
- Он шипами испещрён богато,
- Защищает, словно щит, живот,
- Отрезвляя быстро супостата,
- Что другую жертву предпочтёт.
- Даже там, где зримое за гранью,
- Взор необычайно зорок твой.
- Древний, словно боги, их мечтанью
- Сроден ты – затейной пестротой.
- Если ты бессмертья воплощенье,
- Как мадагаскарцы говорят,
- Значит ожидает злоключенье
- Каждого, кто суете собрат?
- Медлишь, может, зная о навете?
- Молвят, что ты робок, что – изгой;
- Огорчают ли нападки эти,
- Вековой предвзятости людской?
- Ты, посол бессмертных, в кроне древа,
- Весть свою объявишь наконец, —
- Только если стихнут волны гнева,
- Лишь тогда постигнем твой багрец.
Клейст
- Ещё стоит сухой дубок,
- Среди поваленных грозой,
- И ты35, когда Борей жесток,
- В степи, – как тополь молодой.
- Служил чему, и чей оплот
- Теперь, негоден иль хорош,
- Семейство Шроффенштайн36 шепнёт,
- Когда от молнии падёшь.
- Я в жизни так не хохотал, —
- Забавен твой Амфитрион37,
- Всё лучшее, чем ты блистал,
- И ныне благовеста звон.
- Божественный комизм бодрит
- Души кровавая тоска,
- Но тягостный норманнский щит38
- Театру не снести пока.
- О славе Гомбурга39 мечтать
- Должны Германии сыны,
- В нас – искры божьей благодать,
- При этом – равенству верны,
- Коль глуп кому-то Кольхаас40, —
- Тот песен кельтских не слыхал,
- Где есть служенье, без прикрас,
- Где цельность правды – идеал.
- Нет, пересказывать труды
- О Пруссии – не жребий мой,
- В которых явны все черты
- Страны духовно молодой,
- В ней – амазонку41 узнаю,
- Она, сравнимая с быком
- Рассвирепевшим, страсть свою
- Разит заточенным клинком.
- Пугала Гёте мысль сия, —
- Не заступил через порог,
- Ведь Ад, истошно вопия,
- Верх несусветный превозмог.
- При Ницше, зев кошмарных снов
- Зиял на большей вышине,
- Причина сумерек богов, —
- Покоится на рейнском дне.
- Тому, кто молвит всё, – всю суть,
- С людьми быть рядом не дано,
- К безвкусию проложишь путь,
- Коль пьёшь чистейшее вино.
- И кошка, не секрет, – котят
- В парик судьи родит порой42,
- Но, – кто звездит средь мириад,
- Легко поплатится главой.
О Гантаре и Нантвине
- О Гaнтаре рассказ пойдёт,
- В долине Изар – он закон,
- Коль кто у ближнего крадёт,
- То будет вмиг приговорён.
- Валежник здесь всегда сухой,
- Вериги новы, и бичи,
- Чтоб стали козни ведьм трухой,
- С душицей ходят палачи.
- Но, что ни день, – полно забот,
- Страна бедна, народ в нужде,
- И, если пахарь в долг возьмёт,
- Всё ж не расплатится в суде,
- Зато блистает златом Рим,
- Кичится во дворцах багрец,
- За это римлянин хулим
- Немецким Гансом, как – подлец.
- Паломники идут гурьбой,
- Но бремя их – не скорбь, не боль,
- Христу относят дар златой,
- Садятся робко, хлеб да соль
- Принять в таверне, кладь – с собой,
- Боятся адовой алчбы,
- Ведь – «приглядеть за их казной»,
- Уж на уме у голытьбы.
- Всем правят деньги, спору нет,
- Успехом, правдой и судьбой,
- Но многим в радость слабый свет, —
- Клок неба в яме долговой,
- Судья, известно, справедлив,
- Супруге обновив наряд,
- Взбодрит в ней чувственный прилив,
- Портняжка будет – хлебцу рад.
- К утру и Нaнтвин подошёл,
- Что странствовал по всей стране,
- Портной о нём сказал бы: – гол,
- Коль так скупится на сукне.
- Лишь Бог и меч судье страшны,
- А этот странник – прохиндей,
- Ведь то, что нужно для страны,
- Он вывезет за сто морей.
- Собратьям Нантвин руки жмёт,
- Вдруг – копья вкруг него в избе,
- Да, недалече эшафот,
- Коль носишь злато при себе,
- Рыдает пилигрим, кричит,
- Что никому не делал зла,
- И мыслит: – там заведом стыд,
- Где власть к наветам приросла.
- Судья же думал, – правота
- Погрешности не лишена,
- Но тут мелодия проста,
- Как божий день ясна вина,
- Свидетели – все заодно,
- И, справедливо, на заре,
- Сему пройдохе суждено
- Испепеленье на костре.
- В общине – злато, – ценный дар,
- Но этому не каждый рад,
- Случись беда или пожар,
- Запахло серой, говорят.
- Уж в день пристрастного суда
- Роптали гневно голоса,
- Что кровь на золоте, – тогда
- В управе рухнули леса.
- А если кто из фляги пьёт,
- Из той, что носит пилигрим,
- И, в раже, по дворам пойдёт,
- Вестимо, – бунт неотвратим,
- От дьявола, кричит народ,
- Корысти ненасытный пыл,
- А Гантар, – беспрестанно врёт,
- Что правосудие вершил.
- Охрану в дом привёл судья,
- Ведь всюду речь о чудесах,
- «Здесь отсижусь спокойно я», —
- Считает, кутаясь в мехах.
- А тут – помешанный кузнец,
- Коснулся Нантвина оков,
- Стал светел разумом шельмец,
- Хоть сроду не имел мозгов.
- Но всё пророчит, день-деньской,
- Что смертоносна клевета,
- О том, что мученик святой
- Ушёл в объятия Христа.
- Страшась уже своих людей,
- Сбежал судья, в конце концов.
- Желает каждый, чтоб злодей
- Горел в аду, средь подлецов.
- Кивает Гантар на народ,
- Мол, – тот сообщник грабежей,
- Но женщина слезу прольёт
- Перед распятьем, за мужей.
- Пускай и глупый, и хмельной,
- И всё же – не пропащий люд,
- Пока не терпит он душой
- Властей, что с бесовщиной пьют.
ДНО РУЧЬЯ СОМНЕНИЯ
(2009—2010)
Свечные огни
- Вот на ёлке вновь двадцатка
- Огольцов, и рост и стать
- Схожи будто, – в ком загадка,
- Не берусь предугадать.
- Только быть венку в изъянах,
- Тот, кто догорит – падёт,
- Также в пьесах, иль романах,
- Есть завязка и исход.
- Кто-то – вспыхнув, прогорает,
- Те – чадят перед собой,
- Та – от неги помирает,
- Эта – сетует с мольбой.
- Хватит ли у них запала,
- Иль ослабнут на корню? —
- Не определить сначала
- По неяркому огню.
- Станет скряга, мот, быть может,
- В этом первенстве могуч,
- Светоча узнать поможет
- В темноте последний луч.
- Кажутся сродни дороги
- Тех, кто выждал свой черёд,
- Подведёт всему итоги,
- Тот, – что позже всех падёт.
ЛСД
- Когда в начале канувшего века
- Пришла взрасти Европе череда,
- Удался душеведцам человека
- Неслыханный прорыв, триумф, о, да!
- А. Хофманн, в Базеле, постичь пытался
- Из спорыньи полученный амид43,
- Ему последний опыт оставался,
- Решил, что вещество – употребит.
- Вдруг – передоз, воздействие брутально,
- И в малых дозах смеси равных нет,
- Была дорога расписной буквально,
- Когда он сел на свой велосипед.
- Писала ассистентка: мчит, храбрится…
- Ему казалось, что стоит почти,
- Забытое, являясь, – пузырится
- С малейшим звуком, тая на пути.
- Привычка – наш порядок, уложенье,
- И зеркало кривое. Видишь ты
- Как в нём размыто виснет отраженье,
- Активность и суждения пусты.
- Учёный жаждал не чудес, не веры,
- Нашёл ключи, и верные врата,
- К полётам, к бремени особой меры,
- К тому, кто знал: в чём сердца маета.
- Домой вернувшись, и придя к покою,
- Он понял, что достал из сундука
- Фантазий формы с яркой новизною,
- Что сила их безмерно велика,
- В нём не было уже былого пыла,
- Его он сторонился до седин,
- Песнь спорыньи отныне пристыдила
- И коноплю, и мак, и мускарин.
- С коллегой Эрнстом Юнгером, позднее,
- В элизий отъезжал вчастую он,
- Поскольку к праотцам полёт яснее,
- То посещали даже Вавилон,
- Лишь чудесам являться пёстро можно,
- Учёность и настрой в подмогу им,
- Быть белой магии, – она надёжно
- Отводит души к странам потайным.
- Познать взрывную власть микстуры мало,
- Цепей не знать, вот это не пустяк,
- Ведь Зло – «лекарство правды» привлекало,
- Чтоб тайное открыл упрямый враг.
- Америка смогла, в муштре занудной,
- С безжалостной заботою своей,
- Амидом Хофманна, таблеткой чудной,
- Подмасливать несведущих людей.
- Случались смерти, – казусом назвали,
- Протесты Хофманна, – игрой плохой,
- Те, кто силён был, слабых бичевали,
- Без дури ведь – нет власти никакой,
- Но то, что зелье дум не подчиняет,
- В секретных службах поняли поздней,
- Что некто от раскаяний стенает,
- Прочтёшь в романах, в прессе погрязней.
- Где мракобесы, там – дождись пророка,
- Вмиг ЛСД доступно для продаж:
- В молитвах и постах нет больше прока,
- Наркотик в массы, он спаситель наш!
- Мальцы, бродяги, девки в подворотне,
- Нашедши счастье, иль душевный мир,
- Себе втирали, и конечно сродне,
- Из базельских подвалов эликсир.
- Когда же звук подвёл под напряженье
- Неведомый аплодисментам гам,
- Решила публика, во ублаженье,
- Всё подъедать, что подают богам,
- Не модой, но потребой для «свободных»
- Наркотик был, считали сосунком
- Не жаждущего бредней чужеродных,
- Кто ум не вынес с мусорным горшком.
- Угар зашёл за рамки всех приличий,
- Подобно крысам тискался народ,
- Хватало сил для баснотворных спичей, —
- Как глубже влезть в громаду нечистот,
- Волненья становились всё страшнее,
- А терапия вторила хитро:
- Примите, мистер, средство поновее,
- Ведь этот мир – помойное ведро!
- Научный мир – побитый, но сплочённый,
- Ведь это ужас просто и скандал, —
- Пускай намордник носит лжеучёный,
- Что глупостей мытарство разнуздал,
- Не пена суть субстанций, всех спринцуют
- Учения, что – годно всё для нас,
- Отца сместили чада, и танцуют,
- Но кое-что летит обратно в глаз.
- Коль снадобье – не венчик златоглавый,
- Оно, вестимо, и не ада плод,
- В хор мальчиков не вступит шепелявый,
- Без разницы, что в хоре блудный мот,
- Метла, к примеру, – где и как гуляет?
- И здесь лишь мастер может дать ответ.
- Пока душонки бездна вдохновляет, —
- Без иерархии спасенья нет.
Шахтёр
- Дружок, с кем хлеб делил, – так латиняне
- Рекут, был – «первой марки» углерубом,
- Здесь о любом так говорят мужлане,
- Кому явился жребий душегубом.
- Нужда сближает, но горы глубины
- Опаснее, чем враг перед траншеей,
- Огни на пасху, – мертвецов помины,
- Всех бессловесных с вороною шеей.
- Чтоб сэкономить на жилье, оплате,
- Детей и женщин в шахты отправляли,
- Молчали те, что только на плакате
- Забой – к труду мужскому причисляли.
- Свобода женщин, через все ухабы,
- Продвинулась из метки изначальной,
- Сказали: – в штольне не должно быть бабы,
- Мать воспевая в песне величальной.
- Конвенция, что женщинам не нужно
- В рудник спускаться в подвесной кабине,
- Германию затронула натужно,
- В послевоенной мертвенной пустыне.
- И вот конвенцию перечеркнули,
- Защита слабых – стыд, средь мнений прочих,
- Безнравственного явно не сболтнули, —
- Нам нет нужды теперь в горнорабочих.
СТАРАЯ ЛИПА
(2011—2014)
Стихопёнки
- Глянь: строчат стихотворенья,
- Только с рифмами беда,
- Распушают оперенья,
- К ремеслу мыловаренья
- Непричастные всегда.
- А к чему красиво, звучно?
- Бьёшь в грамматику, – почёт!
- То, что рублено и тучно,
- Хромовато и докучно,
- Критику ни ставит в счёт!
- Для чего дымить мозгами?
- Мистика поможет влёт!
- Хочется, – считай слогами,
- Нет, – так не ходи кругами!
- Строчка, точка – и вперёд!
- Аплодируют, всем видно,
- Что пиита слог силён,
- Портит кто успех обидно,
- Злит вопросами ехидно, —
- Это зависть прячет он.
- Кто рифмует, ждёт сравненья
- С мастерами «до» и «днесь»,
- Но и вепри, без стесненья,
- Льнут к дубам для насыщенья,
- Тешат поросей и спесь.
- В детских рифмах нет и тени,
- Все изъяны честны в них,
- Но, стремящийся без лени
- На парнасские ступени,
- Знает, чем пленить других.
- Ребус мудрого подначит,
- Сделай так, чтоб смысл сокрыть:
- Вымя полно, тёлка плачет,
- И бездельник должен значит —
- Гением и богом быть.
- На Пегасе – великаны,
- Всех прокатит жеребец,
- Всюду гранты-истуканы,
- В аргументах неустанны:
- Кто талант, а кто – глупец.
О, ты, без верха
- Обезвершены и полы —
- Канцлер, шейх и Далай-лама,
- Но затмил все их глаголы
- Сверхоракул волхв Обама.
- Отстранясь, к векам терпима,
- Смачно курит Фудзияма,
- Тихо-мирно Фукусима
- Ждёт, что выручит Обама.
- Отжил Одоакр44, – мы скоро, —
- Горн остыл, допета драма!
- Гром органов, ор от хора
- Оголтелы, как Обама!
- Обретут миры порядок!
- Лопай вместо масла – «Rama»45, —
- Огребёт орудий с грядок
- Миротворный дож Обама.
- Из огня тащить оливы,
- Вновь осман зовёт Осаму,
- Брось обол46, – и обер-дивы —
- Окрестят Отцом Обаму.
Лингараджа
- Дух Тинга47, древней Фулы48
- Был – свеж, изящен, хлёст,
- Но из-под бард-ферулы
- Взошла звезда средь звёзд,
- Будила и дерзала, Как Ланселота рог,
- Пока вдруг не сказала:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Сие – не чушь из худших,
- И ни гротеска пыл,
- Для мёртвых и живущих, —
- Никто так не творил,
- Он пишет, он – в зените,
- На мачте вздёрнут фок,
- Чтоб высекли в граните:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Кто торговал немало,
- Припомнит о сыром,
- Пенял он на зерцало, —
- Прощали всем гуртом,
- Как вдруг, себе любезно
- Придумав прыти скок,
- Тот возгласил помпезно:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Ругайте, не обидно, —
- Неправда чушь сия,
- Дыру Времён мне видно
- Вдоль моего копья,
- Будь тут – хоть гугеноты,
- Баптисты – там, в рядок, —
- Прольёт свои щедроты:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Летать, торча на месте,
- Мечтает не орёл,
- На мягком преть насесте
- Восток пусть изобрёл,
- Но, – шаха, а не гота,
- Высмеивал итог,
- Который для кого-то:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Гаремы не прельстили, —
- Там нормы без слабин,
- И мима приютили
- Цзэдун и Сяопин,
- Драконов понял мало,
- Ла Моттом49 стать не смог,
- Ведь чести не хватало:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Лингам, с утра до ночи,
- Затёр почти до дыр,
- Где змеи прячут очи,
- Расцвёл свиней ампир,
- А в Индии, ветвиво,
- У фавна рос шесток,
- И обнадёжил Шива:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Тельца и Водолея
- Слить в семенной поток, —
- Дозволит псалм, краснея,
- Что лучшего не смог,
- В Германии, внемлите:
- Того, чей стих издох,
- Ко всем чертям пошлите —
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
- Кто встал таким пилоном, —
- Все судьи нипочём,
- Не сникнет перед лоном,
- И даже палачом,
- Коль на главу пустую,
- Сам эшафот навлёк,
- Прими мораль простую:
- Аз есьми – Фаллос-Бог.
Липа
- Сосна, или жостер с ольхою,
- Берёза ли, груша ли, бук,
- Как молодь гордятся красою,
- Но липа – сановней подруг.
- Адаму от яблонь тоскливо,
- Юпитеру – дорог дубок,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
- Есть в тополе – рост над собою,
- У вишни – дрозды и скворцы,
- Ликёры с пушистой айвою —
- Наивных мечтаний ловцы,
- У ясеня древо кичливо,
- У тиса – отравный листок,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
- Ротонду платан обступает,
- А вяз воспевает сонет,
- Бобовник порой отсыпает
- Санкт-Барбаре гору монет,
- Дурманит вьюнка перспектива,
- Гомера – лавровый венок,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
- Сплетений знаток бирючина
- Инстинкты толкает вперёд,
- Искусна шипов паутина,
- Что роза узорчато вьёт.
- «Люцинда»50 – мудрёная нива,
- Хитёр бузины черенок,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
- Ромео с Тристаном, поныне
- Примерны, твердит лицедей,
- Но раньше – Изольде, в лещине,
- И Джулии – пел соловей.
- Лукошки с эпохами ива
- Нанизывает на шесток,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
- Накормят каштаны любого,
- Коль нет ни гроша за душой,
- А слива всечасно готова
- Дни детские вспомнить с тобой,
- У клёна – кора златогрива,
- Сирень – вожделенья клинок,
- Но липа – всегда особлива,
- Никто так не стар, не широк.
Кольбицкий липовый лес
- Все липу распознают,
- Но есть ли липняки?
- О них припоминают,
- Порою старики.
- Но к Áльтмарку, вплотную,
- Есть рощица, – увидь,
- Там то, чего вчистую
- Никак не может быть.
- Тут есть дубки, конечно,
- Берёза, даже – граб,
- Но манит безупречно
- Лесок, где сердцем слаб.
- Осина, ежевика,
- И ветреницы цвет,
- Без зависти и шика,
- Средь лип выходят в свет.
- В ней поползень, полёвка,
- Куница иль сова,
- Вселившись в крону ловко,
- Войдут в свои права.
- Где липа, – всюду сказка,
- Её чудесен лак,
- О ветви гладит ласка
- Серебряный зигзаг.
- Земля здесь не щадилась
- По прихоти людей,
- Но зелень народилась
- Из воскрешённых пней.
- Дубы и сосны худо
- Взирают на липняк,
- Вот от того и чудо
- Всех восхищает так.
- Ещё Вильгельм отменно
- Защиту лесу дал,
- Чтоб неприкосновенно
- На радость всем стоял.
- Теперь, как указатель,
- Ведёт гостей в отель,
- И там – не созерцатель
- Потягивает хмель.
- Хоть в Áнхальт нет налога
- На сказки братьев Гримм,
- Всё ж роща-недотрога
- Уже не всласть двоим,
- Смотри на это строго,
- Не позабудь и впредь —
- За нашу веру в Бога
- Не должен рубль звенеть.
УНСТРУТСКИЙ СВЕТ
(2015—2020)
Туискон
- Был древним лес, но тем ветрам подобно,