В годину смут и перемен. Часть 3. Параллельная реальность
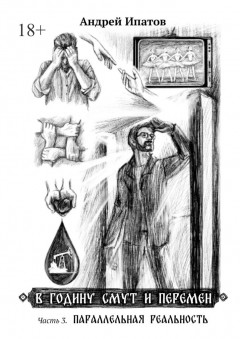
Господни пути неисповедимы… или… администрация ответственности не несет…
Анекдот №806474
Корректор Мария Черноок
Дизайнер обложки Вера Филатова
Иллюстратор Марина Шатуленко
© Андрей Иванович Ипатов, 2025
© Вера Филатова, дизайн обложки, 2025
© Марина Шатуленко, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-6171-1 (т. 3)
ISBN 978-5-0060-0537-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Трилогия на то и трилогия, чтобы автору, закончившему первую и вторую часть своих историй, снова засесть за финальную книгу. Исторический срез по первоначальному замыслу должен был пройти через сильно разделенные во времени страницы жизни моих соотечественников: сначала Смутное время на рубеже XVI – XVII веков, затем еще более смутное время революций и войн начала XX века. Ну и, наконец, в завершение этой выборки предлагается эпоха потрясений в современной России, случившаяся на стыке крайних веков. Объединяет исторические новеллы территориальная общность происходивших событий, а также герои, вышедшие из разных поколений одного рода, одной провинциальной фамилии с размытыми временем вепсскими корнями.
В зависимости от имевшегося у автора фактического материала, казалось бы, ближе к современности должно обозначиться снижение степени «додумывания» событий в описываемых историях. Как ни парадоксально, но именно в третьей части трилогии, по которой априори имеются многочисленные документальные свидетельства, додумывание-то и зашкаливает… Можно даже сказать, что жанр этого нового художественного произведения поневоле переходит в аллегории фэнтези, чем в летопись исторических вех.
Такие вот немыслимые хитросплетения в произошедших преобразованиях Новой России, развившиеся со знаковых августовских дней многими уже забытого ГКЧП 1991 года. Доминантой тех страниц истории страны стал осознанный отказ советского народа от коммунистической идеологии, от ее роли в управлении народным хозяйством. Этот знаковый протест проявился в результатах выборов президента Российской Федерации 12 июня 1991 года, а далее по эффекту домино привел к развалу всей Советской Империи.
По мнению автора, этот последний исторический революционный эпизод является не менее яркой и важной страничкой истории Государства Российского, чем те, что были описаны в книгах №1 и №2 настоящей трилогии. Поэтому эта близкая нам эпоха на вполне законных основаниях вписана здесь в цикл «годин смут и перемен». Вероятно, что и на данном эпизоде история «смут» далеко не закончится… Трилогию же приходится заканчивать в реалиях сегодняшнего (точнее, даже вчерашнего) дня, оставляя продолжение для последователей жанра.
В своих записках, отнесенных автором к жанру исторических новелл, пришлось постоянно смешивать сюжетные линии с общеизвестным историческим фоном, добавляя в него крупицы реальных событий, преданий и свидетельств от героев повествований. Оттого повествование часто как бы кидает из стороны в сторону: то в детективные приключенческие дебри, то в энциклопедические справки, то в незамысловатые размышления об истоках и причинах случившихся с героями повестей вполне жизненных историй.
Что важно! Как в прошлом, так и в настоящем, у каждого предъявленного читателю персонажа, почти у каждой рассказанной автором истории, у большинства зашифрованных названий есть реальные аналоги и прототипы.
В результате проделанных осмыслений и изысканий автором выписаны некоторые закономерности, объясняющие механизмы образования эпохальных сообществ в российской провинции: «человека русского» и «человека советского». Катализаторами процессов их формирования предложено считать периодически случающиеся общенародные «стрессы», происходящие в «годины смут и перемен» (они же смутные времена с народными бунтами, революциями, госпереворотами, гражданскими войнами и т. п.)
Новая, третья книга могла бы стать подтверждением общей концепции автора о гражданской эволюции с закономерными революционными переходами количества в качество, если бы на момент ее написания удалось найти неопровержимые признаки зарождения в постсоветском многонациональном, многосоциальном и многогранном сообществе «нового человека», по своей сущности коренным образом отличного от глубоко укоренившегося в двадцатом веке в СССР «человека советского». К сожалению, говоря о наметившихся в обществе трендах преобразований, чаще всего наше внимание останавливается на явно нетитульных экземплярах этой новой сущности, на новых русских, перекрасившихся чиновниках, оборотнях в погонах, рэкетирах, челноках, обманутых вкладчиках…
«Новый человек» получается каким-то малопривлекательным и растерянным. Уже не идейно советским, но притом совершенно разноликим. В идеологиях у него тоже полный разброд: одни выбрали для себя имперскость в противовес тем, кто стоит за размежевание (по национальным, религиозным или иным догмам); другие ратуют за вседозволенность, входя в противоречие с теми, кто выступает за сохранение нравственных идеалов; третьим же достаточно удела обывателя, чья хата всегда с краю…
Наконец, мы зашли еще и в тупик с определением любимой всеми философами национальной идеи. Сколько ликов у растерянного человека нашего нового общества – столько и этих идей. Вот, теперь много говорим про патриотизм, но он тоже у разных людей ортогонально противоположный. Кто-то видит его в признании «горькой правды» и в самопожертвовании идти против течения, а кто-то – в самоубаюкивании на волнах «сладкой мечты».
Александр Солженицын объявил национальную идею «в сбережении народа», но для чего его сберегать, так и не объяснил. Понятно, что этот символ подразумевает объединение людей (ну, или хотя бы их большей части) – вокруг некоего общего «смысла жизни». Однако пролетевшие 80-е, 90-е и нулевые годы показали, что для одних людей в России смысл жизни – это доступная колбаса и относительно комфортные условия проживания, а для других, более пассионарных слоев общества – достижение чего-то запредельно великого, чтобы нам стать хоть в чем-то неординарными в масштабе планеты. Неважно в чем: в науке, культуре, религии, космосе, в добыче нефти и угля, а то и вырваться в лидеры в какой-нибудь утопической идеологии (военного коммунизма, общества тотального гуманизма, экологизма или прочего -изма). Но с принятием обществом великой цели нам всегда почему-то не хватает ресурсов на ту самую пресловутую колбасу, а страну начинает повторно колбасить…
На смену уходящему советскому поколению автора, выросшему в эпоху идеализированных и извращенных деградирующей властью СССР ценностей, по всем признакам на рубеже 80-х и 90-х годов двадцатого века все же должен был зародиться тот самый новый человек прогресса, познавший все лучшее от предыдущих эпох, от всех мировых наций, а потому навсегда исключивший из своих суждений и нравственных идеалов любые проявления рабской покорности, несвободы, алчности, воинственной злобности, жестокости. Этот человек должен был быть на генетическом уровне привит от халявных приманок и обманок, от разного рода идеологических штампов, от манипуляций мошенниками и прохвостами любого калибра. И этот новый человек с вызревшим и укоренившимся в нем чувством достоинства (чести) за самого себя, за свои идеалы, за свои права, за свой труд по всему должен был в итоге построить наиболее прогрессивную экономику, уважаемую науку, великую культуру, достичь приоритета в здравоохранении, экологии, космосе…
Как ни печально, этого пока не случилось, с какого бока на выстроенную пирамиду ни посмотри. Хочется надеяться, что данный неутешительный диагноз все же не на века, что, в очередной раз забуксовав, мы в конце наших замысловатых дорог все же дружно выедем на искомую всеми дорогу, для чего, возможно, потребуется разворот в сторону самопознания и самовозрождения.
В итоге концепт этой книги был предопределен самим отсутствием рождения на рубежах XX и XXI веков обозначенного выше нового человека – третья новелла с ее историями и рассуждениями получилась не реалистичной, а скорее гипотетичной и фантастичной. Эдакая параллельная реальность для судьбы главного героя, вынужденно мечущегося и ищущего точку распараллеливания реальностей между приземленным неустроенным собственным бытием и благами достойного своего имени россиян клана соотечественников. Наконец-то по-хозяйски обустроившихся на площади суши в два миллиарда гектаров.
Итак, читателя ждет путешествие из прошлых ностальгических реалий 80-х в потерянные галлюцинирующие миры, живущие своей собственной жизнью в параллельной вселенной.
Глава 1.
«Шусараша» – портрет героя из прошлого
(за 5—6 лет до даты «Ч» с провалами памяти в конец 70-х и в 80-е)
Родители его звали «Саша» или «Сашуля», жена называла «Шурка» или «Шурик», подчиненные на работе со временем стали обращаться как «Сан Саныч», школьные и институтские друзья – «Шура-Саша» или «Шусараша»…
Откровения игры в правдивые ответы
(6 лет до даты «Ч»)
Он: «Давай поиграем в правду!»
Она: «А это как?»
Он: «Очень просто! Первый из играющих задает вопрос. Можно любой, касающийся его партнера. Даже сугубо личный, даже с глубоко интимной сущностью. А второй играющий обязан честно на него ответить. За это на своем ходе он сможет тоже задать любой вопрос партнеру, рассчитывая на абсолютную взаимную честность. Врать категорически нельзя! Вступая в игру, партнеры как бы молчаливо подписываются перед Всевышним, что их ложь, маленькая или большая, всяко неминуемо отразится на здоровье самых близких людей. Можно не отвечать на вопрос, но тогда ты проиграл. Значит, тест на правду не выдержал – пожелал скрыть эту правду или же что-то в ней тебе самому откровенно неприятно. Сама понимаешь, такие жесткие условия – все равно что дать согласие пройти испытание на детекторе лжи. В итоге либо ты приобретаешь к своей персоне абсолютное доверие, либо ставишь себя под прогрессирующие сомнения, и как там дальше сложатся между игравшими межличностные отношения – большой вопрос!»
Она: «Ты уже играл с кем-нибудь в такую игру?»
Он: «Это что, твой первый вопрос? Тогда мы уже начали?»
- * * *
– Этой игре меня научила одна мимолетная знакомая. Собственно, результат той игры и поставил крест на наших с ней дальнейших отношениях. Тогда я проиграл ей в правду вчистую, потому что не смог, не посмел признаться, что был раньше… любовником ее сестры. Да, такой вот парадокс в жизни случился. Познакомился я с хорошей девушкой Варей у Театра сатиры по случаю обладания лишним билетиком на популярный спектакль. Через какое-то время наших театральных и киношных встреч она пригласила к себе домой познакомиться с родителями. Пришли: я при параде, с цветами – прямо жених перед сватаньем. А там Полина, ее старшая сестра, с которой мы прошлым летом ходили на катамаране в туристический поход в спонтанно сборной команде. Она была старше меня лет на пять, а это приличная разница – ведь мне-то было всего лишь двадцать… Красивая, коммуникабельная, пловчиха, спортивного телосложения и, как выяснилось, очень свободных нравов. Жребий выпал нам вместе дежурить в походе. Обычно парень – это дрова, костер, помывка котлов, а девушка-напарница – вся готовка пищи. В первый день, пока ребята готовили на стоянке наш сплавной «флот» к отплытию, мы пошли с ней за дровами. Стояла тридцатиградусная жара, потому из одежды на нас – мои плавки и ее купальник. На Алтае на берегу то голо, то лески в отдалении. Так вот, в таком леске она меня и взяла в оборот – повалила как манекен наземь, да так стремительно, что я в себя пришел, когда уже, собственно, все между нами и произошло… Три недели длился тот жаркий от зноя и моих бурлящих эмоций маршрут. Сложный, кстати, был поход, я там даже чуть не погиб в пороге, но это все только событийный фон… Три недели мы, не боясь ни клещей, ни змей, ни осуждающих взглядов завидовавших нам товарищей, гуляли с ней по вечерам в соседние лески, где она учила меня быть мужчиной, дарила свои ласки, поцелуи любви. К концу похода я уже как зомби был ей предан и влюблен по гроб жизни. Но урок мне был скоро дан жесточайший. В поезде, в вагоне при расставании – а мне надо было сойти раньше, в Барнауле, чтобы лететь на практику в один из строящихся нефтегородов Западной Сибири, – та вожделенная девушка Поля проникновенно улыбнулась мне на прощание, словно Мона Лиза, и, подобно таможеннику Верещагину из «Белого солнца пустыни», сказала: «А пулемет (то бишь свой московский адрес и телефон) я тебе, милый мой, не дам… Поигрались, порезвились, и хватит. В Москве меня жених ждет, и напоминания о нашем походном романе мне там совсем не нужны. Прощай! Исчезни теперь навеки из моей дальнейшей жизни! Да запомни: женщина что кошка – гуляет сама по себе, захочет – приласкается к тебе, но только потом жди, что побежит она вдруг на крышу на зов других котяр!» Месяца два, почитай, всю свою производственную практику на нефтяных промыслах я изнемогал, переживая тот случай, плакал от злости и скулил от беспомощности. Но потом, о чудо! – постепенно во мне вся эта тяжесть отошла, оказалось, секс не равен любви. По приезде в Москву я даже искать свою ненаглядную (то бишь спрашивать у ребят-попутчиков ее координаты) не стал. На душе скребли кошки, но я чувствовал, как тоска уходит день ото дня. С того времени прошло года полтора, облик Полины в моей памяти, как утреннее сновиденье, развеялся, казалось бы, навсегда. И вдруг та неожиданная встреча дома у Варьки. Представь себе ситуацию – немая сцена а-ля «к вам приехал ревизор»! Полина с ехидной улыбочкой при встрече меня «не узнала», да и я ей подыграл в этом. Но Варя, видимо, что-то заподозрила, вот и предложила мне скоро эту самую игру в правду. На первом же ее вопросе я и срезался, а потом и наши дальнейшие встречи сами собой сошли с ней на нет. Понимаю ее – нет правды, нет доверия. Свой отказ я прокомментировал лаконично: «Тебе лучше не знать!» На сестру свою, кстати, она была совершенно не похожа, даже внешне, не говоря уже о характере. Сущность Вареньки я бы охарактеризовал так: добрейшая чистая душа ребенка, которая еще не научилась прощать обманы. Наверное, в итоге из нее получилась хорошая жена и идеальная мамашка. Верность в ней чувствовалась такая, что только у собак бывает. Но вот не сложилось у нас. Догнала меня кара за тот разврат походный, будь он неладен.
После небольшого молчания он продолжил:
– Ну да теперь моя очередь спрашивать. Собственно, от тебя нужно только коротко ответить мне теперь «да» или «нет», и не более того. Если не «да», то это значит «нет»! Никак иначе.
– Нет! Все же пока нет! Но вполне может быть… Подумаю – понимаешь?! Шура, а ты раньше, до меня, до сегодняшнего дня делал уже кому-нибудь такие предложения? Вот это будет мой второй вопрос по игре. Ведь я ответила тебе на первый сполна?! Значит, снова твоя очередь «исповедоваться».
– Хорошо, ответ принят, хотя ты и сжульничала самым наглым образом. Потом я тебе разъясню, что такой ответ означает на самом деле. Несмотря на то что, по сути, он неконкретен, зато теперь для меня однозначно понятен. Кажется, ты даже не поняла, что сейчас мне сказала на самом деле, пытаясь увильнуть. Так вот. Один раз я сам делал такое предложение, а другой раз его сделали мне…
– Расскажи, это интересно, черт возьми. У тебя с ними что-то было? Про первый раз догадываюсь, что это была Зойка. А вот второй – это новость! Почему же ты тогда не женился? Видимо, она любила тебя, раз сама открылась?!
– Все у тебя прямолинейно получается. Есть намерение, значит, должно состояться и его воплощение. А жизнь – она как лабиринт, с очень запутанными тупиками, с ловушками, наконец. Я тебе только привел пример с Варей и Полиной, как бывает. Короче, надо быть сильно умным, причем исключительно своим умом. Придется много раз споткнуться, не раз обжечься, чтобы наконец набраться достаточного опыта. Только тогда клубок отношений с женщинами, может быть, удастся аккуратно распутывать, не обрывая второпях хрупкие нити. Вот ты сейчас мне «нет» сказала, но все-таки потом добавила: «Может быть, дай подумаю», а ведь я теперь точно знаю, что это и есть однозначное твое верное «да». Другое дело, когда девушка говорит: «Замуж? Сейчас? Это не в моих планах! Это все позже!» По моему опыту означает такой ответ с переводом на понятный мужикам язык следующее: «Ты добрый парень, и я к тебе очень хорошо отношусь, но пока ты у меня на скамье запасных, сначала мне надо отработать другие, более перспективные варианты с более привлекательными ухажерами». А они у красивых дам всегда есть, это как шлейф у кометы в стадии ее приближения к звезде. Так, видимо, интуитивно заведено самой природой: самки подыскивают своим будущим детям лучших в их понимании самцов. Понимание, правда, бывает часто обманчивое. Тем не менее чем ярче самка, тем больше у нее диапазон выбора. И это генетический стержень, на который люди только накручивают разную там лирику и высшие материи. Но если в итоге у этой самки не получается выбрать из лучшего, она непременно на безрыбье вернется и к припасенной на черный день кандидатуре. Это тоже из закона сохранения природы. Поэтому, отвечая на предложение потенциального жениха – что она, дура, что ли, сразу тебе отказывать! Пока ты на крючке, влюблен в нее, то и ей сподручнее держать тебя при себе, но только дальше поцелуев не авансировать… Аналогично и обратное: парень, если у него есть симпатичная, но еще не вполне осознанно любимая девушка (тем не менее дружбой или отношениями с которой он дорожит), будет тянуть, опасаясь переходить красные линии. Иногда тянуть можно долго, а бывает, что и сама девушка в эмоциональном порыве вдруг первая признается в чувствах, на свой страх и риск позовет тебя в брачный союз (неважно, официальный или гражданский1). Мне та девушка Ириша сказала так: «Дурак ты, Сашка! Женись на мне, пока я согласная. Ведь потом могу и не захотеть!» А этот «дурак Сашка» лицемерно с испуга ей банально ответил по штампу: еще не время… еще он не встал на ноги… а женитьба – это такая ответственность, это очень-очень серьезно… Собственно, так дословно все и было. Поэтому когда бывшая моя зазноба Зойка, эфемерная звезда на небосклоне пригрезившейся любви, ответила почти такими же словами на мое предложение: «Не пугай меня! Мне с этим надо подождать, ведь замуж – это сейчас так несвоевременно…» – в заднем кармане брюк уже был припасен листок бумаги. А на нем заранее были нацарапаны эти же слова на случай, если я вдруг отважусь сделать предложение пойти за меня замуж. Почти 100% совпадение! Одна только буква не совпала: я написал «не путай меня», а она сказала «не пугай меня». На что же я рассчитывал? Видимо, на то, что моя подруга, хорошо знающая себе и мне цену, от неожиданности и от моей дерзкой настойчивости войдет в некий ступор и по законам философии экзистенциализма в критической для нее ситуации невольно выдаст мне тот искренне-неподдельный ответ, который всячески избегала ранее, камуфлировала и затуманивала. Так и получилось – в итоге я уже точно знал приговор судьбы: ответной любви с ее стороны нет, не возникло ее за три года нашего близкого знакомства и, верно, уже в полной мере не будет. Конечно, и простая симпатия со временем может перейти в серьезные взаимные чувства. Так тоже бывает. На моем месте кое-кто стал бы ждать своего шанса и с определенной долей вероятности вполне мог бы его дождаться. В конце концов, красавица может забыть о своих мечтах и, перебесившись, просто разрешить кому-то в своей будущей жизни безумно любить ее, заботиться, содержать, наконец. Мне тогда стало очевидно, что Зое полюбить меня мешала либо скрытая от меня неприязнь, либо же неафишируемая привязанность к другому человеку. Возможно, такая же односторонняя любовь. Спрашивал, только она в том мне не созналась. Можно было, конечно, предложить ей поиграть в правду… Хотя, безусловно, она бы на это не согласилась ни под каким соусом – зачем? Дело еще в том, что тогда мое предложение выйти замуж было последним, хотя и решающим, заранее продуманным тестом в стройной цепи предварительных испытательных мини-тестов на любовь. Именно исходя из анализа прошлого зондирования и была написана та записка, что лежала в заднем кармане брюк. Научный подход, основанный на серии провокационных психологических экспериментов, как это ни цинично может быть сказано… Бороться за любовь? – Имело бы смысл, если бы ее обратному ко мне глубокому чувству мешали какие-то объективные вещи, как то: противодействие родителей, ее гипотетический жених или даже муж, материальные причины, национальные или религиозные факторы, ну и прочее. Но здесь борьба за любовь была совсем не к месту, не во благо наших будущих отношений. Скорее навязчивое упорство с моей стороны уподобилось бы агрессивному желанию самца любыми доступными способами (силой или обманом) добиваться овладения предметом своего вожделения. Это тогда бы, безусловно, унизило мою любовь, мое чувство собственного достоинства. Я бы на ее месте за такое поведение только презирал меня. Что ж, несколько лет я строил с Зоей здание из собственной искренности и добрых намерений, она должна была уже знать меня на микроуровне. Теперь же я убедился, что все это ей в конечном счете не нужно, искомой взаимной искренности, переросшей в любовь, так и не родилось. Хотя, конечно, продолжение дружбы никто не отменял, более того, я уже успел стать ей как брат. Кажется, вывод был сделан мной тогда единственно правильный – вытравить в себе этот некстати случившийся любовный вирус, вылечиться от него. Трезвым умом я отлично понимал, что мы не пара, но вот надо же, сидел там, во мне, где-то глубоко чертик, а может, и наоборот – ангелочек, который никак в это не верил и все гнул свою линию. Однако зондирование показало, что он-то и неправ… Для начала надо было максимально сократить личные встречи и телефонные звонки с Зоей, пресечь участие в тусовках с общими друзьями, прекратить наши привычные лыжные воскресные прогулки с ней. Любовь – это болезнь, зараза наподобие алкоголизма. Приходит сама, не спросившись, не постучавшись к тебе в дверь. Выпроводить же ее – сплошное несчастье… Так, видимо, и алкаш: отказывается от спиртного неделю, месяц, год, а потом раз – новая встреча, соблазны, и человек срывается, может уйти в еще более страшный запой! Нет, очень важно при таком лечении исключить все контакты с источником «заразы». В итоге, как ты знаешь, я даже уехал тогда жить и работать в Сибирь. Кажется, именно там это «забыть» у меня, наконец, и получилось. Иначе мы бы сейчас не были с тобой вместе, Танюха, не играли бы теперь в «правду», я бы не каялся здесь в своих грехопадениях. Да, вот еще! Немного этому выздоровлению поспособствовало то, что друзья мне постоянно телеграфировали в Сибирь о том, что вакантное место оруженосца при Зое в нашей кампании не пустовало, а это значит, что ей мое удаление никак не навредило, не затронуло чувств, не задело…
– Прямо трактат про безответную любовь и наставления, как ее избежать. Мне, кстати, это тоже до боли знакомо – если потом спросишь, расскажу правду про свои похожие истории из личной жизни. Не бойся, все в прошлом, и врать на эту тему не буду, неинтересно, глупо… Если бы вас с Зойкой не знала многие годы, то, верно, сейчас бы сказала на твою исповедь, что ты дурак и профукал свою любовь. Но ты сделал правильно, только был, извини, очень-очень туп, чтобы понять в ваших отношениях, who is who. Ладно, это ты поведал мне сейчас о собственном когда-то сделанном Зойке признании. Для всей нашей компашки это тот самый секрет Полишинеля. Но я вдруг теперь услышала, что было и обратное предложение – тебе самому! От кого же? Расскажи!
– Да. Было и такое дело. Тебе, как своей нареченной жене, признаюсь. Никогда никому эту историю не рассказывал. Так вот, я, как более опытный специалист (не по девушкам, а по профессии) в нашей московской конторе, куда попал по распределению, опекал одну зеленую девицу на нашей общей работе. Нет, это не была просьба руководства – скорее ее собственная инициатива, которая была мне не в тягость. Я – уже полновесный инженер, «черпак» на армейском жаргоне, она – «дух бесплотный» на должности техника (фактически лаборанта), но притом училась на вечернем факультете в нашей общей «керосинке» по моей специальности. Сидели в офисе в одной комнатенке, вместе ходили обедать, я ей, конечно, активно помогал с домашними заданиями и с подготовкой к зачетам, к экзаменам. В общем, общались мы много. Сначала чисто на работе, а потом постепенно это перешло и на послерабочее время. Скоро я почувствовал, что Ириша (так звали ту девицу) по жизни стала моим «хвостиком», стремится заполнить собой всю мою частично еще свободную жизнь. Сама она была худенькая, небольшого роста, неглупая, задорная, безусловно, симпатичная (если видела фильмы с Одри Хепберн – так это ее выписанный портрет из «Римских каникул»). На работе наши матроны и патроны не могли не видеть ее ко мне практически нескрываемого особого отношения и постоянно по-отечески выговаривали: «Ты, парень, либо женись на девчонке, либо не морочь ей голову. Мы тут все за нее горой, она, считай, наша дочь полка, самая молодая и самая наивная в конторе, такую в обиду не дадим!» Честно говоря, я, понимая, что привязанность к ней непомерно засасывает, сделал тогда несколько попыток деликатно отвязаться хотя бы от ее тесной опеки. Самым кардинальным шагом стал мой переход в другой офис, в другое подразделение, благодаря чему я на 50% своей занятости стал разъезжать по далям Крайнего Севера и Средней Азии. Не будь тогда моей влюбленности в объект «Зоя», возможно, с Иришкой у нас и срослось бы, мне с ней было хорошо, как-то по-домашнему уютно. Встречи с ней – все равно как надеть после работы свои любимые тапочки. Но многолюбие во мне никак не сочеталось. Иные, кроме чисто дружеских, отношения с ней были для меня табу. Однажды между моими командировками Иринка подкараулила, чтобы огорошить своим выстраданным признанием и желанием, чтобы я стал ее второй половинкой. К такому повороту я не был готов и тоже сначала отговорился по шаблону: «рано… большая ответственность… надо время и т. д. и т. п.». Поняла ли она истинную причину таких увертливых слов – не уверен. У меня тогда еще не было опыта аналогичных выяснений своих отношений с Зоей, но это же были мои необязательные слова, и я знал им цену как никто другой. На следующий день она опять меня поймала, решила, видимо, что я просто пока боюсь официальной стороны этого дела, и предложила жить у нее на условиях «как я это решу» – без штампов в паспорте… Тут бы мне и сдаться. Девушка – красавица, умница, из хорошей директорской семьи, с собственной однокомнатной жилплощадью… Опять я как-то отговорился, тянул время, мычал как телок, что и такое решение – край моей ответственности, не надо нам торопиться, что и она может меня разлюбить, только пока не поняла этого.
Кажется, прошла неделя – я мучился самоедством страшно, прямо скажу, испытывал мерзкое отношение по отношению к самому себе. В конце концов моя совесть победила – позвонил, попросил девушку о новой встрече. Она примчалась вся такая воздушно-радостная, в предвкушении сказочного счастья, но вместо этого я ей все правдиво рассказал про свою еще не потухшую любовь к Зое и, возможно, предстоящее очень-очень долгое выздоровление, без гарантий. Да, любовь та была практически безответная (разве что несколько стихийных эпизодов, которые долгое время и путали всю мою точную аналитику). К тому же с Зоей мы в итоге и сами доверительно выяснили, что как супружеская пара не монтируемся, очень разные по психотипу личности. Я по жизни спокойный, уравновешенный, как слон, но иногда вдруг, опять же как слон, выходящий за рамки терпения… Зоя, по ее же словам, «меркантильная стерва», но «крайне душевная и романтичная натура». Ну а главное в сути наших отношений – я не был героем ее романа, а она искренне не желала портить мне жизнь… Несколько раз Зойка, прекрасно осознавая сложившееся в результате многолетней тесной дружбы мое перед ней неуправляемое преклонение (прямо скажем, на грани самоотречения и самопожертвования), говорила как бы в шутку: «Шусараша, ищи себе спокойную, добрую, а главное, хозяйственную девушку, ведь во мне-то ничего этого и близко нет. Иначе я тебе просто испорчу жизнь, и ты меня возненавидишь, а то еще в конце концов возьмешь, да и повесишься…» Позже я, как никто другой, осознал правоту этих слов. В каждой шутке есть доля шутки… Она, как это ни грустно, была в своих оценках нашего гипотетического брака абсолютно права и дальновидна. Так вот, все же о том самом «паже» Ирише – мы после моего откровенного объяснения в «нелюбви» надолго расстались, я бежал с поля боя, а она в глубокой обиде не стала меня больше преследовать. Скоро в очередной раз на два месяца улетел в командировки в поля, в свои заснеженные уренгои, в запредельные минус 55! Работа там всегда отвлекала, успокаивала, гасила лишние эмоции, а морозы продирали так, что воспаленный мозг цепенел. В день возвращения с севера, как раз перед Новым годом, со старой работы меня отловили по телефону и пригласили приехать на похороны нашего бывшего сослуживца Бориса Ивановича, тоже когда-то работавшего в нашей малогабаритной комнате. На поминках было много знакомых лиц с моей первой работы, но только не было почему-то самой бывшей пассии. Это удивило. Больна? Уволилась? На вопрос бывшему начальнику отдела «Почему Ирина не пришла на похороны?» он что-то пробормотал невнятное, зато тут же пояснила другая знакомая дама: «Не может же она одновременно сегодня быть и здесь на похоронах, и на своей собственной свадьбе!» Ну, значит, так тому и предначертано было быть. Перестала ждать меня, и слава богу! Как она сама потом мне признавалась, выскочила замуж за надоедливого ухажера больше от обиды, от какой-то свалившейся на нее безысходности… Зато буквально через три дня в отсчете с даты тех похорон мы наконец окончательно разобрались в отношениях с Зоей. Уже она вытащила меня на встречу, где как бы в шутку поинтересовалась, не передумал ли я еще на ней жениться. Я же твердо, не раздумывая, уверил, что от той старой хронической болезни полностью излечился. Но это была неправда. Конечно, поза! Ведь до выздоровления еще было ой как далековато. Однако с этими моими словами ниточка, незримо связывавшая нас несколько лет, оборвалась… По крайней мере, я этими словами свою любовь предал. Вот, а ты говоришь, что было бы сделано предложение, так и свадьба сладится, и что признание индивидуума одного пола при благосклонности к нему индивидуума противоположного пола делает их женитьбу логическим продолжением этой причинно-следственной связи. На моих примерах обнажено, как все бывает запутано, закручено и нелогично сложно. Кстати, вот ты мне даже и не дала теперь в игре договорить: в чем есть мое к тебе предложение, каков мой первый вопрос. Ты все поняла без слов, и я все понял от тебя с первой же буквы! Вообще, непонятно, зачем и на что ты сказала свое «нет», – мы же оба уже знаем, что свадьба скоро будет, это за нас решено где-то там, на небесах, и не нам перечить Богу, ну или кто там его заменяет… Потому как есть это в нашей с тобой ауре полей из химических флюидов и электромагнитных волн. Они за нас все уже предопределили: Саша + Таня = любовь! Только вот у кого-то замыкание в указанных полях происходит мгновенно, буквально с первого взгляда, а особенности наших организмов, видимо, таковы, что потребовались многие месяцы и даже годы общения, дружбы, чтобы ростки глубокого чувства вдруг сами пробились. Но зато, по крайней мере у меня, их рост потом стал необратим, подобен цепной ядерной реакции. И чтобы при желании загасить это чувство, возможно, потребуется тоже не один год, а может, и вся оставшаяся жизнь. Такие вот по моей практике напрашиваются выводы на эту тему. Мы ведь, Танька, невесть с каких времен уже знакомы, общались в общей кампании, а жили каждый своей отдельной жизнью, как в разных вселенных, в параллельных мирах. А теперь вот бац! За полгода ни к чему не обязывающей переписки, за один спонтанно случившийся летний поход, когда меня начальство безжалостно вытурило в отпуск, за какие-то три недели все кардинально изменилось. И вся наша прежняя тишь да зеркальная гладь с бурной турбулентностью вошла в стремнину порога. Или даже водопада? Ты мне готова родить трех деток, пусть двух, но не меньше? Это будет мой следующий вопрос в игре!
– Насчет «с первого взгляда» ты относительно меня неправ. Я любила тебя много раньше, все эти годы, но ведь тебе, кроме Зойки, никто не был нужен…
Поиски под гипнозом
(5 лет до даты «Ч»)
– Таня, чего-то у меня рано склероз начинает развиваться. Вместе на курсе учились с одним хорошим парнем, много общались, занимались спортом в лыжной секции. Хорошо его запомнил еще потому, что он земляк моих родителей, вологодский. Мы даже с ним зимой один раз вместе на каникулах на первом курсе в деревню Селище к моему деду Тихомиру вместе ездили, на лыжах там в поход многодневный ходили, строили из снега иглу, хижину эскимосскую. Весело было, спортивно, он тоже заядлым туристом оказался, причем абсолютно непьющим и сильно ироничным на этот счет. На середине второго курса совершенно неожиданно вдруг институт бросил, никому ничего не объяснил и скрылся с горизонта. А сейчас вдруг осознаю, что ни имени, ни фамилии его уже не могу вспомнить, никак они не всплывают больше из глубин моей помятой памяти. Вот, смотри, на этой фотографии мы тут вместе с нашей институтской компашкой во время осенней высылки в колхоз. Это сфотографировано на втором курсе. Этот страшненький, лохматый и небритый, с кликухой Шусараша – я, слева – Ильнур-татарин из Оренбурга, справа – Тарасик-хохол из Киева, а вот имя этого центрального здоровяка словно у меня чем-то в мозгу затерло… Помоги вспомнить, а то измучаюсь весь. Никогда такого долгого забывания не было еще. Четвертак ведь только, а уже такой склероз невообразимый напал.
– Ну ты даешь, милый! Шурик, я-то чем могу тебе здесь помочь? Меня там с вами на картошке не было, и в «керосинке» вашей я не училась. Да и вообще друзей твоих институтских живьем никогда не видела. Вас же разбросала профессия по всей стране, вы, кажется, и не встречались с окончания института. Ты постарайся все же напрячь мозги, может, какие-то ассоциации всплывут, тогда и вспомнишь. Начни, что ли, с фамилии или с имени. На какие буквы они были, помнишь?
– Пробовал. Я уже минут пятнадцать пытаю себя – все бесполезно. Ну ты же медичка, в конце концов. Невролог. Должны вас были гипнозу выучить. Введи меня в транс, оно тогда само и вспомнится элементарно. Я это в кино видел. Работает железно. Любого жулика и шпиона можно на чистую воду через гипноз вывести.
– Глупости твое кино. Полная бредятина. В гипнотерапии все от пациента зависит, если он сам стремится что-то отыскать в потерянной памяти, то тогда – да, есть шанс вспомнить забытое. Если только это событие эмоционально чем-то было окрашено, а не просто «…что я там делал 15 августа такого-то года…». Насильно же мозг человека как консервную банку гипнозом не вскроешь. При желании человек легко ставит блок, сам себя кодирует на сокрытие нежелательной информации, и это будет более сильная установка, чем гипнотерапевт попробует дать извне. Если хочешь, давай проверим: вообще, ты поддаешься гипнозу? Не так уж и много людей в транс на самом деле входит. На меня, например, это не действует. Был у нас коллективный сеанс в мединституте, из всей группы только человек пять полностью отключилось. Остальные по-разному расслабились, но оставались в полном сознании и управляли им.
– Попытка не пытка. Давай, любимая, гипнотизируй меня прямо сейчас. Мне скрывать нечего. Что там, надо шарик какой-нибудь на ниточке перед глазами покачивать? Вот, вроде есть подходящая штукенция – давай, дерзай!
– Ну смотри. Если что, я не виноватая, ты сам пришел… – Девушка посадила Александра на диван, залезла перед ним на колени на журнальный столик, стала монотонно раскачивать перед носом импровизированный маятник и с успокаивающей интонацией говорить: «Спи! Сейчас я досчитаю до двадцати, ты полностью успокоишься, расслабишься и уснешь! В твои воспоминания начнут медленно приходить далекие студенческие годы. Лучшие годы твоей жизни. Ты увидишь всех своих старых друзей по институту, услышишь их голоса, почувствуешь их запахи, вспомнишь их имена, кто они и откуда, вспомнишь истории, которые с вами тогда происходили. Ты готов это вспомнить? Не слышу! Куда ты пялишься все? Мне на грудь?» – Татьяна запахнула полы своего эротично распахнутого халата.
– Один, два, три… Ты помнишь Ильнура и Тараса? Ты видишь их образы с фотографии? Ты с ними теперь вместе?
– Да! Первый из них хитрющий был, но проникновенный какой-то, ему можно было довериться во всем, посоветоваться по жизни, а вот Тараска заводной, веселый, но уж сильно бойкий, нахальный, как все хохлы. Наверное, далеко пойдет!
– Вас посылали на картошку, фотографировали там. Кто еще с вами на карточке?
– Фотографировал Димон ушастый, моднячий был, но дурашливый паренек. Я потом у него эту фотографию еле выцарапал. Только вспомнил! Это была совсем не картошка, мы убирали капусту. На седьмое октября, кажется, на день советской конституции. Целое поле ее до самого горизонта убрали. Так нам местный директор совхоза по приезде группы сказал: «Уберете быстро все до единого кочана, и свободны! Езжайте в свой город, догуливайте сэкономленные дни!» Мы за шесть дней убрали поле начисто, по двенадцать часов работали, колхозницы подрубали заранее кочаны, а мы уже закидывали ту капусту в грузовики. Машины шли по полю друг за другом нескончаемой колонной, их нагнали тогда по райкомовскому приказу на праздники из города, думаю, сотни две. Поле, казалось, великое было, да капуста на нем не везде уродилась, большая часть площади – пустышка, видно, не поливали там. Потому мы за неделю и управились. Ну а раз официально обещано было, то, как только последнюю машину с грузом отправили, мы все айда поздним вечером на электричку да домой в Москву. Потом в институте скандал по партийно-комсомольской линии великий был. Получилось, что из трех положенных недель мы все дружно в самоволку на целых две сбежали: «А могли бы товарищам на соседних полях помочь! Нет в вас товарищеской взаимовыручки и комсомольской совести!»
– Хорошо, но кто с тобой там еще на фотографии изображен? Ты говорил, что с ним к деду своему в деревню на зимние каникулы на лыжах кататься ездил!
– Да, ездили к деду Тише. Было такое дело. У меня лыжи красные широкие были, с металлической окантовкой, их мне старший брат по случаю купил, а уж крепления специальные с тросиками для них я сам в турклубе выменял. По снежному насту лыжи эти шли великолепно, а у него, у напарника моего, лыжи были обычные, беговые – проваливался он на них в снег постоянно. Тем более на спине рюкзак килограммов на двадцать. Вот мне весь тот поход и пришлось тропить лыжню. Обошли тогда в сумрачные метельные три-четыре дня почитай весь край белозерско-шухтовской, исходили его по холмам, по замерзшим болотам да по перелескам. Две ночи ночевали в палатке, разжигали таежный костер из бревен, благо специальная пила, укороченная «двухручка» с собой взята была, а на третью ночевку стали строить иглу из кусков выпиленного крепкого снежного наста. Прямо в чистом поле, точнее, на месте мохового болота. В хижине сначала шикарно нам спалось, благо что еще и устали крайне с ее постройкой. Однако посреди ночи началось незабываемое представление – наслушались волчих песен, да так, что хватит на всю оставшуюся жизнь. Ко всему дожгли тогда в примусе последний бензин. Следующий день выдался очень холодный, градусов, наверное, под минус тридцать, и костер не разжечь – далеко было наше иглу от леса. Вот тогда и решили свернуть с оставшейся части маршрута и скорее возвращаться к деду в Селища, да чтоб в баньку, да чтоб пропариться до костей. Дед-то, наверное, еще и беспокоился за нас сильно. Как же: одни в диком крае, где морозная пурга да волки не редкость. А у нас из оружия только самодельный арбалет Андрюхин. Во! Вспомнил, наконец, его имя-то. Андрей же мой товарищ был! На обратной дороге заночевали в доме у другого моего деда Оси, в деревне Пожарово, что близ Чуди. Вот, надо сказать, и удивились они с бабой Машей нашему вечернему непрошеному визиту. Спросонок никак не хотели пускать, но потом узнали, обрадовались мне неимоверно, закормили своими припасами, шаньгами, так что я даже отравился от жирных яств немного. С бабушкой я тогда последний раз виделся. Умерла она через год. А вот деда Осю после смерти бабушки его старшая дочь забрала жить к себе в квартиру, в город. Там я его еще навещал пару раз, когда снова на зимнюю побывку с лыжами в студенческие годы приезжал на Вологодчину. Ну а дальше мы с Андрюхой до деда Тиши всего один дневной переход на лыжах шли. Возможно, даже меньше, так как двинулись напрямки через деревню Кошву, что на высоком холме как замок средневековый стоит, аккурат посередке между двумя деревнями моих дедов. Как обещали деду Тихомиру, ровно за пять дней похода и управились. Он нас хвалил тогда «за геройство». Другие родственники, когда узнавали, куда и как надолго мы поперлись, ругали за безрассудство, а он вроде как одобрил. Лет-то ему уже было под девяносто, жили они с моей давно овдовевшей тетей Катей в той самой деревне Селища одни. Ей тоже уже под семьдесят было, а и дрова, и вода – все на своем горбу ведь носили… Да, что ж с фамилией моего сокурсника? Как я мог забыть это? Андрюха же – он Рыба! Точнее, Рыбак по фамилии, почти однофамилец моего деда Рыбакова! Да как же это вообще можно было мне забыть? Прямо великая черная дыра в памяти образовалась! Дед Тиша тогда еще по всей его родословной подробно расспрашивал, а как узнал, что корни их вологодского семейства из Белозерска идут, так сразу и определил: «Ты наша что ни на есть кровная родня! Только уже десятиродная! А то, что окончания -ов у тебя в фамилии нет, так и у нас здесь у дальних родственников такая же фигня – некоторые Рыбаки, а есть еще и Рубаки. Но мы веками знали, что наш прапрапрадед Рыбак тоже из Белозерска сюда пришел, да только тому уже четыре сотни лет минуло! Много это? Ох, много! А то, что мне самому уже без малого сто годков2?! Так, получается, что и не сильно много, всего-то четыре мои полные жизни с того времени и прошло».
– Замечательно! Пациент все вспомнил, наука не посрамлена, да и мне о себе ты много чего интересного порассказал вновь. Просыпайся, Шурик. Теперь я буду считать до десяти, и ты на счет «десять» у меня полностью проснешься!
– Да я, в общем-то, честно говоря, и не спал совсем, Танюша. Пытался войти в твой гипноз, пыжился-пыжился, да так и не вышло ничего. Видимо, не дано. Ты правильно говорила. Но благотворное влияние от твоих установок налицо – вспомнил же! Знаешь, когда ты вот так рядом и я могу полностью расслабиться, спокойно лежать, даже голые груди в вырезе твоего халата мне не мешают сосредотачиваться. Действительно, почему-то и думается тогда совсем легко, не напряженно, ничто не отвлекает. И вот, как в тумане, провалы и белые пятна в памяти начинают сами раскрываться, заполняться яркими красками, кристаллизуются в некие подробности. Как будто мне кто-то свыше все это нашептывает и показывает наподобие сновиденья. Ты мне для профилактики склероза почаще теперь такие процедуры делай. В суматохе нашей жизни не только дедов и сокурсников – родителей своих скоро позабудешь!
– Это точно! Ты прав. Быстро мы забываем тех, кто еще вчера был близок и безмерно дорог. Друзей теряем в суете. Ну хотя бы с этим Андреем – вы так с тех пор больше и не общались? Куда и почему он со второго курса института ушел? За неуспеваемость отчислили?
– Представь себе, нет. Учился он неплохо, без хвостов. У меня вот все зимние сессии всегда были кругло отличными, кроме одной четверки по философии на втором курсе. Зато в весенние я мог и пару схлопотать – с апреля начинался байдарочный сезон, а я, как зомби, про все другое забывал, уплывая на пороги… Ну а потом, конечно, эти двойки и тройки исправлял, но на осень повышенной стипендии стабильно лишался. А у Андрея, кажется, ничего подобного не было. Стабильный хорошист. Для всех было неожиданно, когда он, с одной нашей тусовки уходя, бережно попрощался со всеми: «Ну, народ, прощайте!», а в итоге оказалось, что «прощайте» -то вовсе и не «до свидания» – ушел-уехал он после тех слов насовсем… Адрес свой вологодский ни мне, ни соседям по общаге не оставил, а вот теперь и из памяти стал растворяться. Свинство, конечно, это с моей стороны, друзьями же были, жизни друг друга в том январском походе страховали. Что-то, мне кажется, у него тогда в Москве с девушкой неприятное произошло. Ну, типа она его обманула или изменила даже, а он с обиды все бросил да и уехал жить своей жизнью на такие же, как я, севера. Да еще и в армию потом могли забрать. Жаль! Найти бы его теперь! Может, еще и встретимся… Узнаем ли только друг друга? Моя борода уже меня ненароком изменила, вон и ты при встрече после Сибири не узнала.
– Ох уж эти девушки неразумные. Наше «нет» может на самом деле очень даже «да» означать, надо только подыграть немного в ее «неприступности», не штурмом с закрытым забралом на крепость идти, а в разумной осаде энное время побыть, поухаживать красиво, да наконец открыть забрало-то, признаться в своих чувствах и намерениях, а не полагать, что ей и так все ясно должно быть! А якобы «измены» девичьи – чаще так, на 90% это понты сплошные, чтобы суженый приревновал, да и полюбил потом крепче. Такие романтики вульгарные, как твой Андрей, да и ты сам, я тебе скажу, сразу же в крайние меры бросаетесь. И себе жизнь ломаете, и Дульсинеям своим тоже.
– Пожалуй, только понимать это начинаешь, когда уже все быльем порастет. Ты знаешь, я тут подумал, что каждый божий день надо вот так в определенное время садиться минут на десять, да всю нашу прошлую жизнь кусочками вспоминать, через сито просеивать, ошибки определять, зарубки на будущее делать. Во-первых, чтобы нейронные связи в головном мозгу поддерживались и подпитывались, во-вторых, чтобы совесть свою экзаменовать и ошибок больше не допускать наперед. Пусть это будут любые воспоминания: вечные и забытые, детские и зрелые, про разных там людей, родственников, друзей, даже врагов, с которыми по жизни пришлось встречаться. Многих уже и нет или скоро не станет, но пока они у нас в памяти – все они еще живы-живехоньки. Они не стерты, не забыты, они остаются в нашем информационном поле. А вот еще если эти воспоминания как-нибудь взять, да и записать на бумагу. Получится, что все они в грамотках живы останутся. Пусть не навечно, но хотя бы надолго. Плиты могильные рассыпятся, а их образы еще будут храниться где-то в архивах. Ты знаешь, я уверен, что когда-нибудь все рукописные и печатные архивные тексты человечества обязательно переведут в компьютерную цифру – вот тогда уже точно эти люди, события, да и сами летописцы удостоятся бессрочной сохранности, а с ним и вечной памяти, на триллион лет. Ну хотя бы на миллиард! Ладно уж, на миллион! Вечной и бесконечной жизни, образно говоря.
– Почему же только на триллион лет?
– Физика предполагает, что само расширение Вселенной к этому моменту разнесет все элементарные частицы материи и энергии так далеко друг от друга, что и температура везде станет абсолютно нулевой, и времени больше не будет. Нет движения от взаимодействия частиц – нет и времени. Никак иначе. Читать наши записки элементарно станет некому, да и атомы аннигилируют. Хотя ряд ученых полагают, что не все так плохо и, предельно расширившись, Вселенная начнет потом сжиматься в обратную сторону. В этом варианте есть надежда, что и массив этих прошлых знаний где-нибудь виртуально сохранится.
– Прямо Божий промысел! Все материальное преобразуется в дух?
– В энергию. А почему бы и нет! Количество переходит в иное качество. Материя постоянно самоорганизуется и потом по логике познает сама себя. Вот тебе и дух! Просто, в отличие от церковных догм, он не первичен, а вторичен в своей сущности. Даже наш однобокий материализм это не опровергает. Короче, хотя истина нам неподвластна, но мы можем вполне надеяться, что будущее человечество, а точнее, вселенский разум, который оно породит со временем, все законы природы все же познает и что-нибудь в циклах и формулах, если надо, подправит. Вот тогда разум начнет корректировать и создавать законы бытия…
– Когда ты так философствуешь, меня охватывает подозрительное чувство, что тебя надо побыстрее обследовать у нас в отделении психиатрии.
– Ну вот еще, что я вам, диссидент какой-нибудь? Это же вполне безобидная паранойя. Человек смотрит на звездное небо и пытается понять свое место в мироустройстве. Кто-то придумывает четыре тысячи религий. Другие, чтобы об этом не думать, уходят в алкогольную или наркотическую нирвану. А я всего-навсего придумываю гипотезы бытия, отталкиваясь от уже известных научных фактов и догм. Однажды в прошлом, в архее, миллиарда так четыре лет назад на только что остывшей и недавно рожденной Земле в анаэробных условиях возникла одноклеточная жизнь, потом, много позже, за 540 миллионов лет до нас, в период раннего палеозоя произошел кембрийский взрыв, и эта примитивная жизнь преобразовалась в многоклеточную. Далее наши прапрапрародители в виде первых млекопитающих появились в конце триасового периода 220 миллионов лет назад, кажется, они тогда весили менее пяти граммов. Наконец, из их потомков-приматов несколько миллионов лет назад стали образовываться связующие звенья с современным человеком: австралопитеки, человек умелый, человек прямоходящий. Homo sapiens (человеку разумному) всего-то от полумиллиона до миллиона лет, а уже из этого вида примерно 50—70 тысяч лет назад родились непосредственно мы, кроманьонцы. Они тоже немного с тех пор эволюционировали, но не принципиально: у отдельных групп поменялся цвет кожи, большинство наций существенно подросли, по-разному люди теперь способны бороться с отдельными вирусами и бактериями, у части населения Земли появлялась возможность дышать высоко в горах при низкой концентрации кислорода, ну и тому подобные усовершенствования, закрепляемые по наследству. Но, по моему мнению, главная эволюционная цель преобразований органического продукта – не просто развить свои мозги и загадить планету, но и подготовить революционную трансформацию этих самых мозгов в вид какого-нибудь цифрового искусственного интеллекта. Что уже потихоньку сегодня и начинается – вот увидишь, лет через десять ЭВМ будет обыгрывать в шахматы даже чемпионов мира, а дальше начнется такой бурный рост их возможностей, что мы и сфантазировать пока не можем, извилин наших не хватает…
Так вот, этот следующий наш виртуальный потомок (фактически он и есть в примитивном понимании «переход человека в дух») не будет ограничен биологической сферой. Этот условный переход может состояться через механические модели в виде киборгов и роботов, а может и через какие-нибудь кибернетические лучи. В итоге расширится мир познания не только до пределов Солнечной системы, но и до всей галактики и даже дальше, за пределы так называемой видимой части Вселенной. Ты, кстати, знаешь, что хотя возраст нашей Вселенной определен учеными чуть меньше 14 миллиардов лет (это если считать от рождения в Большом Взрыве), тем не менее ее видимая область в два раза больше – где-то 32 миллиарда световых лет! Этот парадокс объясняется ускоряющимся расширением Вселенной, поэтому мы еще способны видеть на небе свечение из прошлого, от многих галактик, которые на самом деле позже ушли за пределы самой возможности их видеть с нашей Земли. Прямо машина времени в действии: многое, что мы видим на звездном небе, – из далекого прошлого! Свет от Солнца родился четыре минуты назад, от звезд – вплоть до миллиардов лет назад! Но это не главное. С появлением наших виртуальных мозгов, которых научат не просто быстро считать неподъемные объемы цифр, но и реально думать намного лучше нас, людям станет доступен наномир, который, я уверен, человечеству еще ой как успеет пригодиться, особенно в твоей медицине. Может, это и не так все будет, но ведь данная гипотеза мне кажется вполне логичной и закономерной. Печально, конечно, что век человечества ограничен, в историческом масштабе он просто мгновение, мы, люди, так и не сможем за свою эру дождаться подтверждений или опровержений такого рода гипотез бытия. Сначала люди перестанут быть конкурентными с порожденными ими же машинами, а потом могут измениться условия нашей среды обитания, и тогда оно, безусловно, совсем отомрет, как динозавры или как советский автопром, когда к нам на рынок придут японские автомобили. Но все равно дело человечества продолжится, только в иных формах бытия и сознания!
– Интересно, сколько же ты отводишь сроку оставшейся жизни существующего на планете человечества?
– В плане существования вида – примерно столько же, как и вся прошлая жизнь Homo sapiens. Думаю, что не менее одного миллиона лет оно еще натурально просуществует благодаря развитию биотехнологий. Но в плане нашего влияния на развитие цивилизации планеты Земля мы уже здесь практически на самом финальном отрезке этого пути, финиша осталось ждать, вероятно, не более пары сотен лет. Надеюсь, что наше будущее детище, то бишь сотворенный людьми разум, нас, людей, его создателей, благодарно пощадит и позволит вымереть естественным образом, просто сначала отодвинув на вспомогательные позиции, а потом, чтобы не мешались, разместив в комфортных для нас резервациях. Помнишь, как у Носова в «Незнайке на Луне» некоторых коротышек принудительно отправляли на далекий дурацкий остров, где они могли остаток своих дней развлекаться, наслаждаясь безделием? Видимо, что-то похожее будет в итоге уготовлено вырождающемуся племени людей. Но управлять жизнью на планете, точнее, на планетах, которые человек все же успеет еще колонизировать до потери своего полного влияния, будут, конечно, не люди, а беспристрастные абстрактные для нас виртуальные судьи и менеджеры. В этом, должно быть, и будет наш счастливый билет на то самое длительное доживание в один миллион лет!
– Ну ты и циник! Кстати, коротышки в книге у Николая Носова от той бесполезно прожигаемой жизни быстро превращались в баранов, если ты помнишь. Кажется, там еще этому процессу дурной воздух способствовал.
– Вот! Я об этом и говорю: придет дурная экология плюс полностью отдадим инициативу биороботам и искусственному биосознанию – вот и биочеловекам остается тогда удел беззаботных баранов в стойлах. Согласись, что и сейчас, когда у людей по жизни нет никаких дел, нет полноценной работы, семьи, наконец, цели и пользы по жизни – их удел такой же, как у тех коротышек, только без возможности общества в итоге получить с них хотя бы «шерсти клок».
– Нет, определенно ты у меня великий циник! Кстати, Шура, а почему у тебя такая необычная, на японский манер, кликуха была в институте? Как ты сказал давеча: Шусараша?
– Все просто. Это еще со школы нашей звенигородской повелось. Сначала кто-то назвал меня двойным именем Шура-Саша, а потом в нем как-то само собой переставились слоги, и оно трансформировалось в Шусараша.
«Быстрее, выше, сильнее – вместе! Citius, altius, fortius – communis!»
(осень, за 12 лет до даты «Ч»)
– Шусараша, ты же у нас спортсмен, кажется?
– Легкая атлетика, лыжи, биатлон, спортивный туризм, гиревой спорт. Все на уровне первого-второго разрядов. А что надо?
– Надо спорту помочь своими накачанными мускулами! Олимпиада через девять месяцев в Москве, сам знаешь. Формируем на факультете стройотряд. На Красной Пресне стройка Центра международной торговли в полном цейтноте. Есть решение горкома партии мобилизовать туда на месяц от нас курс студентов, на разные там вспомогательные работы – преимущественно мусор разгребать.
– Понятно, что в этом году вместо картошки стройка будет. Ну, надо так надо. В чем вопрос? При чем тут мой спорт? Все равно всех же пошлете на эту работу. А потом по ускоренной программе нам в итоге кастрированный семестр доучиваться. Из математики дифференциальные уравнения упразднят, это понятно. Зачем они, если не применишь на логарифмической линейке? А вот интересно, что из марксистско-ленинской философии уберут?
– Ты что, вообще дебил? Есть вещи, про которые вслух не говорят…
– Платить-то хоть будут или как в колхозе, трешка на нос за весь срок вкалывания да жиденький супчик с продавленной раскладушкой в сарае?
– С оплатой будет все по-честному, оформим по договору чернорабочими, и по сотке с горкой получите здесь, не уезжая из Москвы. Обижены не будете. Но вот теперь послушай меня. Пока все ваши будут носилками мусор таскать, мне треба пяток мускулистых парней подобрать в отдельную бригаду. Скажем так, особого назначения. Там и заработок выше, так как работенка будет сдельная.
– Так, это уже про интересненькое. Что делать в «особой бригаде» треба?
– Представь себе, во внутреннем дворе этого международного центра с его небоскребами случайно залили железобетонный куб по три метра каждая сторона… Это сколько же кубов монолита получается?
– Ну, 27 кубиков. И что?
– Теперь выяснилось, что он там не нужен был. Какой-то старый чертеж прорабу случайно подсунули. Надо оперативно раздолбать этот монумент отбойными молотками под нуль. Чтобы и воспоминаний о нем не осталось. Работа физически напряженная, как сам понимаешь. Стахановская, можно сказать. Нужна грубая, но выносливая физическая сила. С каждым отколотым от монолита куском щебня тебе в карман будет копейка залетать! Возьмешься?
– Да как-то противно не строить, а разрушать. Другие потом скажут, показывая своим детям этот дворец: «Вот, смотрите, в этом красивом здании есть и моя доля труда! Я, можно сказать, строил в этом городе для вас коммунизм! Ваше светлое будущее». А мне что сказать по этому поводу детям? «Я тут работал не покладая рук, обрастая мозолями, месяц, но от плодов моего труда осталась только призрачная пустота…» В конце концов, какой дурак так строит, что потом сразу ломать кубометрами приходится?
– Я почем знаю?! Что-то проектанты напутали. Все в спешке делается, стройка грандиозная по всему городу идет, не успели, видимо, кое-какие детали продумать или проконтролировать. Так что, записывать тебя в эту спецбригаду? Учти, я тебе, можно сказать, по блату это предлагаю. В награду за призовое место на прошлой зимней лыжной гонке. Тут на эту денежную работенку знаешь сколько желающих отыщется. Только свистни – кастинг можно устраивать!
– Записывай! Деньги край нужны! Только потом эта трясучка да дыхание цементной пылью на здоровье отольются какой-нибудь хронической заразой. Знаю, что дурость теперь делаю, да деньги очень кстати были бы.
– Ок! Только не говори никому! Мне поручили, все конфиденциально! Я за все отвечаю и потому сам отберу надежных ребят с бицепсами!
– Эй, комсомол! А сам-то ты в эту бригаду записался?
– Шутишь! А кто вам наряды всем оформит, кто их закроет, кто ежедневно отчеты в райком отвезет?! Там знаешь какой вал оргработы предстоит! Буду вертеться с утра до вечера как угорь на сковородке! А так неплохо, конечно, было бы тоже денежку заработать!
– Ну, давай, вертись! Змеиный хвост…
«…И снова мы с тобою в Звенигород идем» (та же осень)
Трава умыта ливнем, и дышится легко,
И нет уже в помине тяжелых облаков,
И радуга дугою повисла над дождем,
И снова мы с тобою в Звенигород идем…
(Дмитрий Сухарев)
Большую часть своей осознанной жизни Шусараша прожил в небольшом военном городке в нескольких километрах от древнего Звенигорода и совсем уж близко к известному Саввино-Сторожевскому монастырю. Военная инженерная часть, в которой служил его отец начальником штаба, располагалась на крутом обрывистом берегу реки Москвы, в сосновом бору. От их одноэтажного финского домика с высоты холма, изрезанного неглубокими ямами осыпавшихся окопов 41-го года, открывался очаровательный вид на реку и на долину ее правого низкого берега. Этот вид-пейзаж был не менее живописным и гармоничным, чем такие же удивительные красоты на Москву-реку с недалеко расположенной элитной подмосковной писательской Николиной Горы.
Рядом, вне непосредственно территории военного городка, располагалось еще несколько таких же деревянных финских домиков, где жили семьи командного состава части. Дома были не новые, привезенные из Финляндии в СССР после Великой Отечественной войны. Кроме уступки части своей территории, финны выплатили нашей стране по репарации 300 миллионов долларов в виде поставок товаров, в том числе комплектами сборно-щитовых домов. В одном из них жила Женя, одноклассница Саши, дочь военврача с трудновыговариваемой еврейской фамилией.
В детстве они с ней после занятий в поселковой школе проводили много времени вместе, других детей их возраста в военном городке не было. Вместе с Женей Саня облазил в округе все достопримечательности: стрельбище, полосы препятствий. Прячась от сторожа соседнего с ними пионерского лагеря «Комета», дети исследовали вдоль и поперек и его территорию. Тесное общение не прекращалось, особенно в летние месяцы каникул, когда местная детвора практически не вылезала с речного пляжа, расположенного на небольшом песчаном островке посередине реки Москвы. Рядом проплывали байдарочники, кто-то руками ловил в тогда еще прозрачной воде мелкую рыбешку, иногда шел дождик, но их это не отвлекало – небольшой кружок малышни, куда входили местные деревенские с редкими представителями из военного городка, соревновался в красноречии. Дети наперебой рассказывали друг другу разные вычитанные из книг истории или пересказывали раньше других увиденные художественные фильмы.
Два раза в неделю в военной части для солдат крутили кино (к сожалению, обычно старое, черно-белое и все больше патриотическое, про войну). На просмотры этих фильмов правдами-неправдами собиралась детвора, включая, конечно, и деревенских. Подходящих для них дырок в заборе военного городка было предостаточно. Дежурным нарядам по части, конечно, велено было гнать малолеток, но тогда сами солдаты при осмотре зала патрульными прятали ребятишек между собой, закрывая их телами. В результате хождение в кино на закрытый военный объект приобретало дополнительный героический шарм. Другим вариантом кинозала в летние смены был пионерлагерь. Туда чужих тоже априори не пускали, но, во-первых, со стороны обрыва здесь даже и забора не было, а во-вторых, дети есть дети: кто их там разберет, которые «зайцы», а которые свои, по путевке.
С пятого класса Сашу и Женю родители перевели учиться в город, но в разные школы, с разным уклоном. Обычно солдат, водитель отца, утром отвозил их в Звенигород на служебном газике, а вот обратно каждый из ребят добирался самостоятельно – чаще всего на проходящем по расписанию с железнодорожной станции автобусе. В хорошую сухую погоду Сашка надевал кеды и весь путь до дома бежал кросс. Зимой, когда выпадал снег и замерзала река, он брал с собой утром в школу лыжи и после занятий шел до дома уже на них. В это время на льду Москвы-реки в направлении вверх по течению от Звенигорода до того самого пляжного островка можно было увидеть хорошо накатанную лыжню длиной в семь километров. Парень при хорошей погоде и скольжении преодолевал ее за неполные полчаса.
После перевода в городскую школу Шусараша начал выступать за нее на районных соревнованиях по лыжам и даже по биатлону, к концу учебы заработал соответственно первый и второй взрослые разряды по этим видам спорта.
В итоге дружба с Женей понемногу угасала. У каждого теперь в городе были свои дела, свой круг друзей и знакомств. К тому же Женька сюрпризом к своим шестнадцати годам превратилась в писаную красавицу, за которой бегали не только пацаны из ее школы, но и взрослые городские парни. Шусараша при встречах с ней стал ощущать себя неловко, каким-то убогим по сравнению с этой нежданно вспыхнувшей великолепной звездой, хоть еще и девушкой-подростком.
Надо признаться, что Александр в детстве и особенно в юности имел страшные комплексы по поводу своего внешнего вида, что, естественно, влияло на его низкую самооценку и патологические стеснительность и нерешительность. Во-первых, он был толстым по причине усиленной неправильной кормежки его мамой сплошными углеводами (оттого в начальной школе именовался одноклассникам не иначе как жиртрестом). Во-вторых, на лице у него имелись две далеко не симпатичные бородавки, которые с возрастом становились все более крупными и заметными.
Если проблему с излишним весом он к отрочеству при поддержке отца полностью решил, максимально отдавшись спорту и силой собственной воли жестко ограничив свою домашнюю жрачку (отказавшись от всего ранее любимого: сладкого, мучного, жирного, вкусного), то подаренные ему природой элементы антикрасоты доводили его до полного самобичевания, особенно когда речь заходила о контактах с прекрасным полом. Любая случайная девичья гримаса или отвод глаз при общении признавались им как намеренная насмешка и невольно унижали его и так балансирующее на грани чувство собственного достоинства.
Как-то, листая журнал со статьей на историческую тему, он увидел, что его бородавки полностью копируют аналогичные «прелести» на лице Лжедмитрия I (на лбу и на щеке около носа, как того и изобразил древний художник). Дело это было на каникулах у деда в Селищах, куда дядя Вася часто из города приносил выписываемые им многочисленные журналы и газеты. Александр зачем-то показал ту журнальную картинку деду Тише: «Смотри, как мы с этим гадом похожи своим уродством…» Дед прищурился и улыбнулся: «Это тебе знак пришел от пращура твоего. Такое бывает, раз в три-четыре поколения эти бородавки в роду твоем у кого-нибудь да всплывают. Причем в одних и тех же местах – ровно как у тебя и на этом портрете изображено. У бабушкиного отца такие же были, это я хорошо помню. Надо же! Какие вам с ним от паразита Гришки Отрепьева гены перекинулись. Не тушуйся! Пока подрастешь, медицина наша советская что-нибудь придумает!»
Придумала, конечно… Но до своего двадцатилетия Шусараша так и проходил с теми уродливыми бородавками на лице…
А про Лжедмитрия дед не абы как помянул. Предание на то в их роду было. Да еще про кинжал «Годун», что от самой Ксении Годуновой их предку достался, Тихомир тоже когда-то рассказывал. Однако мало какие сказки дедушка малым внукам придумает, доказательств-то никаких на сей счет не было. Даже кинжал тот легендарный, якобы перешедший к ним от бабушки, он давно потерял…
- * * *
И вот пришли четырехдневные ноябрьские праздники. В такие «каникулы» третьекурсник Александр просто не имел морального права не навестить родителей под Звенигородом, потому как на выходные он к ним уже практически перестал наведываться. С сентября стало известно, что отца-подполковника с нового года переведут на преподавательскую работу в Москву, в военную академию. Он слышал, что уже в какой-то девятиэтажной панельной новостройке на юго-западе Москвы для них достраивается квартира. Родители ее уже посмотрели и остались вполне довольны. Ведь это наконец будет их первая собственная, а не служебная квартира.
В подмосковном военном гарнизоне в летний период обычно проводились выездные сборы для слушателей ряда специальностей военно-инженерной академии. Ответственным за учебную программу от принимающей части на этих сборах традиционно назначали Александра Пушменкова, Сашкиного отца. Он же проводил для слушателей и большинство теоретических и практических занятий. Видимо, увлекся, со временем написал сначала брошюрку, а потом и целый учебник. Рукопись учебника рассматривали на научном совете академии и нашли там немало неординарных решений, имеющих научную и практическую ценность. В результате через два года отец успешно защитил диссертацию, стал кандидатом технических наук. В академии его хорошо знали и, как только появилась преподавательская вакансия, посодействовали переводу из Звенигорода в столичную Москву.
Та поездка на малую родину могла вполне стать последней для Сашки, ведь в декабре и ожидался тот самый перевод и получение родителями московской прописки. Предполагалось, что Новый год семья встретит уже москвичами. Их младшего сына это не вполне радовало. Ведь тогда со сменой иногородней прописки для него полагалось автоматическое выселение из институтской общаги. Хотя он уже знал главное правило жизни в СССР: не высовывайся, пока там бюрократия, суд да дело – глядишь, и учеба в вузе закончится. На всякий случай тайну своего «омосквичевания» он даже не доверил никому из своих друзей-сокурсников – будут невольно трепаться, и слухи дойдут до деканата.
Укоренившаяся за два года привычка к самостоятельной жизни, без надзора и подотчетности со стороны родителей, его более чем устраивала, возвращаться под их домашнее крылышко не было никакого желания. Другое дело, соскучившись, спонтанно зайти к маме на пироги или к папе, чтобы поговорить по душам, посоветоваться, а то и похвастаться новыми успехами. Еще в их семье был старший брат, но он уже давно после учебы в МГУ первым осел в Москве, женился, и квартирный вопрос для него был не актуален.
Случайно в тот день в электричке Александр встретился с Женей. Она тоже училась в Москве, на медфаке, и тоже ожидаемо ехала на все праздничные дни домой к родителям. Оба обрадовались встрече, сидячих мест в вагоне уже не было, и весь путь они простояли в тамбуре, рассказывая друг другу о своей новой студенческой жизни. Девушка еще больше похорошела, улыбка ее была обворожительной, глаза излучали что-то невообразимое, не дающее парням оторвать свой взгляд от них, а ямочки на щеках просто завораживали своим совершенством и таинственностью.
Александр условно делил всех девушек и молодых женщин на пять категорий: 5 – это суперкрасавицы, штучный в стране и в мире товар, 4 – красавицы, полные совершенства, 3 – просто симпатичные и полусимпатичные, 2 – совсем несимпатичные и 1 – редкие уродины. По его представлениям, 90% женского пола устойчиво попадали в третью категорию. Еще по 5% попадали в категории 4 и 2. Представители же крайних категорий 5 и 1 были очень редки и составляли, вероятно, доли процента. Встретить их в жизни была большая удача или огорчение. Но его Женя, безусловно, была из высшей, пятой категории.
Другую такую красавицу он видел воочию только один раз в жизни. Это была его тетя Зося, жена родного деревенского дяди Григория по отцовской линии. По преданию прапрапра… вепсская бабка Божена родила своих дочек от польского шляхтича Казимира, оттого в том роду веками было принято давать рождающимся девочкам исключительно польские имена (как ни старались эту традицию переиначить местные православные попы). Дочки – и те первые от Божены, и все последующие в казимировом роду – каким-то чудесным образом были писаными красавицами (грешили на знахарку Божену, которую молва считала за отъявленную ведьму и колдунью).
Но в XX веке источник этих красоток, кажется, иссяк – те из женщин данного рода-племени, кто оставался жить в деревенской глуши Вологодчины, постепенно повымерли, не оставив прямого потомства, или просто переродились в другие фамилии. Оставалась только одна, уже не молодая женщина, будто бы прямой потомок Божены, жившая в деревне Заречье. В первый, начальный год Отечественной войны у нее наконец родилась долгожданная «полька», прозванная матерью Зосей. Отец же так дочку и не увидел, погиб на войне.
Когда та девушка подросла, она полностью своей яркой девственной красотой подтвердила древнюю легенду. Отбою от местных молодцов у нее не было. Парни и уже зрелые мужи дрались и натурально калечили друг друга за одно лишь право постоять подле нее, поговорить, а тем более чтобы пригласить на танец или на свиданку. Тут как раз из армии в середине 50-х демобилизовался сержант дядя Гриша. Парень он был хоть и низенького роста, но, что называется, жилистый, коренастый, прыткий, с сильными руками и железной волей. В армии получил специальности шофера и механика, отчего в колхозе его ждали с распростертыми руками. Видимо, поэтому среди большинства местных парней-молодняка он выгодно выделялся своей основательностью и мужественностью, а главное, решительностью. Однако на Зоську претендовали даже некоторые женатые мужики, поэтому «тендер» был там нешуточный.
Потом дядя признавался племянникам, что, прежде чем добился права гулять, а потом и жениться на красотке Зосе, бит был местной братией много и основательно. А что самое страшное, один несостоявшийся жених жестоко отомстил – выволок бревно на тропинку, по которой Григорий обычно ездил напрямки домой на своем мотоцикле (проданному ему колхозом как передовику производства). В вечернее время бревно то сыграло роковую роль: дядя как раз вез на мотоцикле из яслей колхозной усадьбы в специально оборудованной им люльке своего полуторагодовалого первенца. Ездил он лихо, но умело. Разумеется, впотьмах, да еще на повороте наскочил на то бревно, и оба седока естественным образом вылетели вон, да только малец со смертельным исходом, с переломом основания шеи.
Разумеется, милиция все списала на несчастный случай, обвинив в трагедии самого убитого горем отца: «Небось сам выпивший был!» Никто ни в чем не признался про то бревно, но как упомянул однажды Сашкин дед из Пожарово: «Судьба того негодяя была незавидной, с ним позже разобрались. Говорили, что тот спьяну ушел на болото и там сгинул…»
Поломанный мотоцикл ИЖ Александр потом видел в сарае. Дядя Гриша его ни восстанавливать, ни продавать на запчасти почему-то не хотел, так и лежал, пылился, ржавел. Однако более взрослые двоюродные Сашкины братья, сговорившись и раздобыв где-то пятьдесят рублей, купили в городе новую раму, сами заварили какие-то трещины на руле и в стойке да за один день втайне от дяди восстановили аппарат – поставили владельца перед фактом… Тот в результате разрешил парням все лето на нем кататься, но с условием, чтобы осенью мотоцикл в городе их родители продали и чтобы он потом больше его в глаза никогда не видел.
Впрочем, это отступление для понимания того, как женихам и мужьям красавиц из категории №5 и раньше, и теперь, видимо, несладко живется. Зависть есть зависть, а богатство хоть и сложно заполучить, но еще труднее сохранить… К тому же «сердце красавицы склонно к измене…» – видимо, что-то в этом роде и побудило через много лет от описываемых событий еще далеко не старого, хотя и хронически больного дядю Григория… повеситься.
Так вот, Шусараша, на время позабыв про свои бородавки, хотел было тогда в электричке предложить соседке Жене какое-нибудь свидание, прогулку, но тут же его внутренний голос решил, что это глупо: где он, и где она? Тем более у красавицы в городе была масса старых поклонников, и, видимо, все дни ее уже расписаны среди звенигородских. Но неожиданно Женька предложила сама: «Сань, а пошли завтра прогуляемся до монастыря. Так хочется еще с тобой поболтать, погулять по окрестностям, как раньше в детстве. Помнишь?»
Еще бы! У парня перехватило дыхание. Конечно, они завтра прогуляются. И в сам монастырь, и далее по долине речки Сторожки до источника с купелью на месте бывшего скита преподобного Саввы. Выпьют там друг у друга из ладошек обжигающей прохладой водицы, потом будут брызгать этой водицей друг на друга, смахивая капли с таких притягательных губ, а потом на них обоих что-то найдет… и они даже поцелуются.
Этот день 8 ноября был для Александра, наверное, одним из лучших в жизни! Накануне ночью выпал первый снег, и этот первый снег с небольшим морозцем совпали с его первым поцелуем в жизни, да еще не с кем-то там, а с самой красивой девушкой Москвы и Московской области…
На следующий день Женя ожидаемо поехала на встречу к друзьям в Звенигород. Об этом Саня узнал, когда в нетерпенье забежал к ней по-соседски утром домой, а с трудом узнавший его сильно похудевший папа-доктор только развел руками: «Опоздали вы, молодой человек, улетела пташка!» Как дурак, весь день и вечер парень просидел на холоде на качелях (делая вид, что зачитался книгой) недалече от ее домика. Шусараша наблюдал за подходами к ее дому, ожидая, что его мечта все же скоро вернется. Не вернулась…
Утром опять скрепя сердце он постучал к ним, и уже ее мама сообщила в расстройстве, что Женька накануне им звонила через коммутатор военной части (в их домиках была только местная телефонная связь) и сообщила, что сама останется ночевать в Звенигороде у подружки (что и в школьные годы нередко случалось), а сегодня у них там большая тусовка намечается, поэтому просила тоже не ждать. Да и вообще, возможно, через день на окончание праздников из города она сразу же поедет на учебу в Москву, не заезжая больше к родителям. Тем более что кто-то из круга знакомых готов был отвезти ее на своей машине.
В день отъезда Сашка еще раз с тяжелым сердцем заглянул в этот докторский дом, оставил на всякий случай для Жени записку со своими координатами в Москве. Больше они никогда не виделись… Отец как-то через год вскользь упомянул, что Женькин папа умер в звенигородской больнице от рака, после чего мать с дочерью, кажется, оформляли отъезд на ПМЖ в Израиль.
- * * *
Со временем Александр, уже избавившись от своего лицевого уродства (даже заметных следов на местах бывших бородавок почти не осталось) и как-то органично превратившись во вполне приятного, спортивно накачанного и интеллектуально развитого парня (как он сам говорил, став из гадкого утенка вполне приличным гусем), раздумывая над своими прошлыми встречами с симпатизировавшими и совсем даже не симпатизировавшими ему по жизни женщинами, доработал теорию об условных двух половинках.
Мужчина и женщина могут быть по-настоящему счастливы, если их встречные стороны натуры так называемых «половинок яблок» будут по рельефу близки между собой и легко лягут друг в друга по типу «выступы во впадины». Это прописная истина, о которых философы рассуждали еще в древние века. Тут, конечно, речь более о бестелесных неровностях идет, но и телесным своя роль полагается. Получается, что по жизни в этом деле проще всего людям без претензий и самомнений – их условно «плоские» половинки легко соединяются между собой и прилипают практически навеки.
Другое дело, если у контактирующих людей сложный импульсно-вспыльчивый характер, завышенная самооценка, высокая требовательность к партнеру – подобрать себе под эти «горы и ущелья» оптимальную пару крайне сложно, чаще всего приходится кому-то «шлифовать» определенные части своих поверхностей, а это всегда непросто, болезненно для внутреннего эго, требует определенной доли самопожертвования и самоотдачи.
К примеру, у бывшего идеала Александра Зои был очень сложный «рельеф» на открытой ему стороне половинки, и, что самое ужасное, рельеф этот постоянно мог видоизменяться, меандрировал… Стоило парню подстроиться под один ее выпирающий сверх меры «зубик», как рядом мог вырасти другой, а то и целых два новых. Свой же рельеф Сашка считал хоть и не плоским, но всего лишь с небольшими (хотя и принципиальными, как он полагал, а потому неприкосновенными) холмиками. В этой связи подстроиться (или сжиться) с ним нормальной среднестатистической девушке, казалось, несложно – было бы желание. Впрочем, это он так считал. А у его девушек мог быть иной взгляд на эти внутренние самооценки и неприкосновенные бронезащитные холмики.
Еще Александр полагал, что до начала процессов подшлифовки и притирки надо хорошо узнать встреченного (часто случайно) человека, понять его внутреннюю суть, найти его краеугольные камни. В его жизни была одна «странная» девушка, душа которой так и не открылась за полгода тесного, но какого-то невнятного знакомства. Потом ее подруга спрашивала парня: «Куда ты подевался, мы тебя потеряли, почему не звонишь своей старой знакомой?» – «Знаешь, капитулировал. Не могу взять в толк, кто она и что для нее в жизни главное. Характер вроде ее я понял, а вот как человека распознать – нет, не могу! Ядро так глубоко зарыто, что никакой сейсмикой не прозондировать. А может, и вообще нет никакого ядра?! Удивлениям после встреч с ней у меня не было предела! А без этой первой стадии знакомства идти куда-то дальше в личных отношениях – что по канату пойти без страховки и с повязкой на глазах…»
Был и другой, совсем противоположный случай. У той женщины на ее половинке изначально был прямо гигантский вырост – эдакий Эмпайр-стейт-билдинг, не меньше. Благодаря ему их общение долгое время проходило на очень большой дистанции – эдакий пинг-понг косвенных вопросов с еще более размытыми ответами. Подстраиваться под этот «небоскреб», прямо скажем, Сашке не имело никого смысла, да и возможностей тоже. И вот вдруг эта скала одномоментно рухнула, выпала, как молочный зуб у ребенка. Как только чудо свершилось, оказалось, что более тесное совпадение их двух половинок и вообразить сложно. Потом было два месяца счастливого проникновения друг в друга, очень яркого и короткого эмоционального подъема. Однако отношения те не продлились долго – женщина была много старше Александра, с большим жизненным опытом и, как выяснилось, с высокой моральной требовательностью к себе. Вот она и не решилась на продолжение служебного романа. Объяснив молодому человеку свою позицию, она сама разорвала все зачатки их влюбленности и исчезла, надолго покинув Москву. Самое удивительное, что она смогла тогда убедить парня в полной своей правоте, и он принял это ее решение как должное, как единственно верное, хотя это и стоило ему определенных шрамиков на сердце. Чего это стоило ей – даже подумать страшно…
Новогодние кадрили
Александр родился в год, когда минуло только 15 лет после окончания Великой Отечественной войны. Маленьким он еще застал и помнил безногих инвалидов-попрошаек, разъезжающих по улицам городов на дощечках с подшипниками, и угрюмых людей, блуждающих там же в своих серых одеяниях – в выгоревших гимнастерках и шинелях военного образца. Запомнились разговоры взрослых, особенно офицеров, сослуживцев отца, после третьей рюмки сводившиеся к тому, как и где они воевали, на каких фронтах получили ранения, какие герои были те парни, что не вернулись вместе с ними домой: «Война забрала лучших, элиту нашего поколения, мы лишь их тень…»
Женщины же больше вспоминали о погибших родственниках, о голоде-холоде, о минутах отчаяния, о трудностях и лишениях в те страшные для народа годы, о том, как поднимали и теряли своих детей.
Все они, эти взрослые, дружно ратовали за то, что наступившие 60-е, а за ними и 70-е брежневские годы – лучшие их годы, период настоящего счастья в жизни околовоенного поколения. Они еще не старые, не больные, дети встали на ноги, выучились, достигнуто какое-какое семейное благополучие, решился или решается жилищный вопрос, на праздничном столе пусть и неширокий, но ассортимент блюд, о которых в войну никто и не мечтал: баночная ветчина, черная икра, крабы, конфеты, торты. Конечно, цены кусаются, но ведь праздник!
Конечно, они всегда так или иначе обсуждали на домашних посиделках проблемы с дефицитом товаров, говорили о том, через кого бы можно достать билеты на поезд или нужные лекарства, как починить стиральную машину или телевизор. Но все равно ребенком Шусараша осознавал, что его взрослые искренне довольны той своей послевоенной жизнью, не зря же в школе говорили: «Мы живем в самой лучшей в мире стране, в самом правильном обществе социальных благ! Все должны быть в ней счастливы (а дети – особенно!)»
На самом деле те взрослые всего лишь никогда не забывали свое военное голодное детство-юность, ужасную цену потерь, которую вместе с Родиной заплатили за свое скромное благополучие и стабильность. Когда Александр с братом насмешливо тыкали перед родителями пальцем в телевизор, где по всем программам одновременно показывали путающегося в своей речи генерального секретаря КПСС, те лишь отмахивались: «Зато он за мир! Он миротворец! Главное, чтобы не было войны!»
Несколько диссонансом на этом фоне смотрелась позиция деревенского деда Тихомира. Он искренне считал, что мира в понимании обывателя ни с Западом, ни с Китаем нет и быть не может. При этом совершенно ни при чем идеология или другие социально-политические противоречия, разногласия и противостояния между их системами. Более того, он считал, что единственный правильный способ для его страны добиться на будущее стабильности и избежать военных конфликтов и междоусобиц – это всегда быть сильнее своих «заклятых соседей» (неважно, враги они сейчас или же наивернейшие друзья).
Еще дед Тиша говорил, что нельзя никогда и никому показывать слабость власти, нельзя уступать в принципиальных вопросах, особо в спорах о границах или о сферах государственного влияния, нельзя сдавать когда-то завоеванные позиции, бросать своих попутчиков по СЭВу и Варшавскому договору, если только они сами не нарушили клятву верности. А потому власть в СССР обязана была защищать свои ранее завоеванные позиции. Что Венгрии в 56-м, что Чехословакии в 68-м, что во Вьетнаме и Афганистане. Пережив столетний рубеж и дожив в здравом уме до развала Восточного социалистического блока, а потом и самого СССР, дожив до пика краха советской экономики и обрушения денежной системы, дожив до банкротства колхозов и обнищания сельских жителей, дед Тихомир и умер в конце 1992 года не от болезней или старости, а оттого, что не смог дальше видеть эти Содом и Гоморру…
Став в 1913 году в Российской империи солдатом пограничной стражи, дед даже к своему вековому юбилею им всю жизнь и оставался: «Границы – это неприкосновенно, это даже не кожа, это хребет нашей Родины! Без кожи страна просто уродлива, а вот без хребта – амеба, не способная к выживанию среди хищных тварей. А все чужие государства для нас только хищные твари, не надо строить иллюзий! Я вот всегда хожу по поселку с палкой, потому как в любой момент у нас тут может вылезти гадюка – государству тоже надо быть всегда начеку и иметь под рукой то, чем можно откинуть змеюку!»
Когда внук спросил у него об отношении к уже опальному после ХХ и ХХII съездов партии И. В. Сталину: «Мол, хоть и тиран, но говорят, что если бы не он, то СССР не победил бы в той страшной войне?!» – дед Тихомир резко парировал:
– Если бы не маниакальная и кровожадная сущность этого усатого людоеда, может быть, и войны бы такой разорительной не случилось. Не он победил, а мы – вопреки его самодурству, заносчивости и близорукости! Какие страшные жертвы из-за него страна понесла. Сердце кровью обливается, как вспомнишь. За что его благодарить? За то, что часть своих же прежних ошибок сумел поправить? После двадцать второго июня начал генералам и специалистам больше доверять? Развалил ведь, изверг, к сорок первому году своими репрессиями и армию, и промышленность, только что с трудом поднятую за счет гнета насильно загнанного в крепостничество крестьянства. Сколько преданных военных, инженеров и конструкторов, просто хороших людей от его подозрительности зазря погубили! Окружил себя лизоблюдами и недоучками, потому мы и драпали от германца два года. Буденный, Ворошилов, Тимошенко, Кулик с ними – маршалы драпанья! А ведь вооружения у СССР перед войной было поболее, чем у фрицев. Мне твой старший брат Дмитрий присылал сводки, уж и не знаю, в какой библиотеке он их сыскал: самолетов – двадцать две тысячи против немецких шести тысяч, танков у нас было двадцать три тысячи против их шести тысяч, пушек – сто шестнадцать тысяч против их восьми тысяч! Только побросали наши все это в первые же дни войны… Гитлеровцы под Барановичами более четырехсот новых советских гаубиц захватили в заводской смазке, более трехсот наших лучших танков Т-34 и КВ у фашистов против нас же потом воевало. Да разве только это… А как было не захватить? Запугали же командиров, чтобы те ни одного моста после начала вторжения немцев не посмели взорвать. Мол, признают эти действия вредительством, которое не позволит потом Красной Армии провести контрнаступление! Если бы все по уму было тогда в стране, то Гитлер и сам на нас не попер! Побоялся бы! Тот ведь, ирод, как рассуждал: «Сталин командный состав уничтожил, на границе старые оборонные укрепрайоны расформировал, а новые не построил, промышленность беззубой стала, потому как лучшие инженеры и конструкторы на лесоповал отправлены, миллионы честных людей безосновательными репрессиями против себя настроил – нельзя такой шанс упускать, надо брать СССР, пока тот как гусь на тарелочке»! Да и в чем-то Адольф был прав. Если бы Муссолини ему тогда в марте-апреле не подпортил своей военной авантюрой в Греции, что задержало нападение фашистов на нас на несколько недель, то еще неизвестно, где бы враг был к моменту, когда пришли морозы под Москвой. Прошли мы, прямо скажем, по лезвию бритвы, хотя потенциально были на голову сильней своих врагов. Но, на наше счастье, Россия велика безмерно и оттого могуча! Все равно мы бы этих ворогов выбили, затравили зверя тотальной партизанской войной, заморозили бы на своих необъятных просторах! Только сколько же за ошибки вождя миллионов людей по-глупому погибло? Теперь вот называют цифру в двадцать семь миллионов, да из них все больше гражданские, военных только треть. Какие унижения и позор пришлось вытерпеть, пока наконец мы победу не выцарапали. Вы, молодые, этого не поймете уже. Это надо все на собственной шкуре испытать, просто так из книжек и из кино не понять. Вам, молодым, вообще легко в любую сторону мозги промыть, а вот нам, мужикам да старикам, многое пережившим, это не в жизнь! А ты говоришь, что благодаря ему – да вопреки ему! Назло ему, если хочешь знать, победу ту советский народ добыл! Ну и, конечно, помощь стране от союзников была большая. Лично Рузвельту за то наш поклон. Без его поставок по ленд-лизу оружия, техники, стратегических материалов, бензина авиационного, продуктов много дальше бы отступать Красной Армии пришлось! Одних паровозов мы тогда две тысячи из Америки получили, да грузовиков четыреста тысяч, я уж про танки, орудия, самолеты, боеприпасы и прочее молчу. Была бы в свое время такая иностранная помощь у Белой Армии – ни в жизнь большевики власть не удержали бы… Конечно, Сталин многое потом сделал для победы. С этим не поспоришь. Все знают о его вкладе, мемуаров про то написано немало. Он реально работал круглые сутки, впрочем, как и все мы. Да не в пример нынешним избалованным руководителям аскетичную жизнь вел. Но только и вина за ним немалая, что все тогда так тяжело далось народу…
– Дед, а твое поколение вроде горой теперь за Сталина стоит, ностальгируют по его твердой руке.
– Боялись его, вот теперь и обожествляют. Страх, он и с годами никуда не уходит, в глубине мозга прячется, в снах часто снится. Те, которые вождя не боялись да спорили с ним, – все давно в могилах. Неизвестно только, где те могилы… Главная особенность той нашей жизни заключалась в том, что при нем люди работали на износ. Вынуждены были так работать. Сам усатый круглые сутки работал – вот и других заставлял. Бесчеловечными способами заставлял, но цели своей в итоге добивался. Сейчас так уже никто, конечно, не работает. Изображают только, что работают, что стараются, но больше филонят. Потому как фактического спроса за результат нет. Раньше план не дал, кто-то из твоих подчиненных напортачил – а тебе тюрьма! Нас в районе с десяток было директоров маслозаводов. Все, кроме меня, в итоге сидели. В передовики, дураки, рвались, вот им план после рекордов и поднимали сверх меры. Я свой производственный резерв всегда при себе держал, больше ста одного процента в сводки не давал. Поэтому, когда неожиданно план нам поднимали, мне было чем ответить.
– Деда Тиша, а почему ты считаешь про потери, что их больше двадцати миллионов было? В титрах фильма «Освобождение» двадцать указано было!
– Знаешь, у нас официальным цифрам не стоит доверять. При Сталине и даже еще при Хрущеве до тысяча девятьсот шестьдесят пятого года велено было считать только семь миллионов советских потерь, хотя все понимали, что это явная ложь. Я интересовался у младшего сына, у твоего дяди Кости. Он в Москве в Высшей партийной школе философию да историю преподает. Так вот, с его слов – а кому не знать, как не ему? – не менее двадцати семи миллионов в СССР в ту войну погибло, хотя есть оценки и повыше. Это смотря какие методики применять. Данные об этом наши ученые и зарубежные специалисты многократно публиковали. Только простым людям читать про такое не положено. Причем это прямые безвозвратные потери, а я уж не говорю про то, что в нашем районе почти все, кто с той войны раненым пришел, прожили редко больше десяти-двадцати лет. Если до полтинника те окопники доживали, то и слава богу. Редко кому так везло. Вот дядька твой, артиллерист, Василий – редкое исключение. Уж, казалось, так сильно его поранило, что после госпиталя враз комиссовали. А ведь жив и до сих пор работает в полную силу! Видать, мои гены помогают. Да еще такой же зять наш, твой дядя-тезка. Тому, видать, моя дочь Лидия своей заботой и любовью жизнь продлевает. А вот других моих зятьев-ветеранов нет уже в живых. Пусть им всем земля будет пухом!
- * * *
Традиция людей, близких и не очень близких между собой, встречаться в праздники и отмечать их совместными посиделками, верно, идет с каменного века. А как же иначе! После напряженной работы (добычи мамонта) или учебы так нужна кратковременная возможность расслабиться. А значит, сообща выпить, вкусно поесть, потанцевать под приятную музыку с противоположным полом, пообщаться с другими людьми и увидеть, что ты им небезразличен, а они готовы тебя выслушать и чаще всего поддержать твое личное мнение или погоревать за твои неприятности… Вечеринка! Дискотека! Междусобойчик! Пати! Какие это блаженные слова для молодежи 80-х, особенно для особей, заполнявших соты студенческих общаг, – ребят и девчат, хоть и на время, но оторванных от своих семей, родителей, школьных друзей.
Александру часто вспоминались встречи Нового года в течение трех его лет жизни в общежитии на юго-западе. На четвертом курсе его все же как москвича по основной прописке вытурили оттуда с вынесением выговора по комсомольской линии, который тут же аннулировался в связи с занятием им очередного призового места на межвузовской городской спартакиаде. Вообще, спорт за время учебы в «керосинке» часто выручал и защищал Шусарашу от справедливо (а часто и несправедливо!) напрашивавшихся дисциплинарных взысканий. «Справедливо» – это, конечно, за двухнедельные прогулы в институте во время майских и ноябрьских походов.
Нередко ему в комитете комсомола, а то и в деканате выносили очередное порицание или даже выговор «с занесением», но получалось, что одновременно тут же вручали и грамоты с благодарностями за высокие спортивные результаты в различных командах вуза. Не сказать, что это были такие уж большие достижения, но зато по многим видам спорта и достаточно стабильные. Вообще, Сашка и в институт был принят изначально с полупроходным баллом благодаря своему первому разряду по лыжам – физкультурная кафедра на этого кандидата в студенты еще при зачислении положила глаз, а он эту поддержку потом честно отработал за все пять лет учебы.
- * * *
Первый в вузе Новый год (НГ) запомнился какой-то дилетантской суетой тогда еще не сильно сдружившихся группой сокурсников. В каком-то хаосе они решали, где и как будут отмечать праздник, звать ли девчонок из их неблизкого по локации женского общежития и кто будет это делать. Словно на игре «Что, где, когда?» обсуждали выходы на точки, где за сутки до НГ можно купить приличной еды. С водкой было проще: входной билет для всех на праздник – поллитровка! С дам можно будет взять вином…
В итоге справили тот НГ неплохо, каждый из присутствующих как-то сумел проявить себя. Один парень (кстати, отчисленный после той сессии) за неимением валюты-пойла принес пачку зарубежных порнографических журналов, которые девушки смотреть категорически отказывались, но после того, как все парни упились и рассыпались спать, все же проштудировали. Шусараша тогда в первый и последний раз в жизни напился до чертиков, утром его рвало и тошнило – хорошо еще, что в его блоке общежития никого больше не было и унитаз был в полном распоряжении.
Наступило первое января, третьего числа предстоял сложный экзамен по химии. Голова болела, страницы конспектов были так тяжелы, что не хватало силы их перевернуть. В полдень Сашка пошел опять в тот блок, где ночью пили. Парни, уложив девчонок по ближайшим спальным местам, пытались отыскать и ликвидировать остатки пойла. Их предложение присоединиться он отверг. При одном упоминании о водке его начинало мутить и тошнить. Про предстоящий экзамен никто не вспоминал – наоборот, Тарасик, у которого в Москве жил родной дядька, доктор физмат наук (дома у которого он часто зависал на несколько ночей), проснувшись и убедившись, что кругом сплошной сушняк, пригласил всех присутствовавших с собой в гости к дядьке «…для продолжения банкета».
После двух сказанных одинаковых слов: «Удобно?» – «Удобно!» – все разом засобирались, включая и часть протрезвевших девчонок. С собой в качестве подарка к столу у дядьки имелось лишь три или четыре так и не начатых вчера тортика. У Александра мелькнула мысль все же не ехать с ними, а остаться и подготовиться к экзамену, но мысль эта как-то быстро заткнулась. Поэтому он, поддаваясь стадному чувству, пошел со всеми одеваться. Единственное, что Шусараша пообещал сам себе строго: «Вот посижу немного, пообщаюсь с академиком, но ни капли в рот! Вечером по-любому вернусь в общагу готовиться, на ночь там с ними не останусь…»
Дядька жил в громадной квартире в сталинском доме на проспекте Мира, которую получил вместе с какой-то то ли государственной, то ли ленинской премией. Его племяш Тарас нашел родственника в одной из комнат спящим и бесцеремонно растолкал. Узнав, что к нему нагрянули гости (которых он, конечно, приглашал, но, видимо, забыл…), хозяин, пошатываясь, вышел встретить народ. То, что это будет неполных двадцать человек, он явно не ожидал, но никак не показал своего удивления. Поцеловав галантно ручки девушкам, профессор изрек долгожданный приговор: «Пошли! Меня можно звать Павликом. Коньяк, к сожалению, закончился, но есть канистра горилки от ридной неньки Украины!»
Дальше опять щедро разливали, пили, изгалялись в тостах и комплиментах присутствующим (можно сказать, особо стойким) дамам. Через некоторое время из разных комнат квартиры выползло еще человека три, надо понимать, то ли домочадцев, то ли новогодних дядькиных гостей. Вообще, Хохол ранее упомянул, что родственные и любовные связи его любимого московского дяди для него самого большая загадка. Есть масса женщин, считающих его своим мужем, и еще больше отпрысков, называющих дядьку словом «папа»3.
К счастью для Сашки, вид и запах алкоголя вызывали у него по-прежнему то самое утрешнее рвотное чувство, поэтому он деликатно отсел подальше и изображал свое участие в пьянке со стаканом некипяченой воды из-под крана. Через два часа на квартире профессора добили остатки съестных припасов, включая стратегический запас сала, который недавно доставили вместе с канистрой самогона благодарные украинские ученики. К вечеру и гости, и хозяева снова попадали в горизонтально-сидячие позы от передозировки порочного алкоголя. Шусараша наконец смог демаскироваться и засобирался домой в общагу готовиться к первому в его жизни экзамену в первой же сессии.
Неожиданно на эти его приготовления с надеванием куртки очнулась какая-то хозяйская личность женского пола лет тридцати. Почему-то она была еще не вполне «готова» и даже могла относительно трезво рассуждать. Девица, отыскав пачку сигарет и закурив, задала Александру ряд вопросов, включая не только то, кто он есть такой, но и звучащие немного странно: «А вы вообще все кто такие, какого лешего тут разлеглись? Какой еще племянник вас пригласил? Тарасик? А он что, племянник? Я думала, это очередной сын Пал Палыча! А сейчас ты куда идешь, к экзамену готовиться? Возьми меня с собой! Я страсть как люблю к экзаменам готовиться. Особенно по ночам…»
Как ни пытался Сашка от нее отмахнуться, но она буквально прилипла и в итоге сползла за ним до самого первого этажа по некоторому подобию шикарной мраморной лестницы, которую ему пришлось преодолевать, отступая и семеня задом. На улице во дворе было скользко, мела поземка. И все это на фоне морозца в минус пятнадцать градусов. К тому же дама была явно легко одета (в шубейку, но очень короткую, только ей до пупка), пришлось взять ее под руку и деликатно довести до метро. По дороге она непрерывно что-то невнятное говорила и сама же выразительно над этими словами ржала.
Парень был уверен, что теперь, немного протрезвев на холоде, она либо мотанет обратно к дому «Павлика», либо все же поедет восвояси к себе домой. Из разговоров складывалось определенное впечатление, что квартира Павлика для нее все же вполне чужая.
Войдя в метро и узнав, что Сашке надо на «Калужскую» по прямой линии, она обрадовалась, что им «опять по пути». Заплатив за даму пятачок на входе (почему-то у той не было с собой даже сумочки), Александр аккуратно довел ее до нужной платформы и усадил в практически пустой вагон рядом с собой. Сначала они немного беседовали на разные дебильные темы, после чего дама, так и не назвавшая ему свое имя, крепко уснула. Поезд, похоже, был в этот день последний. К тому же машинист объявил, что дальше станции «Новые Черемушки» он не поедет, поезд уйдет в депо.
«Вот черт! Влип я с этой дурой! Куда ее теперь девать? Поймать такси, чтобы домой отвезли, но только на какие шиши – этот Новый год меня полностью финансово обнулил. Не в общагу же ее вести, да там на проходной и не пропустят, самому в такое время кто дверь наружную открыл бы» – примерно так рассуждая, Шусараша от безысходности все-таки дотащил усталую даму до своего корпуса в общежитии. В конце концов, там перед охранником есть лавка для гостей, вот на нее он попутчицу и скинет, а сам без лифта даст деру по лестнице к себе на этаж. Пусть охранник с ней дальше морочится…
Однако входная дверь у них была открыта настежь, а чтобы ветер ее не захлопнул, кто-то преднамеренно придавил створку тяжелым ящиком. Вероятно, студенты, как и они вчера, еще продолжают бегать кучками наружу. Покурить, а больше покричать да взорвать какую-нибудь хлопушку. Охранника он сразу и не увидел. Тот был на положенном месте, но, видимо, тоже наклюкавшись, блуждал в сновидениях, упершись головой в настольную лампу. Дама же, как назло, снова пришла в себя, и надежды на то, что она молча завалится на скамейку, не оставалось. И тут Сашке пришла в голову подходящая идейка!
«Мы к тебе? Это хорошо! А что это за дом с такими длинными коридорами? Какая общага, ты что, не москвич? Фу ты какой! Лимита, как и я! Ну идем же, мне тут надо кой-куда…»
Блок Хохла был уже рядом, запустив даму к ним в туалет, Александр поискал на карнизе комнатной двери его трешки ключ. Тарасик как раз на днях жаловался, что один из его соседей потерял ключ от комнаты, поэтому ему пришлось свой оставить в укромном месте, так как еще и третий сосед уехал домой в Башкирию на весь НГ – в общем, у них там теперь такая договоренность. Ключ Шусараша легко нащупал, значит, сейчас в этой трешке вообще никого нет. Зажег свет, отыскал на столе карандаш и лист мятой бумаги – нужно было написать пояснительную записку. Немного подумав, написал ее от первого лица: «Я не посторонняя, а родственница Тараса. Не трогать меня и не будить!»
Удовлетворившись своим опусом, он быстро распахнул постель на кровати Хохла и после того, как дама зашла в комнату, велел ей лечь именно на эту койку. «Это твоя? Какая-то продавленная! Только я одна не лягу, мне нужна твоя крепкая мужская грудь. И кое-что еще!» – «Ладно, ты пока располагайся, а я сбегаю кое за чем и сразу же обратно!» – «Это ты, что ли, за презервативом? Правильно! СПИД везде! Надо с ним бороться! Только ты недолго, а то я тут еще усну…»
Выскочив как ошпаренный из этого «заминированного» блока, Александр, прыгая через три ступеньки по лестнице, перенесся на свой этаж, в свою конуру. Там уже спали оба его соседа глубоким сном. Закрыв на замок двери (и входную в блок, и собственную дверь от их комнаты), парень наконец немного успокоился. Фу ты, черт! Заимел на свою задницу приключение на ровном месте! Дай бог она там сейчас уснет до утра, а потом либо сама уйдет, либо соседи Хохла утром ее выпрут4.
Так как в эту ночь у Александра никак не получалось больше заснуть, он засел за конспекты и учебник. Следующий день тоже был крайне продуктивен по подготовке к экзамену, соседей не было, и никто, к счастью, не отвлекал. В положенный час Шусараша даже явился на консультацию в институт. Преподавательница, моложавая, но строгая женщина, очень удивилась, что один человек из группы все же явился к ней в это постпраздничное второе января проконсультироваться по предмету. Они поговорили по ряду вопросов ее предмета, и она быстро определила, какие темы парню еще надо подтянуть. Расстались довольные друг другом.
На следующий день многие ребята из его группы пропустили свой первый вузовский экзамен. Причину этой расхлябанности можно было понять. Александр же, только войдя в аудиторию и взяв наугад билет, был остановлен преподавательницей: «А, это как раз те самые вопросы, которые мы с вами вчера разобрали на консультации. Зачем же мне их снова слушать. Давайте зачетку!» Так в его зачетке, где пока были записи только по нескольким зачетам, появилась первая каллиграфическая синяя запись «отл.». Удивительно, но эта запись магическим образом повлияла на все последующие оценки за сессию. Другие преподаватели, видя, что в зачетке идут одна за другой пятерки, несколько поколебавшись, тоже вписывали туда свой «отл.». В итоге полученный на химии «оберег» невольно стал началом получения Александром практически одних отличных оценок на всех зимних экзаменационных сессиях и, соответственно, основанием для повышенной стипендии в весенних семестрах (вместо 55 целых 68 рублей!).
Летняя же сессия для него проходила совсем иначе: появляясь в институте после затяжных байдарочных майских походов и спортивных выездных соревнований за вуз, вчерашний отличник уже отставал ото всех сокурсников по сдаче зачетов и курсовых работ. А пока догонял, начинал заваливать и сами экзамены. Весь июнь у Шусараши проходил в нервном цейтноте: что-то пропущенное сдавал, что-то проваленное пересдавал, а тут еще и новые соревнования какие-нибудь некстати образовывались.
Типичная фраза тамошнего преподавателя: «Саша, милый мой, как же так? Я же помню, вы так хорошо учились в прошлом семестре. Что теперь с вами произошло? Вот перед вами отвечал студент, он очень слабый, однако он ходил ко мне на все лекции и семинары, задавал вопросы. Ему просто плохо дается сама учеба в плане ограниченных умственных способностей, но никак не лени, как у вас. Поэтому я все же поставил ему за экзамен „удовлетворительно“, а вам сейчас ставлю „неуд“, потому что хоть вы и заработали твердую тройку, но это будет для вас вдвойне унизительно, если я ее поставлю в ведомость. Короче, неявка, и жду вас через неделю, но подготовленным на твердые пять!»
- * * *
Следующий НГ (на втором курсе учебы) запомнился двумя моментами. Во-первых, и это главное, тем, что это уже была общая общага с девочками. Они как раз недавно въехали в корпуса достроенного студенческого городка и после определенных переселений расположились вместе с мальчиками на общем же этаже! Этот финт ректора с совместным заселением так никто и не понял. До того момента даже попасть парням в гости в женское общежитие считалось большой удачей. А тут взяли и женские-мужские блоки перемешали через раз…
Отношения между соседями разного пола в тот момент были еще непривычными и деликатными. Но некоторые девицы уже положили глаз на парней и начинали их приручать, например, подкармливая (кухня на этаже общая), а также стараясь максимально заполнить свободное время опекаемых хлопцев. Скоро эти отношения станут куда теснее и сексуальнее. Собственно, именно на этом НГ в их группе и было зафиксировано первое «спальное» уединение – Сашкиного приятеля из соседней двушки попросили переночевать где-нибудь… потому что его соседу-иностранцу «очень нужна была эта комната».
Во-вторых, этот предновогодний период, кажется, должен был запомниться всем жителям европейской части страны, включая и москвичей. Весь декабрь был достаточно морозным, но на конец месяца пришлись особенно злые морозы. В канун НГ пришел наиболее экстремальный холод. 30 декабря в Ленинграде была температура -34оС, в Москве -37оС, а в Подмосковье понижение температуры местами доходило до -45оС. Еще суровее было на Урале и в Коми АССР – до -50оС, и даже фиксировалось -58оС.
Синоптики утверждали, что такие капризы природы случаются не чаще чем раз в сто лет. К счастью, сразу после 1 января те морозы пошли на спад.
- * * *
Наконец, третий НГ Шусараше пришлось бегать между общагой и родительской квартирой (благо, что она оказалась недалече). Там у отца с матерью одновременно был и сам Новый год, и праздничное новоселье, а еще одновременно простава отца по случаю присвоения ему очередного звания.
Что любопытно, ни он сам, будучи начальником штаба отряда, ни командир военной части в Звенигороде по своим должностям никак не могли претендовать на полковничьи погоны, так как часть их по численности не дотягивала до полноценного полка. Но стоило родителю еще только на бумаге перевестись преподавателем в столичную академию, где уже не надо было лично отвечать за полтысячи подчиненных, – и вот пожалуйста, очередное повышение в звании! А начальники факультетов и некоторых кафедр вообще там носили генеральские звезды.
У Шусараши своей пассии в общаге не было, что на самом деле его мало беспокоило. Были две сокурсницы-татарки, которые за него между собой конкурировали, но они ему обе категорически не нравились, поэтому парень использовал тот факт, что каждая максимально отваживала свою соперницу. Помните, фраза актера Кирилла Лаврова в известном телефильме «Стакан воды»: «Если на маленькое государство претендует два крупных, то у маленького государства появляется шанс сохранить свою независимость…»
Говорят, что студенческие годы – самые лучшие в жизни человека. Шусараша с этим тезисом всегда был солидарен на все сто процентов, хотя, как поется в известной песне: «Времена не выбирают, в них живут и умирают…» Жаль только, что с возрастом у человека скорость жизни как бы ускоряется. Самая медленная жизнь, несомненно, в детстве, потом ее темп начинает повышаться в юности, ну а в зрелые годы скорость жизни как у ракеты, только парсеки мелькают… Поэтому, видимо, в конце жизни и вспоминаются нам чаще те далекие первые годы пробуждения, где было много событий в первый раз, где были живы родители и бабушки, которых мы не желали слушать, и где делались глупые обидные ошибки, которые мы тогда считали нашим принципом.
Александр свои годы учебы в вузе запомнил наподобие слоеного пирога, в котором чередовались его спортивные соревнования, ночные бдения перед экзаменами, вольная до безрассудства жизнь в общаге и на студенческих выездных практиках, треп на перекурах между парами в туалетах и на лестницах, любовные похождения и многоугольники первых отношений с женским полом, проснувшаяся вдруг однажды тяга к наукам и к будущей профессии. Параллельно же были еще и игры в строителей коммунизма, а еще то, чего якобы в СССР не было: секс, фарцовщики, проститутки, наркоманы и самиздат.
Философский вопрос про Малую землю
Казалось бы, каким боком мемуары ветерана о прошедшей войне пересекаются с фундаментальной наукой философией? Оказывается, в СССР это однозначно обозначало знак равенства, если только мемуары подписываются от имени генерального секретаря партии. В таком контексте несомненно: Брежнев = философия эпохи. В начале 1978-го такие мемуары народу были анонсированы властью. Вот только увесистый объем первого такого судьбоносного произведения «Малая земля» (потом еще в том же году выйдут воспоминания о целине и возрождении Молдавии) не позволял издать его сразу же многомиллионным тиражом в газете «Правда». Поэтому первая публикация появилась в журнале «Новый мир», а уже дальше брежневские воспоминания стали издаваться многомиллионными тиражами в виде отдельных книжек.
Всем, конечно, было понятно, что сам Леонид Ильич эти книжки не писал, ему некогда, но возможно, что хотя бы с его слов… Популярные и злые анекдоты на эту тему: «Брежнев спрашивает своего зама Суслова: «Ты мою «Малую землю» читал? Понравилось? Гениально, говоришь? Самому, что ли, почитать…«», или «Ветерана спрашивают в военкомате: «Где вы были в годы войны? Сражались на Малой земле или отсиживались в окопах Сталинграда?»»
Сами книжки были неплохие, достаточно талантливо кем-то написаны, потраченное на их читку время не было бездарно пропавшим. Заодно появился повод стареющему лидеру коммунизма вручить очередную медальку – Ленинскую премию по литературе. В стране на одного великого литератора стало больше. Но речь не о том, а именно о философии.
Когда в феврале в институте на первом семинаре по предмету «философия» преподаватель объявила, что к следующему занятию всем надо в обязательном порядке прочитать «Малую землю», студенты только пожали плечами: «Да где ж ее взять?» До библиотек книжки еще не дошли. Их сначала было издано крайне мало, и потому книжечки раздавались пока проверенным кадрам в крупных парторганизациях. А журнал «Новый мир» был по определению дефицитным.
Разумеется, что к следующему занятию никто это задание физически не смог выполнить. Вот только спросили первого Шусарашку, а он явно не проникся и вместо того, чтобы сказать (как потом все это делали) «искал, но не достал, буду искать дальше…», ответил наивным образом вопросом самой же философичке: «А при чем тут вообще «Малая земля», когда мы изучаем предмет «философия»?»
Надо было видеть округлившиеся глаза женщины и затем слышать гневные тирады преподавательницы. Сашке тут же досталось за «глумление над линией партии», причем не только от преподавательницы, но и тут же от комсомольского секретаря группы Толяна. Бывший сержант имел два лица. С одним лицом он был вполне свойским рубахой-парнем, в другом же изображал из себя эдакого Павку Корчагина. Однако потом в перестроечные годы это лицо не помешало ему создать закупочный кооператив, на котором удалось неплохо материально подняться и благодаря которому вся его семья в 90-е смогла перебраться на ПМЖ из Урюпинска на Кипр. В результате Шусараша много чего о себе узнал. Но как вывод, уходя от разной словесной шелухи, было то, что философичка заявила: «Теперь я тебя особо буду спрашивать на экзамене…»
Это были уже не ритуальные слова при «пляске с бубном», а прямая угроза: поставить в угол и прищемить хвост. Обычно отчисляли после сессии за три хвоста, но один хвост по ленинизму к ним тоже приравнивался…
Поразмыслив над своей непростительной глупостью и сложившейся ситуацией, пообещав товарищам на будущее укоротить свой язык, Шусараша решил, что к будущему сражению надо теперь капитально готовиться. Се ля ви!
В экзаменационных билетах напрямую или косвенно была заложена добрая сотня первоисточников (работы Ленина, Маркса-Энгельса и ряд других, не считая все решения последних съездов и пленумов КПСС). Чтобы их все прочитать, законспектировать и, что называется, въехать в размазанную лозунгами суть, требовалось корпеть весь семестр, забросив остальные предметы. Да и то не было никаких гарантий, что он правильно на экзамене объяснит ту или иную мысль классиков марксизма-ленинизма5.
Периодически на занятиях, даже после его уверенных ответов, преподавательница напоминала всем, что она хорошо помнит про выставленную черную метку. Какие-то конспекты по нужным первоисточникам обнаружились дома у отца (у него даже сверх нужного со времен учебы в академии остались тезисы работ Сталина, к счастью, которых было немного), а еще у старшего брата – ну это как донашивать за старшими их одежду и обувь. В другой ситуации всего этого бы с лихвой хватило на получения пятерки, но не в новой данности ожидаемой репрессии.
Наконец, провентилировав ситуацию с разными приятелями и приятелями приятелей, Шусараша вышел на некого маклера, который взялся за четвертак достать шпоры по всем первоисточникам, да еще и с краткими резюме, что там к чему. Слава богу, какой-то трудяга-доцент из МГУ до него всю эту неподъемную работу выполнил, записал каллиграфическим почерком на мелких листочках, с которых проворные люди (видимо, будущая элита российского бизнеса) сняли где-то на закрытом предприятии (по блату или за магарыч) копии-синьки.
Конечно, полагать, что удастся пользоваться шпорами на экзамене, Сане и в голову не приходило. Кроме того, он ожидал, что помимо билета его начнут дополнительно устно гонять по всем темам и разделам (так в итоге и было, перекрестный допрос философички и комсорга Толи продолжался более часа). Никогда еще в своей жизни Шусараша одномоментно не запоминал наизусть такую массу гуманитарной информации (причем, по сути, абсолютно бесполезной в его будущей профессии). Три дня усиленной подготовки, тренинги с братом, ведро кофе и, к счастью, хорошая прогулка и крепкий сон перед экзекуцией дали благоприятный эффект.
Философичка к тому же допустила одну грубую ошибку – она, будучи уверенной в своей абсолютной победе на предстоящей «дуэли», запланировала прилюдную порку перед всей группой. В итоге именно большое количество студентов-свидетелей не позволило ей поставить не только «неуд», но и даже «удовлетворительно». Пятерку она тем не менее не поставила, хотя никаких оснований снижать оценку испытуемого за 100% правильные часовые ответы у нее объективно не было. Когда народ (группа), с великим интересом наблюдавший за противоборством студента-изгоя и подловатого преподавателя, загудел при объявлении всего лишь «хорошей» оценки, женщина вывернулась тем, что «оценка общая, не только за экзамен, но и за работу на семинарах…» Однако все было шито белыми нитками, и она сама это прекрасно понимала. Понимала, что всухую проиграла в той интеллектуальной дуэли, но, видимо, какая-то более глубокая мотивация, чем ее совесть, несмотря на очевидный позор остаться в памяти студентов беспринципной стервой, у нее все же была.
Выйдя из кабинета и махая зачеткой как флагом, Шусараша отказался от предложений пойти обмыть это дело пивом: «Ни в коем случае! Надо быстрее вытряхнуть весь этот мусор из ближней памяти мозга! Бегу сейчас в спортзал, институтский физрук обещал по такому делу дать спарринг по боксу! А уж он-то знает в этом деле толк, бывший чемпион Союза в среднем весе».
Диссидентская рябь в море развитого социализма
– Шусараша, ты на «войну» идешь?
– А что, по мне не видно? – Александр ткнул пальцем в свое одеяние камуфляжного типа. На военной кафедре требовали, чтобы на их занятия в институте по военной подготовке студенты приходили коротко постриженные, в отутюженной одежде, максимально напоминающей солдатскую форму, с обхватывающим резинкой шею узким офицерским галстуком-«селедкой», и чтобы отзывались на слово «курсант», а учебную группу именовали «взвод».
В качестве как бы военной формы всем студентам мужеского пола пришлось купить стройотрядовские куртки. Женский же пол был освобожден от военной подготовки, и поэтому целый день в неделю дамы имели законный дополнительный выходной, за который отсыпались за всю прошедшую бойкую неделю.
Стройотрядовская куртка в обиходе именовалась «бойцовка» или «целинка», но сами студенты звали их «поносками» за новый цвет, в который эти куртки после небольшой носки на солнце и стирки трансформировались из исходного. Собственно, что удавалось в промторге купить, в том студенты и ходили на военную подготовку. Редкие щеголи имели возможность достать импортные изделия цвета хаки, с которых предварительно аккуратно спарывалась символика United States Army. Специальной одежды студентам тогда централизованно еще не выдавали, тем более еще никому из начальства не пришло в голову увлекаться нашивками и погончиками.
Вопрос к Александру исходил от Валерки, студента-одногруппника, уже отслужившего до поступления в институт двухгодичную срочную службу в армии, получившего лычки сержанта и потому теперь назначенного курирующим их группу офицером командиром как бы «взвода». В их взводе было человек семь старослужащих, которым на период учебы в вузе почему-то не дали никакого послабления и принудили так же, как и «школьников», проходить подготовку по военно-тыловой инженерной специальности с присвоением после выезда «в лагеря» (это в конце четвертого курса) офицерского звания «лейтенант запаса по ГСМ» (горюче-смазочным материалам). За свою должность (на которую наотрез отказывались идти другие дембели) Валерка получил одну важную для него привилегию – ему разрешили сохранить на время обучения не только пышные усы, но и вполне выраженные на угрюмом лице бакенбарды. Вообще, офицеры военной кафедры в «керосинке», за исключением только одного «прикидочного» майора, были людьми вполне вменяемыми и не практиковали никаких перегибов в учебе и дисциплине.
Большинство из них являлось отставниками в зрелых званиях полковников и подполковников, носили кители с черными петлицами военных инженеров, а потому были, по сути, такие же технари, как и привычные на прочих кафедрах гражданские доценты и профессора. Исключением являлись несколько молодых строевых офицеров с красными петлицами (капитаны и майоры), неизвестно какими путями из своих гарнизонов попавшие на «блатную» службу в московский вуз. От них по определению требовалось дрючить (в переводе на официальный язык – воспитывать) курсантов (особенно бывших школяров), и в какой-то степени они соответствовали этой своей матюгальной функции.
– Санек, я задерживаюсь минут на пятнадцать, не более. На построение уже не попадаю, но капитан относительно меня должен быть в курсе. Передай всем нашим, что сейчас прямо на военной кафедре будет проведено экстренное собрание и что на нем в наших интересах лучше молчать в тряпочку… Только негромко так объяви от моего имени. Каждому на ушко. Ладно?
– Ладно, товарищ командир. Предвижу, как весь взвод будет заинтригован. Что за собрание-то? Вместо строевой или тактики опять предложат какую-то тяжесть потаскать на восьмой этаж? Так это мы с превеликой радостью! На дополнительной физкультуре, в отличие от учебных занятий, время быстро летит и с пользой для оздоровления организма.
– Потом поймешь! Знаю только, что это будет встреча с представителями из конторы!
– Какой еще конторы?
– Той, что на три буквы. Глубокого бурения…
- * * *
Честно выполнив поручение своего командира и прошептав каждому типу в поноске то самое секретное пожелание, после построения в коридоре военной кафедры Шусараша вместе с другими парнями вместо назначенной по расписанию лекции действительно были приглашены «поговорить» в одну из аудиторий с двумя серьезными моложавыми мужчинами в штатском.
Помимо гостей, в «президиуме» сидели и два своих офицера (подполковник – начальник кафедры и полковник, ее парторг).
В Сашкином взводе были ребята исключительно из двух учебных групп смежных специальностей, но обе эти группы в вузе относились к одной учебной кафедре, профилирующей в разработке нефтегазовых месторождений. Поэтому собравшиеся все друг друга прекрасно знали и по занятиям, и по практикам, а многие и по тесному сожительству в стенах общежития, многократному общению в междусобойчиках.
Александр при новой московской прописке умудрился в тот год сохранить место в общаге. На первых двух курсах это было вполне законно, так как отец служил в военной части Московской области, где вся семья, естественно, и была прописана. Однако к середине третьего курса его перевели на преподавательскую работу в военную академию, и, соответственно, прописка у всей семьи тоже стала московской. Однако паспорт и студенческий билет живут разной жизнью и между собой могут долго особо не пересекаться. Другое дело приписка к военкоматам – тут-то все и всплывает на поверхность…
Девушек у них на специальности было кратно меньше, чем ребят, – все-таки профессия предусматривала работу на промыслах, а это априори накладывало определенные бытовые ограничения. Ну, конечно, те дочки и сынки, у кого папы были большими начальниками (неважно, в Москве или в провинциях), могли однозначно рассчитывать на офисную работу в конторах или даже в отраслевых НИИ. Неожиданно темой разговора с КГБ стали именно их две девушки…
– Ваши сокурсницы (назовем их здесь А и Б) – что за люди? Кто с ними наиболее дружен? Что вы могли бы сказать об этих девушках?
Молчание. Кто-то из студентов запомнил Сашкины шепотки на построении, кто-то просто замер, как кролик перед удавом.
– Что молчите? Ну кто-то же с ними общается? Хотя бы по учебным делам?
Александр краем глаза посмотрел на Бурята – тот сидел с абсолютно белым лицом, как можно глубже вжавшись в стул. В тесном общаговском сообществе было прекрасно известно, что студент Бурятов, он же один из сержантов их взвода, спит с А в его мужской двушке, каким-то образом уговорив своего соседа по комнате на взаимовыгодный обмен. Все бы ничего, но любвеобильная А вроде как в своем родном городе была изначально замужем… Вообще, в «керосинке» испокон веков были очень строгие правила по расселению студентов: мужской пол жил обособленно в корпусах на выселках, а женское общежитие было соседним зданием с главным корпусом института на одном из главных московских проспектов. Парней в женское здание пускали в строго ограниченное время дня при предъявлении паспорта для оформления срочного пропуска, где обязательно прописывалась принимающая их комната и строгое время «совместных занятий над курсовым». Но к описываемой дате на выселках наконец достроили новые современные корпуса институтских общаг, и теперь абсолютно всех иногородних студентов переселили на эту территорию (сейчас бы сказали, в кампус).
Нонсенс состоял в том, что вместо прежней старорежимной надзирательной обособленности кто-то наверху (ректор? партком? министр?) решил, что парни и девушки из одних групп и курсов должны не только вместе учиться, но и жить как можно ближе друг к другу. Что, как выяснилось, не могло потом не привести к некоторой сексуальной революции. В результате на каждом этаже каждого из трех корпусов общаговского городка чередовались мужские и женские блоки (блок – помещение из двух спален на два и три человека с общим туалетом и ванной комнатой). Стоит ли удивляться, что некоторые сошедшиеся за время учебы пары изыскивали варианты обмена, претендуя на отдельную комнату в мужском или в женском блоке. Коменданты корпусов про то прекрасно знали, но обычно не возникали, так как с любого обнаруженного ими нарушения провинившимся принято было платить мзду, а также отрабатывать по зову комендантов некий оброк в виде внеурочных добровольных субботников.
Однако сейчас студенты продолжали хранить гробовое молчание, выдавать Бурята никому и в голову не приходило, включая даже идейно подкованного старшего сержанта Колю, заработавшего во время службы в армии партбилет. Несколько раз, меняя формулировки, конторщики задавали один и тот же вопрос о «дружбе» и о «разговорах» с чем-то, видимо, провинившимися девицами. Так ничего и не добившись, по предложению полковника-парторга всех ребят из взвода начали поднимать и задавать этот же вопрос, но уже индивидуально.
Каждый из поднятых скромно пожимал плечами и отвечал примерно следующее: «Скромные, неприметные студентки, такие серые мышки, живут своей личной жизнью, в общественных мероприятиях не участвуют, никаких личных контактов с ними не имел, ничего о них не знаю…»
Кстати, относительно личности Б это было чистой правдой, она действительно слыла той самой серой мышкой и ухажеров на курсе не нажила. Что касается дамы А, то ее как раз все знали хорошо, если не сказать больше. Чего только стоила история с укусом клеща в грудь на первой общей практике, когда А дала буквально каждому из парней попробовать себя – в смысле, чтобы помогли выкрутить этого клеща из сиськи. Получилось тогда ловко отодрать насекомое с помощью нитки только у Бурята, а уже утром начальник практики, зайдя в мужскую палатку, присвистнул, увидев спящую А в объятиях на раскладушке у Бурятова.
После допросов наконец последовали разъяснения от пришедших конторщиков. Оказалось, что недалекая А и, видимо, зомбированная ей серая подруга Б сдуру подписали какое-то политическое воззвание (вероятно, против шедшей тогда войны в Афганистане, хотя сейчас уже детали того события стерлись, о чем же именно оно там все-таки было…). Причем первая подпись, поставленная под этим манифестом, принадлежала не кому иному, как уже гремевшему на весь мир политическому мегадиссиденту академику Андрею Сахарову, трижды Герою Социалистического Труда. Впрочем, эти звезды в годы опалы у него отобрали, выслав в закрытый для иностранцев город Горький (хотя звания академика АН СССР изобретателя водородной бомбы все же не решились лишить).
Дальше шла достаточно подробная информация о том, как этих девиц органы уже пытались ранее перевоспитывать, но все зря – после каждой беседы они тут же созванивались с их «кураторами» по диссидентскому кружку. Последний момент Шусарашу особо задел: «Вот дуры, что они не понимали, что ли, что находятся „под колпаком у Мюллера“, да за ними теперь и в туалетах небось с помощью скрытых камер и микрофонов подглядывают, прослушивают все и вся…»
Наконец после часа «разговора по душам» прозвучал и соответствующий инструктаж: с А и Б категорически больше не общаться, бежать от них как от чумных, а если они будут вдруг вести идеологически вредные разговоры (если не поняли – вообще любые разговоры), то вот, мол, телефоны, по которым следует тут же позвонить. Студенты сделали вид, что записали эти телефоны…
Александра покоробила активность пожилого инженера-полковника (о том, что он парторг, никто раньше не знал). Дело в том, что этот седоватый высокий преподаватель в техническом плане был безупречен, говорил со студентами на занятиях назидательно, но по-отечески мягко. Пожалуй, он единственный, кто мог доходчиво донести до студентов суть своих лекций и оттого вызывал у многих сокурсников явную симпатию – технарь! А тут все увидели его в роли подающего злобные нецензурные выкрики и пытающего спровоцировать каждого из допрашиваемых курсантов на ответы невпопад. При этом сами конторщики ни разу не повысили голоса и вели свои разработки на вполне дружелюбной интонации. Иногда даже хотелось… войти в их положение.
Удивительно, но самих А и Б до конца учебы из вуза не отчислили, а с А Александру даже потом довелось поработать немного в одной московской научно-исследовательской организации. К этому времени она успела развестись со своим периферийным мужем, снова выйти замуж и тем самым обзавестись московской пропиской, необходимой для распределения в Москве.
Был в жизни Александра еще один случайный контакт на спортивно-туристическом поприще с признанным властями диссидентом – эмоционально-непосредственным парнем еврейской национальности, который, как оказалось, в несознательном отрочестве выходил протестовать с плакатом против чего-то недозволенного (скорее всего, за какие-нибудь притеснения к своей нации). С ним, на удивление, власти тоже обошлись практически одними разговорами, разве что поставив на учет в психдиспансер, перекрыв ему тем самым на всю будущую жизнь любые карьерные начинания, возможность преподавания, возможность получения прав на управление автомобилем и пр. Через пару-тройку лет этот несостоявшийся чудак-бунтарь благополучно со своей мамой эмигрировал в Израиль и, кажется, вполне нашел себя там, работая в одном из приграничных с арабской территорией сельскохозяйственных кибуцев.
Кто не служил, тот не мужик…
(за 10 лет до даты «Ч»)
Однако след на всю жизнь от «военки» в жизни Шусараши остался вовсе не из-за того случая, а от сдачи выходного экзамена, проходившего в одной из частей после лагерного сбора. Про то, что аттестация по военно-технической специальности после четвертого курса будет проходить, скорее всего, в лагере на летних сборах, было известно с самых первых занятий. Это было всем на руку: по возвращении в Москву как студенты, так и препы-офицеры могли до начала практики (или отпуска) неделю-другую позаниматься своими делами.
Хорошо известно было и то, как этот экзамен традиционно сдавался: пацаны в каждом учебном взводе накануне своего экзаменационного дня (а он у разных взводов всегда разный) дружно сбрасывались на ящик водки. Коньяк бы не осилил их скромный бюджет, да и в поселке он не продавался. После чего командир взвода с доверенными сержантами отправлялись в самоволку в сельмаг за спиртным, а потом они же заносили его в офицерское общежитие в расположение части. При этом сами студенты весь летний месяц жили на отшибе части в армейских шатровых палатках по восемь человек.
На следующий же день представитель офицерской комиссии вполне лояльно не мешал командиру взводу разложить билеты в матрицу 6х5 по нарастанию их номеров, что позволяло каждому аттестуемому легко вычислить по координатам Х и Y положение своего единственного билета, к которому он, собственно, только и готовился. Таким образом, любой дурак за отпущенные на самоподготовку перед экзаменом два-три дня способен был вызубрить этот оговоренный с товарищами личный билет и защитить его потом на оценку не ниже «хорошо». Подпортить эффект могли только спонтанные дополнительные вопросы, случавшиеся крайне редко.
Механизм сдачи экзамена не первый год работал как часы, если только не считать ежеутреннюю головную боль у аттестующих от выпитой накануне водки. Взвод Шусараши по расписанию должен был сдавать экзамен последним, накануне дня окончания лагерных сборов. До того момента у студентов курса (а это человек триста) была в арсенале только одна тройка – какой-то неврастеник переволновался и позорно запутался в своем изложении. Помнится, на него в столовой показывали пальцем – «вот, смотрите, лох идет…»
Тем не менее в нужный вечер перед экзаменом у последнего взвода офицеры демонстративно водку не взяли…
Сержанты принесли ее к себе в палатку, и началось шоковое выяснение отношений с командиром взвода. Все отчетливо понимали, что гарантии на сдачу завтра экзамена больше нет. Скоро от ребят из наряда (как бы охранявших палаточный городок) дошло известие, что утром в часть из Москвы приехал начальник военной кафедры, которого до того в лагере не было. В отличие от прочих кафедр института, он был именно начальник, а не заведующий.
Так вот ему один курсант персонально доложил про бутылочную сторону сдачи экзаменов. Разумеется, проигнорировать такой донос начальник кафедры не мог и, как полагается, для расслабившихся на воле офицеров начался форменный разнос, после чего грозный подполковник пообещал, что завтра сам придет на экзамен и проинспектирует успеваемость курсантов.
В отличие от многих на его кафедре пожилых полковников-отставников, начальнику еще только предстояло заработать право на погоны в три звезды, следовательно, мотивация навести порядок у него имелась.
Если до этого момента во взводе Шусараши присутствовала лишь глубокая растерянность, то тут уже началась натуральная паника. Кто-то бросился за конспекты, кто-то, матерясь, начал неуставное брожение в чужие палатки, чтобы пожаловаться на подлую судьбу и обсудить, каким образом курс будет отвечать выслуживающемуся доносчику. Тем более что этот типчик с химического факультета за свое членство в комитете комсомола института уже в первый день лагерного сбора получил от командира части погоны сержанта. Старослужащие на этот вызов дружно заскрипели зумами – они-то за эти лычки оттрубили в армии по полной два, а то и три (ВМФ) года. Этому же никогда не служившему ган… ну торжественно вручили их на целый месяц вперед только потому, что он был в активе. Вот он и отработал теперь доносом те лычки.
Однако утром следующего дня все началось вполне благопристойно: единственный присутствовавший преп-майор позволил комвзводу разложить билеты в нужном порядке, а студенты, отходя от мандража, разбились на первую и последующие пятерки, выстраиваясь по заранее согласованной очереди. Вперед обычно пропускали отслуживших в СА и ВМФ товарищей, потому как первую половину экзамена, как правило, принимал только один из офицеров (наиболее стойкий после вчерашних возлияний). Когда очередь доходила до следующих пятерок «школьников», в аудиторию могла заявиться еще пара-тройка преподавателей, что уже само по себе мешало испытуемым нагло списывать. К тому же каждый из вновь пришедших мог с похмелья случайно задать нехороший, непродуманный вопрос и поставить отвечающего в тупик.
Не успела первая пятерка зайти в аудиторию, как случился, в общем-то, ожидаемый форс-мажор – пришел начальник военной кафедры. Подполковник мило поздоровался с присутствующими, затем подошел к столу с билетами и натренированной рукой заядлого картежника перетасовал их, после чего разложил все это хозяйство двумя веерами в непредсказуемой последовательности.
Пятерка из старослужащих, наблюдавшая этот процесс перетасовки билетов из дверей, сразу же дала задний ход и объявила остальным, что им еще надо немного поготовиться… Дежурный преподаватель, видя заминку на входе, гаркнул на комвзвода, и тот уже своей властью в приказном порядке отправил на экзекуцию первую попавшую ему на глаза пятерку из состава «школьников».
Понятно, что всем им достались незнакомые билеты, по которым никто ни бум-бум. После этого опроса кафедральный начальник констатировал своим подчиненным (а к тому моменту в комиссии уже сидело человек пять офицеров) странный факт: «Как же так, до моего приезда были одни курсанты-отличники, а в этом взводе, как на подбор, собрались прожженные двоечники?»
Потом в аудиторию последовательно заходили другие курсанты-школьники, и картина повторялась. Исключением среди них стало только четыре человека: Хохлу повезло, и он без подготовки на удивление надзирающего начальника отбарабанил свой изначальный билет. Потом он, конечно, признался, что вытянул чужой билет, но ему хватило наглости и уверенности зачитать комиссии по памяти «свой» сокровенный номер и отвечать на «свои» вопросы. Комиссия, получается, поверила ему на слово. Еще один ботаник реально в предыдущие дни работал над билетами и потому заслуженно получил свой «хор.», ну а еще двум счастливчикам удалось невероятными усилиями памяти и логики дотянуть свои неуверенные ответы на слабенькую удовлетворительную отметку. Среди них был и Шусараша.
Просидев в комиссии две трети положенного времени, подполковник с тихим, но четко сказанным «все здесь понятно» неожиданно встал и покинул аудиторию. Препы сразу же объявили перерыв на перекур, в ходе которого командир взвода с другими старослужащими забежали в комнату и навели порядок с оставшимися билетами.
После перерыва бывшие сержанты и ефрейторы смогли показать класс, и репутация взвода в некотором роде была спасена. Средний балл подтянулся.
Той половине неудачников, кто в результате не смог сдать нон-стоп-экзамен, назначили его пересдачу уже в Москве. В результате они обидно потеряли свою халявную неделю и вынуждены были в течение летних жарких дней ходить в институт на военную кафедру, где пришлось по несколько часов, потея без кондиционирования, тупо высиживать на самоподготовке.
Троечники, включая Шусарашу, отнеслись к своей заслуженной низкой оценке с явным облегчением и пренебрежением – отпуск был спасен, а отметка по «войне» никак не влияла ни на стипендию, ни на средний балл за всю учебу в вузе. Эта оценка вообще никаким образом не фигурировала в их дипломах инженеров, оставшись где-то глубоко в недрах военкомовских архивов.
Вечером того же дня весь проэкзаменованный дембельский взвод гудел в одной из палаток, снимая пережитый стресс за ящиком невостребованной водки. Преподаватели и дежурные офицеры деликатно в этот вечер в палаточный городок студентов не заходили…
- * * *
Этот и похожие случаи, безусловно, подтачивали монолит стойкости у еще не окрепших «строителей коммунизма». Партийно-комсомольские активисты, каналы ТВ, газеты, транспаранты кричали о чем-то иллюзорном, а вот практика двойной морали и противоречивого бытия из повседневной жизни преломляла эти лозунги в совершенно другую, противную от лозунговой реальность.
Подрастающее поколение уже со школы осознавало оторванность официальной пропаганды от их жизни. Понимали люди и усугубляющееся экономическое отставание советской промышленности, особенно ущербность коллективного сельского хозяйства, не готового накормить страну. Шмотки, электроника, косметика, даже предметы санитарной гигиены – все превращалось страшный дефицит. К тому же, в отличие от изредка приходящих в Союз зарубежных изделий, отечественные товары народного потребления пугали своим низким качеством (особенно электроника), а также отвратительным внешним видом (одежда, обувь). Эти темы постоянно обсуждались не только в самой молодежной аудитории, но и «на кухне» вместе с родителями, а то даже и с собственными учителями, когда планировались маршруты воскресных вылазок на электричке в столицу (но не в театры и музеи, а в колбасно-мясные очереди). С каждым годом развитого социализма два мира (всеми осязаемый и другой, из иллюзорной ТВ-реальности) отдалялись друг от друга, причем с нарастающим ускорением. Кто-то потом скажет, что СССР погиб именно по пресловутой «колбасной причине» – Политбюро банально не смогло обеспечить народ сытным пайком. Однако в более глобальном смысле это случилось из-за того, что с годами разнесенные в бесконечную даль те две реальности советского человека перестали вмещаться в головах среднестатистических граждан.
«Долго будет нам Карелия сниться…»
(то же лето)
Пропустив майский поход на Кавказ, Шусараша решил отыграться летом. Однако июнь и начало июля пропали на военных сборах. По-хорошему в июле через недельку уже надо было ехать на преддипломную практику. Теперь по распределению для него была застолблена Тимано-Печорская провинция, но в город Усинск он решил не спешить. В конце концов, никто его не накажет, если сделать рокировку и поменять положенный отпуск в сентябре на более выгодный для туристических походов отпуск в июле – начале августа.
В первый же день после возвращения в Москву с военных сборов «дембель» срочно поехал в городской турклуб на Большую Коммунистическую. Там в заветных папках на двух столах лежали десятки записок-объявлений: кто куда идет, кто требуется в команду, кто сам желает присоединиться к самодеятельным туристам. Читать эти объявления было для Сашки огромным удовольствием: вот, завтра уже группа отбывает на Чирку-Кемь, а у этих до сих пор нет одного матроса, эти семейные с детьми – неинтересно. А вот куча объявлений от девиц-студенток типа «присоединюсь в каникулы к группе в Карелию или куда возьмете…» В определенной степени предтеча будущих брачных объявлений…
Всегда в самодеятельном туризме при организации походов кто-то кого-то ищет, но все равно обычно предложения опережали спрос. Капитану с лодкой было из чего выбрать, если он еще не обзавелся постоянным матросом. Разумеется, это касалось только походов по относительно легким категориям сложности (1—3). Начиная с четверки, а особенно в походе на пятую категорию считалось верхом легкомыслия брать неподготовленного новичка без опыта похода хотя бы на категорию ниже.
В этот раз Шусараша один (так было и в прошлом году), но теперь у него в наличии есть полный комплект необходимого туристического снаряжения: аккуратно проклеенная по кильсону толстой троллейбусной резиной байдарка «Салют-3» с удобным «фартуком» из серебрянки, самопальная палатка, широкий тент, самодельный спальник, настоящий летный спасжилет, удобный объемный рюкзак, полипропиленовые коврики, набор котлов, острейший топорик и компактная двуручная пила, а если понадобится, то найдется и прочее хозяйство. Был бы еще с ним такой же капитан с байдаркой из знакомых, то можно легко взять по объявлениям двух симпатичных девушек и махнуть с ними на несложную карельскую трешку. Жаль, не совпадают даты с походом знакомой группы старшего брата – те идут только с августа, ждать их двадцать дней в городе нет никакой возможности, иначе надо будет уменьшать сроки преддипломной практики до полутора месяцев вместо двух, а этого никак Сане не хотелось бы.
Пока Шусараша листал объявления, на него косился незнакомый, но внешне приятный парень с усиками, тоже тщательно просматривающий одну из папок с объявлениями. Через некоторое время он решился и подсел к Шусараше. Выяснилось, что у них уже сложилась группа с химфака МГУ в Кенозерский край на Илексу, но одна девушка-матрос как бы оказалась лишняя. А группе не хотелось бы ее терять, поэтому срочно разыскивается капитан с лодкой. А он – вот, оказывается, здесь рядом сидит и сам выписывает чьи-то телефоны на вечер.
Знакомство произошло молниеносно, приятного парня звали Вовой: «Выходим через три дня, а сейчас едем знакомиться с нашей группой». Ребята из группы Александру тоже все понравились, чувствовалось некое единение душ с ними, особенно понравилась та самая девушка по имени Света, чьим капитаном он должен был скоро стать. Надо же, как удачно! Сразу нашел вариант, и практика в Коми не пострадает!
На следующий день вечером в родительской квартире он застал друзей старшего брата, там прямо шла некая баталия! Оказывается, брат передумал брать отпуск и идти с ними в августе в поход на речку Охту в Карелию – вот они и приехали его уговаривать. Но тот ни в какую, даже причину своего отказа объяснять не стал: «Не могу, и кончено с этим». С ним это бывало, хорошо хоть, предупредил заранее, можно было успеть опять же через турклуб найти замену.
И тут его мужики (все, как и брат, лет на семь старше Шусараши, с которыми он был шапочно знаком) обратили взор на пришедшего домой младшего: «Тогда пусть вместо тебя он идет!» – «Вот еще, мне август не подходит, у меня практика! А потом, я уже сговорился вчера и на днях отбываю с хорошими ребятами в их поход на Илексу. Уж извините, уважаемые!»
Но тех как прорвало: «Нет, давай лучше с нами! Пожалуйста! Кажется, мы можем на неделю подвинуть свои отпуска в сторону конца июля! Мы тебе дадим в матросы симпатичную деваху Зою, она тебе точно понравится, как раз твоего возраста, тебе с ней будет весело и комфортно! Она компанейская! Еще будешь у нас адмиралом вместо старшего брата. Знаем, что опыт сплавов у тебя даже круче нашего!» – от них шла одна «морковка» за еще более заманчивой «морковкой», но Шусараша был непреклонен: «Нет, я уже дал слово. Подвести ребят не могу, они же на меня рассчитывают, не обольщайте, ради бога!»
Вдруг послышался звонок телефона, мама взяла трубку и кликнула Саню: «Тебя, уже третий раз сегодня этот звонит!» Саша подбежал к столику с телефоном – звонил взволнованный новый знакомый Вова: «Старик, катастрофа! Ты знаешь, Светка, твой матрос, сломала руку! Подломился каблук, и она упала с лестницы. В поход, разумеется, идти не сможет. Гипс, сам понимаешь! Я тут тебе по объявлениям подобрал варианты из потенциальных матросов как мужеского, так и женского пола. Может, ты сам их и обзвонишь, тебе же с ними потом в одной лодке париться!»
Кажется, сама судьба выворачивала на то, чтобы Шусараша непременно тогда встретился с Зоей. «Мужики, вы меня уломали, иду с вами, оказывается, мой потенциальный матрос сломал каблук и теперь не сможет идти со мной. Давайте только найдем в команду хотя бы еще один экипаж! Оптимально, чтобы группа была из четырех лодок. Вот у меня тут как раз одно подходящее объявление в запасе из турклуба осталось: пара, муж и жена, по возрасту на год старше меня, готовы присоединиться…» – «А чего, вот ты теперь, как наш адмирал, все дальше и организовывай! Доверяем!» – ушлые старшие товарищи поняли, что своего добились и теперь понемногу линяли от обременительных организационных обязанностей…
Судьба человека как шар в боулинге: катится себе по прямой линии, а потом из-за скрытого от глаз вращения – раз, и резко меняет направление. В результате падают почему-то совсем не те кегли, что, казалось, должны были упасть… Присоединившаяся по телефонному звонку к поездке на Охту супружеская пара и их круг знакомств в итоге стали для Шусараши близкими друзьями на всю жизнь. Деваха Зойка вообще сыграла в его жизни глубокую роковую роль, о которой он поведал выше в игре в правду. А еще через эту же кампанию Саня в итоге познакомился со своей будущей женой-медичкой Таней.
А ведь все должно было по первоначальному замыслу сложиться совершенно иначе: компания новых друзей должна была стать из круга Вовки, а там, возможно, сыграла бы свою роль и неудачная принцесса Светка… Однако… каблук, и нате вам: судьба вмиг раз и навсегда все кардинально поменяла в жизни Александра, да и многих других ребят его близкого круга тоже. Скажете, все было заранее предначертано? Нет, конечно, все случилось стихийно. Тем не менее он есть – кем-то управляемый хаос…
Глава 2.
Под влиянием кометы «Жюль»
(за 5—10 лет до даты «Ч»)
Курсовой меняет курс
Александр, определяясь на учебу в вуз, прозванный в народном обиходе «керосинкой», очень отдаленно представлял себе нефтяное и газовое дело. Но надо было, как все десятиклассники в их заштатном городке, определиться с будущей профессией. Офицером, как отец, он себя лет с десяти перестал видеть – скорее всего, переел этой гарнизонной романтики. Из остальных профессий с высшим образованием ему более-менее было понятно, чем занимаются инженеры. Врач, учитель, юрист – это все для него было абстракциями, чем-то «женским». Инженер же конкретен. Именно он двигает прогресс, именно на его плечах строится цивилизация. Брат предлагал подумать о фундаментальной науке (как он сам для себя выбрал), но Сашка в себе таких способностей и потребностей не ощущал. Вот с железками позаниматься, что-то попаять, усовершенствовать в работе механизмов – это было понятно и близко.
Техника его завлекала и своей сложностью, и своей практичностью. Долго он размышлял только над тем, какой отраслевой инжиниринг выбрать для будущей профессии. В те годы много писали про глобальный нефтяной кризис, а еще про то, что нефть – это кровь всей экономики в мире. Вот ему и показалось, что нефтянка – это солидно, это настолько фундаментально, что на века. Это, как часто тогда говорили про Пушкина А. С., «наше все»…
Строго говоря, как потом выяснится на протяжении нескольких последующих десятилетий, этот его выбор был вполне объективен. Кроме того, появлялась возможность посмотреть страну – нефть и газ были практически во всех ее уголках, а главное – углеводороды залегали на территориях белых пятен. Романтика, черт возьми! Сибирь, Арктика, Дальний Восток, Средняя Азия!
Но, начав учиться в вузе, Шусараша вдруг засомневался в своем выборе. Вот его школьный приятель Гошка поступил в МАИ, а самолеты-ракеты – это как раз истинно высокие технологии. Это высоты, к которым можно стремиться всегда. А у него что? Насосы-качалки, трубы, задвижки… Срамота!
Но время лечит. Он и привык к тому, что приходилось изучать. Разработка месторождений вообще-то сводилась не только к банальному отсосу нефти из пробуренных скважин. Это тебе в одном флаконе и подземная гидромеханика, и гидродинамика с геофизикой и геологией, и физико-химические методы повышения выработки пластов, и прикладная математика – короче, многое! А это многое еще и завязано в тугой технологический узел, развязывать который, как со временем оказалось, интереснейшее дело для вдумчивого инженера. Специфика его будущей профессии выходила далеко за рамки механики, тут и физика с химией, а еще, как выяснилось на поздних курсах обучения, нужна базовая прочная математика и даже мало тогда еще всем понятный вычмат.
Пока Шусараша осваивал студенческую и вообще взрослую жизнь, у него в планах на нее все было просто: отучусь, да и поеду в Сибирь, а там карьера понятная – начнешь с низов и будешь постепенно восходить на внутренний периферийный Олимп: инженер-оператор, начальник цеха (это сотня-другая эксплуатационных скважин и инфраструктура к ним), а может, даже и в главные инженеры какого-нибудь нефтегазодобывающего управления (НГДУ) выйду. Но будни освоения Сибири и Севера – это не только материализм повседневного труда, это еще и идеализированная романтика: походы с верными друзьями, песни у костра, рыбалка, охота, тундра! Наконец, такая манящая для юного индивидуума полностью самостоятельная взрослая жизнь! Ну и бонусом – весомая зарплата с разными умножающими ее надбавками: полевыми, территориальными коэффициентами, полярками!
Уже на производственной практике Сашка, как техник-стажер, получал на руки по три-четыре сотни рублей в месяц (те же деньги были у отца-полковника, заместителя заведующего кафедрой в военно-инженерной академии). Нет, все-таки нефтянка в итоге оказалась круче авиации и подсознательно солиднее нее. Был, например, такой случай: приехав однажды на молодежную конференцию в Оренбург, Шусараша крайне удивился, когда администрация городской гостиницы выселила из положенного ему по брони номера нещадно упирающегося за свое просроченное место офицера: «Ну и что, что вы военный летчик. Горком на всю неделю выделил бронь для нефтяников и газовиков! Они кормильцы нашего города!»
Возможно, что в производственных планах на будущее у Шусараши и не было бы существенных сбоев, если только на четвертом курсе кое-что не изменилось в его взглядах на профессию. Катализатором этой трансформации стал случай.
Руководителем его курсового проекта в весеннюю сессию был назначен (совершенно стихийно) один известный и маститый профессор. Очень необычно его звали все, от ректора до студентов и его же собственных внучек. Полное имя-отчество профессора было сложнопостроенным: Жорес Юрьевич, с добавлением грузинской фамилии Ломидзе. По первым буквам выходило: ЖЮЛь.
При встрече с Сашей Жюль начал с подробного знакомства с ним, расспросив, кажется, всю его биографию и подноготную про всех близких и дальних родственников. То, что парень не имел за спиной никого из близких, связанным с нефтегазом, его почему-то очень развеселило и воодушевило. Потом они так же долго говорили тет-а-тет о разных направлениях в разработке и диагностике выработки на нефтяных месторождениях. Казалось бы, зачем так глубоко копать? Дай студенту любую тему из утвержденного на кафедре списка, и пусть он дерзает, а уж коль с вопросами подойдет – тогда уж можно и потратиться на консалтинг для студента.
Нет, этот Жюль оказался совсем не формалистом, а, наоборот, крайне въедливым и настойчивым, если не сказать упертым. После фразы «А вы, Александр Александрович (это он про Шусарашу), можете далеко пойти, если вам как следует дать пинка в нужное место!» он начал долго и, казалось бы, отвлеченно рассказывать подопечному про одну свою застарелую и сумасбродную, но красивую техническую идею. Студент согласился, что идея красивая, но явно безнадежная, даже в отдаленной перспективе нереализуемая. В итоге наставник резюмировал: «Жаль только, что у меня с ней ничего не вышло. Больно муторно оказалось собирать и систематизировать требуемые данные. Может, у вас это получится? Давайте-ка сделаем это темой вашей курсовой работы на семестр!»
«Он вообще нормальный? Что мне прикажете делать с этой сверхзадачей? У меня скоро заплывы на байдарках начнутся по половодью, в мае наклевывается большой поход на Кавказ, мне бы тему курсача такую, чтобы за день сидения в библиотеке там все передрать и еще за ночь красиво нарисовать и разукрасить. А тут нате вам! Пишите целую диссертацию, не зная о чем, непонятно даже, с какой стороны к ней подступиться… Нафига козе баян?»
Но уже через три дня он, кажется, придумал, как из этой западни можно с честью выкрутиться, не потеряв своего лица и сэкономив время: «Попрошу брата помочь сделать одну программку на фортране, еще попрошу, чтобы он у себя в институте посчитал по ней требуемый вариант модели разработки пласта. Конечно, из всего этого ерунда получится, но, по крайней мере, профессор Жюль не скажет потом, что Шусараша ничего не пытался сделать по его гениальной идее… У брата на работе уникальная ЭВМ БЭСМ-6 в тысячи раз мощнее наших НАИРИ институтских, выход на нее должен дать колоссальную экономию времени. Для брата это ерундовое одолжение, а для меня целый майский поход».
Конечно, гладко было на бумаге, а потом пошли овраги… Работа над программкой, а главное, над ее отладкой заняла массу непредвиденного времени. В какой-то момент Шусараша вдруг осознал, что работа эта его настолько затянула и поглотила, что ради нее можно какими-то байдарочными выходами в сезоне и пожертвовать. Дальше – больше: его друзьям предстояло узнать, что в этом году их «адмирал» с ними на Кавказ не идет, максимум готов выбраться на три дня в Подмосковье.
Промучившись с программой, а потом и с расчетами по ней (несмотря на помощь волшебной БЭСМ-6), Шусараша за день до сдачи курсача с горечью признал, что «все было впустую… ничего в итоге из проведенных расчетов не вытанцовывалось…» Курсач по порученной Жюлем теме не склеивался, оформлять его по шаблону не было никакого желания и времени. То есть по факту работа была им полностью провалена, так в остатке получился набор сырых расчетов, ничего не проясняющих графиков и заметок.
Измученный, подавленный и с глубоко испорченным настроением принес Санек на следующее утро свои полуфабрикаты на суд комиссии, вывалив перед ними кучу машинных распечаток с графиками. Члены комиссии в недоуменье развернулись в сторону уважаемого профессора: «А где, собственно, сам курсовой проект?» Тот, ничуть не смутившись, попросил Шусарашу рассказать по порядку, как шла работа и в чем же возникли у него проблемы.
По мере рассказа о сделанном брови профессора поднимались, а глаза округлялись. «Вот что, дорогой вы мой, подход ваш был вполне правильный, жаль только, что вы меня о нем своевременно не поставили в известность, не проконсультировались даже. Но сейчас не об этом – дальнейшую работу мы с вами теперь скорректируем, как и планы по ней. Начинайте-ка делать теперь по этому заделу свою дипломную работу! Вот что я вам скажу. Мне того, что вы уже показали, вполне достаточно, чтобы аттестовать вас на две или даже на три курсовые работы, но это все ерунда в сравнении с тем, что нам с вами еще предстоит продолжить делать. Да, может, и через год ничего по ней путного опять не выйдет – не беда, пойдете ко мне в аспирантуру и рано или поздно, я уверен, домучите эту чертову аномальную геостатистику. Может, вы и не родились для науки, как мне сами говорили, но она вам определенно нужна до мозга костей, что и показал настоящий эксперимент! – профессор Жюль победоносно окинул взглядом ошарашенных членов комиссии. – Запишите там в протокол: оценка „отлично“, и он теперь только мой! Будем работать!»
Что плохого в солидарности?
(ноябрь, за 10 лет до даты «Ч»)
Поучительная история случилась в период учебы и у Сашкиного институтского приятеля Пашки. Одно время они вместе жили в общей комнате институтской общаги. Паша (как его еще звали в группе, «парень с Урала») был крайне открытым типом – уже через два дня весь блок знал про него все, включая интимные подробности. Взамен откровений от слушателей он не требовал, и это всех устраивало. Первые недели их общажной жизни слушать его веселый и во многом наивный треп в минуты усталого равнодушия, развалившись на койке, было намного приятнее, чем смотреть в красном уголке телек (когда там не было футбола с хоккеем) или читать надоевшую книжку, неизвестно каким путем попавшую в руки. В этой связи Шусараша, даже переехав потом по разнарядке в другой блок, все равно всегда был в курсе Пашкиных катаклизмов и потрясений. Иной жизни у того почему-то определенно не складывалось. Характер у паренька с Урала был хоть и мирный, но нестандартный, немного дурной…
В этой истории речь пойдет о временах, когда в соседней Польше «обосновалась контрреволюция» – люди там вдруг в 1981 году стали плохо относиться к социализму и ради меркантильных своих потреб объединились вокруг самопального профсоюзного объединения под героическим названием «Солидарность». «Солидарность» та стала нагло и настойчиво выбивать из правительства ПНР все больше прав, а вместе с ними и как бы более достойную рабочего человека жизнь. И хотя советская пропаганда рисовала те события в мрачных черных красках, студенты в СССР между собой рассуждали примерно так: «А что тут такого? Профсоюзы ведь не только для того, чтобы взносы собирать и распределять по блату путевки между своими. Они по определению призваны отстаивать интересы рабочих и прочих трудящихся. Так нас учили, между прочим. Разве профсоюзное движение – не базис социализма? У нас его просто извратили до неприличия в бюрократическую прокладку парткомов».
Вообще, у студентов тех лет не было серьезных аполитичных умонастроений, все жили своей личной жизнью или максимум жизнью круга тесного общения. Например, Шусараша жил исключительно проблемами близкого ему туристического сообщества, а еще кругом интересов с институтскими ребятами. Особенно с теми, с которыми они вместе занимались разными видами спорта и выступали на соревнованиях за вуз.
Но была в стране еще пресловутая прослойка интеллигенции (это ленинизм так вещал, что в СССР есть два класса, рабочих и крестьян, а между ними затесалась та самая прослойка), близкие узы с представителями которой у Сашки тоже объективно имели место быть. В традицию членов этого сомнительного прослоечного сообщества при встречах входило в привычку обсуждать хоть и не запретные, но не приветствуемые официальной идеологией темы: «почему наши компьютеры самые большие, но не самые быстрые в мире?», «почему наши товары, инструменты и машины настолько хуже западных?», «когда же в СССР будет уровень жизни населения, какой, судя по людям, ездившим „туда“, достигнут в странах загнивающего империализма?»
Раньше на языке партийной бюрократии такие разговоры и мысли непременно отнесли бы к ревизионистским уклонам. Уклоны, от которых, казалось, товарищ Сталин в годы своего правления навсегда отвадил интеллигенцию, заставляя не только не говорить, но и не думать об этих безответных вопросах. Однако на солнышке хрущевской оттепели и умиротворенного брежневского застоя… сорняки опять повылазили. Люди интересующиеся, пытливые, с некоторым багажом неофициозных знаний, с собственными философскими понятиями, с невесть откуда взявшимся чувством собственного достоинства, вообще люди умственных и творческих профессий, а также некоторая часть студентов с их нигилизмом опять взялись за свое…
Так вот, у друга Пашки в тот год случился любовный роман с девушкой из соседнего с ними общежития Института русского языка, и она была полька – Эльжбета. Хотя Паша не был красавцем, но зато, легкий на общение, он без стеснения мог законтачить с любой девчонкой, заболтать ее и, как говорится, быстро привести к общему знаменателю. Поэтому то, что у него теперь новая пассия польской национальности, никого из знакомых не удивило. К тому же, когда Сашка поимел честь с ней лично познакомиться, он почему-то сразу вспомнил свою первую женщину Полину – что-то общее у них с той Эльжбетой, несомненно, было. Друг даже попытался Пашку предостеречь: «Не особо втюривайся в эту польку, у нее на родине наверняка кто-то есть, а ты у нее какой-нибудь двузначный номер, нужен просто как опыт сношений с экзотикой – с „сибирско-уральским мужиком“…»
– Да ты не понимаешь, Шусараша! Мы скоро поженимся и после институтов уедем к ней в Польшу жить, я уже начал учить их язык! Да что там язык, если понадобится, я даже в католическую веру у них обращусь для венчания. Мне, Фоме неверующему, на это раз плюнуть. Скоро мы на летние каникулы к ней поедем знакомиться с родителями. Ты не знаешь, как поменять рубли на злотые?
– Не переусердствуй! В Польшу тебя из-за политических осложнений сейчас не пустят, да и родственники ее вряд ли тебя примут с распростертыми объятиями. Они там все люди сдвинутые в национальном вопросе, да еще эти паны крайне практичные, домовитые, можно сказать, корыстолюбивые. А с тебя что им взять – фиктивное католичество?
– Ах, ты так о нас думаешь! Хорошо, спорим – будет все как я сказал!
– Даже если мы с тобой поспорим на пять червонцев – максимальный бонус, который можно с тебя или с меня теоретически срубить, то судьба твоя лично мне дороже. Спорить не буду. Впрочем, может, у вас там в самом деле любовь, мой Ромео? Тогда вам можно лишь посочувствовать, но никак не позавидовать.
Прошло некоторое время. Пашку в Польшу даже с приглашением от родителей невесты не выпустили, а он, дурачок, до самого конца в это верил… Она же обратно в Москву почему-то доучиваться потом не вернулась. Но это только половина трагедии. Контакты и попытка выезда за границу в бунтующую Польшу не прошли для Паши без последствий. Он говорил, что в начале осеннего семестра на пятом курсе его вызывали в партком института и давали советы, дружески так, но напористо: «Вы еще молодой, многого в этой жизни не понимаете, можете сдуру понаделать ошибок, а потом всю жизнь жалеть…»
Странно другое. Пашка все пять лет хорошо учился, более ровно, чем, например, Сашка. Средний балл по диплому у него выходил на 4,5, без троек. Но при защите диплома его почему-то сделали крайним по списку. Защиту назначили на день, когда в потоке курса осталось только два человека – он и еще один хвостист, надеявшийся все же успеть пересдать свои двойки и пропихнуться на защиту диплома.
Ребята с курса в тот июньский день уже успели позабыть про институт с его экзаменами, тем более что по телеку транслировали чемпионат мира по футболу. Вечером к ним прибежала сокурсница с диким воплем, что Пашка на межэтажной лестнице вены порезал и, наверное, уже умер! Началась суматоха, вызывали скорую, пытались пережать жгутом порезанную руку, остановить кровь… Слава богу, вовремя его на этой лестнице обнаружили, медики успели спасти.
После всего пережитого выяснилась причина попытки суицида – на защиту диплома допустили только его одного, но препы с кафедры на комиссию не пришли (как и сам научник, руководитель его диплома). В итоге на Пашкиной защите были какие-то случайные люди, которые, не дав парню закончить доклад, обрушились на него с совершенно дикими претензиями в неубедительности и халтурности дипломной работы. Это было странно, ведь Шусараша, да и другие ребята, знакомился с его материалом. Работа была сделана на вполне достойном уровне, имела массу новинок в технологиях и расчетах, а главное, и сам «кирпич», и вся графика были аккуратно оформлены, титульный лист разрисован положенными визами от всех требуемых согласующих лиц.
Пашка вообще упрашивал на кафедре, чтобы его пропустили в первых рядах (тем более что некоторые ребята не успевали и сами просили передвинуть их взад) – ему хотелось на июнь слетать на уральскую родину. Но по совершенно неаргументированной причине разрешение на то не дали. Типа список с датами утвержден деканом, а он уже уехал «на симпозиум» и не скоро вернется.
Так вот, выводом государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) было сначала вообще не засчитывать эту работу, но потом все-таки кто-то из присутствующих немного заступился за него, и ограничились трояком – оценкой, не только в корне не соответствующей знаниям и компетенциям Пашки, но и вообще редчайшей в практике защит дипломных проектов на факультете. Ближе к выпускному прошла утечка, что разыгранный на защите спектакль комиссии был уже давно заготовлен и прорепетирован как показательное наказание парню в связи с тем, что, несмотря на предупреждения парткома института и органов, он, как оказалось, продолжал настойчивые попытки в течение всего учебного года 1981—1982 отправлять письма Эльжбете, в том числе и через ее однокурсниц из Института русского языка.
Как известно, в декабре 1981 года путч «Солидарности» в Польше был подавлен, причем даже не понадобился, как раньше, ввод в страну войск Варшавского договора. Генерал Войцех Ярузельский справился своими силами. Однако грубое насилие только на некоторое время внешне купировало нарыв, причины же массового недовольства поляков так и не были устранены.
Паша после выздоровления и совместного прощания с ребятами на выпускном со своим троечным дипломом (собственно вкладыш с оценками тогда никто и не проверял…) тем не менее смог устроиться в один престижный подмосковный отраслевой институт, тесные связи с которым были им заложены еще при подготовке дипломного проекта. Правда, здесь не обошлось без фиктивного брака для прописки. Вообще, жизнь Сашкиного друга после того события многому научила. Паша перестал излишне откровенничать и доверять незнакомым людям, научился решать проблемы, заинтересовывая и мотивируя нужных людей (свойство, которое Александру так и не удалось в себе развить несмотря на то, что он, в общем-то, старался сломать в себе некоторые интеллигентские замашки). При этом Павел вел теперь достаточно замкнутый образ жизни. Что, впрочем, не помешало ему за десять после институтских лет пару раз жениться, и уже не фиктивно. После победы демократии в новой России Пашка несколько раз засветился на митингах у Валерии Новодворской. Так как те митинги праволиберальной партии ДС были чуть ли не единственными в стране несанкционированными, то особо нарывающиеся участники после митинга вместе с Валерией могли прогуляться до ближайшего отделения милиции, где после небольших формальностей им выдавалась справки о причине временного задержания.
Собрав несколько таких справок, поумневший Пашка сходил в посольство США и в результате этой мало кому приходящей в голову наглости получил разрешение на переезд в Америку в качестве политического беженца… Получив приглашение, он думал о предстоящем переезде почти целый год (за это время у его новой гражданской жены родился ребенок), но в итоге все-таки улетел на ПМЖ в Штаты. Как сложилась там его дальнейшая судьба, Шусараша выяснить не смог. Зная старого своего товарища, можно было предположить, что он там должен был так или иначе вписаться…
Самотестирование на предмет глубины влюбленности (за 9 лет до даты «Ч»)
Однажды Александр проснулся с чувством, что в его жизни случилось что-то невообразимое. И он понял, что причиной этого ощущения был необычайно реалистичный сон, редкий сон в ярко выраженных красках, с невообразимыми свободными полетами над всеми другими людьми, сон с признаниями его и ему в любви, сон с Зоей, сон, от которого с каждой секундой мало что оставалось…
Шусараша потом много раз думал, состоялась бы та его любовь к Зое, если бы не приснился и не запомнился тот невероятный красочный и необычный сон. Другой бы парень, наверное, тут же побежал на свидание к объекту своей любви, чтобы признаться ей в своих чувствах. Выглядело бы это, вероятно, так: «Милая, прошло полтора года после нашего знакомства, это срок, чтобы я смог понять наконец, что люблю тебя! Будь мне женой и верной подругой! Я сделаю все, чтобы сделать тебя счастливой. Поверь мне, ты не пожалеешь…»
Но для Сашки этот толчок был всего лишь причиной для начала испытаний нежданно пришедшего чувства – на самом ли деле это и есть та самая любовь или, может, это всего лишь остатки озарения от удивительного сна? Логика самопроверки была примерно такая: «Надо испытать себя, проверить на слабо. Испытать – значит подтвердить, что я могу перебороть то, чего больше всего боюсь на свете. А боюсь, я, пожалуй, высоты и змей! Брр…»
С высотой все удалось испробовать легко. В тот же день он поднялся на крышу родной девятиэтажки через практически всегда незапертый чердачный люк и осторожно пошел к краю плоской крыши их панельки. Остановился в метре и понял, что ноги больше не идут… Стало интересно, что будет дальше. Вернуться, что ли, быстрее к люку? Какое-то время искушение это не проходило, и была крайне навязчивой идея не дурить. Другая мысль состояла в том, что если это все же любовь, то недосягаемый образ его любимой должен помочь ему сдвинуться вперед. Пожалуй, что помог, через несколько минут он уже сидел, дрожа, на парапете, в довершение свесив ноги в пропасть. Вроде ничего страшного, только кружится голова и немного подташнивает, а пальцы рук самопроизвольно впиваются сзади в бетон парапета. Время шло, он сидел и даже начинал привыкать к новому состоянию. Понемногу Шусараша смог придать своему наклоненному назад телу более вертикальное положение и даже заставил себя частично наклониться вперед, что позволило смотреть вниз на улицу.
Люди на улице казались мелкими муравьями, шли себе каждый по своим делам, мамашки везли коляски с детьми, дети пинали мяч, вот только какой-то мужик пялился теперь наверх, прямо на него! Потом тот начал громко кричать и привлекать внимание других прохожих. Сашка удивился: «Что они тут такого увидели? Меня, что ли? Черт! Еще подумают, что я сигануть вниз собрался, и милицию вызовут!» Парень быстро поднялся, почему-то даже не осознавая в этот миг, что сейчас-то он как раз в самом деле стоит в стремном положении, буквально в сантиметрах от пропасти – чуть покачнется и тогда полетит вниз. Однако через минуту он все же неторопливо скрылся за дверью своей квартиры.
Отдышавшись, Шусараша понял: «Первое испытание я прошел. Теперь змеи, но где их взять? Не в зоопарк же идти, там они безопасны. В лес? Весна, рановато еще, да и где мне их там сыскать?» За всю предыдущую жизнь он видел живьем только один раз гадюку, недалеко от деревни деда – драпал потом метров триста… А ведь гадюка когда-то укусила его мать, когда та была еще малым ребенком. Возможно, оттого и возник у него некий генетический страх перед змеями, пусть и текла в его жилах какая-то микрочастица змеиного яда после того материнского укуса.
Случай проверки на змей предоставился только через год. Александр уже работал на своей первой работе в головном НИИ Всесоюзного научно-производственного нефтегазового объединения. Тогда и случилась в марте командировка в Туркмению. База газодобывающего предприятия находилась в полусотне километров от города Мары. В свободное от работы время ему как-то захотелось прогуляться по пустыне, тюльпаны уже сошли, и вместо красочного ковра снова зияла мертвая пустота с примитивным пейзажем: барханы и редкий саксаул. Знойной жары, к счастью, пока не было – она приходит с апрелем.
Шусараше тогда и в голову не пришло, что прогулка по пескам в зоне видимости от поселка может чем-то грозить нехорошим. Скорпионов и фаланг он уже к этому моменту насмотрелся на самой базе, где им с напарником выделили на время для проживания в производственном цеху комнатушку с кондиционером. Напарник сразу предупредил: «Пойдешь вечером в туалет – возьми газету!» – «Да я если только по-маленькому туда…» – «Да не для того газета, о чем подумал, свернешь ее в трубочку и будешь в коридоре фаланг отгонять! Не дрейфь! Все тут привыкают к этой нечисти. Днем их нет, прячутся, народ кругом крутится, а ночью выползают из щелей, гады. И скорпиончики с ними тоже случаются. Мух, мокриц и прочих насекомых в здании много, потому членистоногие здесь и облюбовали себе местечко, охотятся на них…»
И вот девственная настоящая пустыня, никаких тебе дорог и троп кругом, а парень идет себе, зажмурив от солнца глаза и сквозь щелки любуясь сыпучими просторами, собравшими в каждом бархане квадриллионы песчинок. Пустыня, о которой раньше доводилось только слышать или видеть глазами тэвэшника Юрия Сенкевича в «Клубе путешествий». И вот он теперь сам – покоритель Кара-Кума! Неважно, что в нескольких километрах гудит производство, бегают люди и сюда от них потягивает запахом с газовых факелов. А то дома бы спросили: «Сам-то был в пустыне?» – а без сегодняшнего выхода в поле пришлось бы промямлить: «Да так, видел ее много раз из окон машины и поезда…»
Веревка! Откуда здесь веревка? Уж не змея ли? Эфа! Настоящая песчаная эфа с зигзагообразным узором в виде крестиков по всему телу! Ну ты даешь! Довелось увидеть живую эфу! До того, проезжая на газике по местным асфальтовым дорогам, Сашке приходилось видеть раздавленных змей. Но это здесь не экзотика, экзотика – вот так стоять от нее в пяти метрах и рассматривать полудуги свернувшегося напряженного тела змеи. Небольшая еще гадина, где-то, если разогнуть, лишь полметра с гаком получится. Говорят, они плохо видят, но прекрасно слышат – почувствовала мои шаги по песку, вот и насторожилась.
А сейчас уже начала предупреждать о себе шуршащим звуком. Поползла наконец своим боковым ходом, отбрасывая голову вбок и затем подтягивая к ней заднюю часть туловища, и уж только в самом конце этого хода змея передвигает вперед и саму центральную часть своего тела. Красиво получается, крайне необычно, а след на песке – как косые полоски с крючками на концах. Но эта ползет все же как-то нехотя, видимо, еще слабенькая после зимней спячки, ведь на базе работяги говорили, что змеи не так давно вышли на поверхность из зимних нор.
Тут Александру пришла сумасбродная идея-фантазия: а раз она еще такая малоподвижная, то, может, догнать ее, да взять и перепрыгнуть? Это точно будет засчитано сдачей долгожданного теста на любовь к Зое! Ведь он планировал что-то, когда-то будет такая его встреча со змеей. Вот, видимо, этого случая судьба и ждала. Нет, конечно, не получится ничего из такой глупой затеи. Будь здесь твердая поверхность, то можно было бы подпрыгнуть хоть на метр и потом пролететь 4—5 метров. На городских соревнованиях Сашка как-то прыгнул в длину на 6,28 с разбега, но это даже не принесло ему призового места, хотя для женщин такой результат в середине 50-х был мировым рекордом. Здесь из-за рыхлого песка вообще не оттолкнешься и даже не разбежишься – ноги сразу же утопают в сыпучей вязкости. Тем не менее он еще долго шел по ее следам, рассматривая необыкновенный танец ее бокового скольжения по песку. Иноходка! Кажется, так больше ни одна змея не может двигаться, только эфы. Красавицы! Элита змеиная! И она его боится, она от него уползает, а не он от нее!
Вечером, размышляя над встречей с эфой, Александр уверовал, что все же с честью прошел и этот свой надуманный тест. Ведь он не испугался, не убежал прочь, наоборот, он ее долго преследовал, а главное, научился видеть в страшной ядовитой твари ее природное великолепие, одно из чудес эволюции мира. Нет, в самом деле, он перестал их бояться, а потому – второй зачет!
Сейчас можно только посмеяться над тем сопливым парнем, над его вульгарной романтикой, которой он заменил реальные шаги к сближению с понравившейся ему девушкой. А ведь к тому моменту опыт этой самой плотской любви у него уже был, но душа-то искала чего-то другого, пусть и наивного, но идеально чистого и искренне доброго.
- * * *
Еще один проверочный тест для Шусараши с высотой случился уже при совсем иных обстоятельствах, в присутствии самой зазнобы Зои. Они вместе были в походе на Кавказе. Рядом с их палаточным лагерем находилась эффектная отвесная скала высотой метров в сорок, наверх к которой вела сначала тропа, а потом еле угадываемые снизу ступени в самом теле скалы. В общем, альпинисту или скалолазу взять ее было вполне по силам. Даже без страховки. Однако в их группе водников таковых не было. Зато Зойке приперло попробовать себя на этой стене – типа «я круче мужиков!».
Конечно, это снизу все просто казалось. Когда пройдешь, балансируя, две трети пути по осыпающейся тропе, то далее надо уже натурально лезть вертикально на гору. Лезть, цепляясь руками и ногами за выступы скального массива, – это уже большая разница. Это уже не тропа. К тому же перепад высоты здесь вполне приличный – на финише будет никак не менее высоты десяти- или даже двенадцатиэтажного дома! Только вот рисковать не имело никакого смысла – еще вчера они всей группой дружно взошли на пик, но по обходной безопасной дороге, занимавшей пути всего-то минут пятнадцать-двадцать.
Зойка долезла в лоб примерно до седьмого этажа, при этом все друзья снизу буквально умоляли ее срочно вернуться. Наконец она одумалась и спустилась. Довольная, хотя ободранные в кровь руки еще долго дрожали, а речь была эмоционально сбивчивая.
Чуть позже среди туристов состоялся такой разговор:
– Зойка, а что ты мне дашь, если я поднимусь наверх? – спросил один из парней по кликухе Мамонт. – Вот если ты мне пообещаешь поцелуй, то я тогда готов попробовать!
– Нет, у тебя тоже не получится. Там нужна специальная подготовка. Я это теперь точно знаю, поверь. И вообще штука опасная. Риск не оправдывает цели. А насчет моего поцелуя – подарю любому, кто из вас взойдет наверх по этому склону. Это я готова пообещать! Тем более что мой поцелуй при мне стопроцентно и останется.
Однако тот после ее подтверждающих слов уверенно вышел к подножию скалы. Парень звался Мамонт, потому как он и в самом деле был большой: килограммов за сто веса и ростом метр девяносто. Несмотря на некоторую тучность, храбрости и ловкости ему было не занимать. С некоторыми перерывами и обдумываниями пути он за четверть часа взошел вверх и радостно помахал всем с края обрыва. После чего, видимо, пошел на спуск уже по обходной дороге. «Вот он, настоящий герой! – почему-то радовалась больше всех Зойка. – Заслужил мой поцелуй, ничего не скажешь! А что, есть еще идиоты лезть?»
Шусараша видел, как карабкался Мамонт, и понял суть его правильной тактики. В принципе, он бы мог теперь повторить данный путь. Высоты он в последнее время стал меньше бояться. Нашел в себе какие-то внутренние установки, которые позволяли отвлечься от данной фобии. Но только делить поцелуи Зои с другим ухажером ему казалось противным.
Тем не менее Сашка и сам не заметил момента, как ноги понесли его к скале. Пульс и давление в нем зашкалили, злость на Зойку, Мамонта и самого себя – не передать словами! Единственное, чего он сейчас не боялся и абсолютно знал, что такого с ним не случится, – так это погибнуть вдруг.
Скорость подъема Шусараши была раза в два быстрее, чем у его предшественника. Отметившись поднятой рукой на вершине скалы, спустился он вниз все тем же путем. Это было сделано на автомате. Потому как если думать, куда и как ставить руки и переставлять ноги, ни в жизнь не спустишься. Проще опять забраться вверх. Когда к лагерю вышел Мамонт, Сашка тоже фактически уже сбегал от скалы последние метры по тропе. Их обоих друзья бурно приветствовали криками и хлопаньем в ладоши.
Мамонт, не имея еще представления о том, что без него Шусарашка тоже поднимался на скалу, подбежал к Зое раньше и показал ей рукой на свои губы, типа готов принять от нее расплату. Девушка, ничуть не смутившись, поцеловала его практически в губы, да еще с задержкой на две-три секунды, как будто это происходит на свадьбе и их постановочно фотографируют. Такой фривольный поцелуй, естественно, был в ажиотаже поддержан заинтригованной публикой.
Далее была очередь награды для Шусараши, но он даже не подошел к своей любимой, а остался стоять в стороне, как бы не понимая, что от него хотят.
– Ну, Шусарашка! Долго мне тебя ждать? Ты подойдешь или ты хочешь, чтобы я за тобой здесь гонялась?
– Не стоит! Мой подвиг был бесплатным! Если уж тебе так хочется поцеловаться, то повтори опять с Мамонтом. Мамонт! Я дарю тебе еще один Зойкин поцелуй!
Зойка засмеялась и тут же, подбежав к Мамонту, чмокнула его снова. Непринужденно, но уже не в губы, а в щеку, как дальнего родственника…
Позже в уединенном месте она спросила Шусарашу: «Почему ты так поступил? Побрезговал? Не понравилось, что я перед тобой Мамонта первого поцеловала?»
– Ну вот, видишь, ты у нас девочка умная, понятливая! Как сказал поэт: «Они перешли на „ты“, а что-то главное пропало…»
- * * *
Потом были в его тестовой программе и обратные проверочные тесты – простые, незамысловатые, но требующие от Зои определенных и, что важно, мгновенных решений, идущих от ее внутренней сути. Почти все они были с отрицательным для влюбленного парня результатом. Девушка не смогла ради его (якобы) дел оставить или перенести свои, ради его (якобы) лечения в походе пожертвовать посиделками у костра, ради его (в реальности) душевного спасения срочно прийти в час Х на запрошенную помощь. На открытость парня она отвечала насмешливой закрытостью, на доброту – издевками и лукавой черствостью. Наконец, на знаки преданности и признания в любви – изворотливым враньем и банальными увертками. Она хоть и восхищалась им как редким для их времени рыцарем, но тут же смеялась, говоря, что на самом деле всем дульсинеям нравятся брутальные ловеласы или даже откровенные хамы-хохмачи.
Но все равно это были лучшие и счастливые годы в жизни Шусараши. Ведь не зря же мысль великого Конфуция гласит: «Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты!» Впрочем, понятие «счастье» – не обязательно сама любовь. Отсутствие несчастья – уже самое что ни на есть счастье. А так, конечно, бескорыстная отдача частички себя другому человеку или получение от него для самого такой частички, безусловно, и есть настоящее человеческое счастье!
Еще говорят, что у кошки целых девять жизней, так вот у человека их тоже может быть около того. Просто каждая человеческая жизнь – это и есть его главная любовь… Конечно, у людей любовь и счастье, в отличие от кошек, понятия относительные. Чем человек более творческая натура, тем более реальными выглядят его миражи. Да и понятие «любовь» – оно многогранно. Можно безмерно любить родителей, детей, животных, природу, а можно быть по-настоящему счастливым от любви к своей работе, от сделанных научных открытий, от спортивных достижений, от бессонных творческих минут и часов, от незабываемых путешествий или приключений. Но без того фокуса счастья, о котором было сказано выше, человек все равно останется обделенным судьбой.
В глубокой старости он может пересчитать все свои дни былого счастья, по-честному отфильтровать их (отмыть от шлама, как золотодобытчик ищет крупинки золота), оставив только те знаки, когда случалось настоящее счастье. Вот только тогда и прояснится, сколько же их в самом деле случилось за долгую жизнь, сколько «внутренних жизней» подарила человеку судьба. Если лоток окажется совершенно пустым, ваша жизнь, ваша судьба, ваш ангел-хранитель обделили вас, а вы, наверное, одновременно обманули и их надежды. Ведь для чего-то же вы родились, росли, трудились, плодились? Не просто же для того, чтобы стать винтиком в механизме меняющегося пространства-времени?
Шлагбаум на въезде в науку
(за 7—9 лет до даты «Ч»)
Неким рубежом и индикатором итогов обучения в советской стране считалось то, куда и кем бывшего студента распределят после окончания вуза. Разумеется, как и теперь, ранее одни места профессиональной деятельности считались престижными (например, оставление в очной аспирантуре вуза или устройство в уважаемый отраслевой или даже академический НИИ), другие же совершенно никак не котировались – болото: ни перспектив, ни зарплаты, ни творческих начал, ни самоудовлетворенности. Впрочем, у многих студентов были искаженные представления на этот счет. Кому-то было достаточно вернуться (или остаться) в город под крылышко своих родителей и при этом неважно каким родом деятельности заниматься (формальная цель получения диплома о высшем образовании ведь достигнута). Другим этот диплом нужен был лишь как трамплин в романтику странствий и трудностей, да, может, еще и к рублю подлиннее в придачу. Комиссией вуза (часто с участием в ней представителей от профильных производств) при распределении на работу в принципе учитывались условные рейтинги выпускников, заработанные по результатам семестровых учебных аттестаций. Первое, что обычно озвучивали в присутствии распределяемого студента, – это средний балл по учебе, наличие премий от студенческого научно-технического общества СНО (если таковые случались), но все же самый главный акцент касался совершенно других заслуг, а именно: что ты сделал на поле общественно-политической комсомольской деятельности.
Сейчас, когда родители платят за обучение в высшей школе приличные деньги (где-то это стоимость автомобиля, а где-то и целой московской квартиры!), нет никаких гарантий, что после окончания престижнейшего вуза удастся найти отпрыску достойную работу по его специальности. Во времена же СССР все выпускники университетов и институтов были просто обязаны не менее трех лет отработать по государственному распределению. Правда, и учеба тогда была априори бесплатной, в престижные вузы принимали не абы кого, а только после сдачи не всем посильных экзаменов. А потому получаемые после вуза блага однозначностью коррелировали с его престижностью.
В факультетском выпуске Шусараши большого ажиотажа относительно распределения не наблюдалось. Последние два-три года практически все студенты активно поездили по стране на производственные и преддипломные практики, где не только черпали информацию об особенностях выбранной ими (осознанно или по дурости) будущей профессии, но и заводили на местах связи с потенциальными начальниками, обговаривали условия будущей работы, перспективы заработка и готовность жилья для молодых специалистов.
Другая часть однокурсников тоже особенно не суетилась – ведь за них уже все решили родители, определили, куда и зачем пойдет работать ребенок, договорились, как организовать нужный вызов на конкретные ФИО от предприятия (иногда совсем не профильного, но зато по месту работы родственников или друзей родителей). Вообще, в те годы нефтегазовый комплекс в СССР развивался наиболее бурно и динамично. Так что даже последний по учебному рейтингу двойко-троечник имел возможность кое из чего выбирать. Спрос (заявки от предприятий) на нефтяников и газовиков кратно превышал запаздывающее предложение.
Казалось бы, еще совсем недавно Александр видел свою будущую работу молодым специалистом исключительно в полевом варианте на одном из крупных месторождений Западной Сибири в еще не обустроенном, только рождающемся молодежном городе. В плане распределения его интересовали не само место («пусть хоть в тундре, хоть в тайге»), не бытовые удобства («и койка в общаге-вагончике сойдет»), а некоторые косвенные сопутствующие факторы жития там: как все будет с точки зрения возможностей вылазок на природу, что там с рыбалкой и охотой, имеются ли пороги на местных речках, ну и разная прочая романтическая чепуха.
Однако знакомство и полуторагодичная научно-исследовательская деятельность под руководством профессора Жюля во многом изменили у Шусараши его взгляд на место приложения своих будущих, еще только формирующихся профессиональных навыков. Парень хотя еще и бредил многими прежними романтическими ценностями работы в поле, но уже с большей щепетильностью подходил к профессиональным факторам. Его теперь заботила и суть его будущей деятельности в профессии: будет ли он тупо по приказу сверху крутить задвижки и работать кувалдой на скважинах или все же ему доверят полноценную инженерную работу: делать расчеты, планировать геолого-технологические мероприятия, а значит, дадут возможность научиться на практике управлять разработкой пластов, чтобы оптимизировать выработку из них запасов нефти и газа.
К моменту похода на комиссию по распределению Александр имел в своем активе средний балл 4,75, две премии на институтском СНО (студенческом научном обществе), были даже одна опубликованная и одна принятая к публикации статьи в так называемых ВАКовских журналах. Казалось бы, теперь ему прямая дорога в аспирантуру, где его шеф Жюль по собственной инициативе предусмотрительно пробил для Сашки целевое место. Но ни сам Шусараша, ни тем более его профессор никак не полагали, что кандидат в аспирантуру без солидной поддержки парткома и комитета комсомола – это вообще никакой не кандидат… Пусть лучше пропадет выделенное лично ректором место в очной аспирантуре, но человек, никак не отмеченный за все пять лет обучения достижениями на комсомольском поприще, – это ноль без палочки.
Шусараша интуитивно этого поворота опасался (хотя в душе надеялся, что отсутствие нужного комсомола, как всегда, восполнит его верный спорт). Тем не менее загодя он пытался охладить пыл самоуверенного Жюля, но тот, видимо, еще живя годами своей молодости (а это оттепель 60-х), так и не познал в должной мере всего маразма наступившего в науке развитого социализма. Еще Жюль свято верил в свой непререкаемый авторитет признанного в стране ученого, заслуженного лауреата многих премий и пр.
Решение комиссии стало ушатом холодной воды даже не столько для самого парня, сколько для хорохорившегося Жюля, которого в тот день в итоге увезли из института на неотложке. Ко всему, хоть Александр и вышел на комиссию первым (как отличник и потенциальный краснодипломник) и поэтому имел возможность выбирать из самых лучших предложений, но по настойчивому указанию своего наставника от этой возможности красиво отказался, в результате чего комиссия его формально приписала на заурядное место на наиболее скучном и хиреющем предприятии средней полосы России.
Все же надо отдать должное профессору Жюлю – после нервного срыва и недельного бюллетеня он опять с новыми силами и идеями бросился на амбразуру бюрократии. Хотя в итоге Жюль так и не смог без визы парткома оставить Саню у себя на кафедре в аспирантуре, все же изменил место его распределения на крайне престижный столичный НИИ, входящий в головное отраслевое научно-производственное объединение. Жюль предварительно лично договорился с директором этого заведения о том, чтобы направляемый к ним молодой инженер, помимо положенной ему корпоративной деятельности, занимался по мере возможности и интересующей профессора темой.
Жюль был уверен, что через три года такой практики Александра можно будет либо определить в заочную аспирантуру, либо прикрепить к «керосинке» от уважаемого НИИ как целевого соискателя кандидатской степени. Сашу этот второй вариант устраивал даже больше первого – постоянно работать в контакте с бурлящим Жюлем ему с каждым месяцем становилось все утомительнее.
- * * *
Любопытен разговор парня в тот злополучный день с комиссией вуза по распределению:
– Алекандр, кафедра рекомендует вас для продолжения обучения в нашей аспирантуре и для занятия научной деятельностью. Безусловно, вы способный человек, хотя учились неровно, но в итоге многие предметы пересдали и, видимо, по итогам получите свой красный диплом. Похвально. Однако вы не можете не знать, что к кандидатам в аспирантуру, да и вообще при оставлении в должности стажеров на кафедрах нашего вуза предъявляется особое требование – это проявить себя на общественной работе. Причем не абы какой работе, а показать свои организационные, идейные и моральные качества, отвечая на уровне института или хотя бы факультета за какое-нибудь важное направление такой деятельности. Вот в этом году свои рекомендации партком дал только пяти нашим выпускникам: двое из них работали в комитете комсомола вуза, еще трое были членами комитетов ВЛКСМ факультетов. У вас же в деле по общественно-политической деятельности только выговоры, хотя и снятые. Да, из вашей характеристики мы видим, что вы много времени посвятили участию от института в различных спортивных мероприятиях. Это, конечно, похвально. Но эти призовые места, на наш взгляд, никак не покрывают вашей пассивности в комсомоле. Вы у нас далеко не олимпийский чемпион, чтобы партийная организация решилась поручиться за вас в нарушение своих же правил. Каждый наш аспирант в перспективе – это кандидат на преподавательскую работу, в перспективе это будущие доценты и профессора. А преподаватель – это не только, даже не столько ученый, сколько в первую очередь воспитатель нашей советской молодежи! Как же вы будете ее воспитывать, когда сами пять лет просидели серой мышкой, не отметившись ни в одном из десятков общественно-политических мероприятий вуза? Нет, комиссия считает, что тебе еще рано заниматься научной деятельностью, несмотря на определенный задел, имеющийся в совместной работе с уважаемым профессором. Необходимо сначала пройти хорошую производственную школу, заслужить уважение от партийной организации, проявить себя как передовик, возможно, даже заслужить право называться коммунистом. Вот тогда приходи к нам в аспирантуру, и мы с огромным удовольствием примем и будем рады тому, что это будет достойный выбор!
– Извините, конечно. Вам решать, достоин я или не достоин места в аспирантуре. Но мне кажется, что научная деятельность состоит в другом. Наука аполитична, и нет только советской науки, она всемирная. Ну, если только речь не идет об оружии. Я последние месяцы много читал зарубежные журналы. Судя по ним, наш отечественный нефтяной инжиниринг отстает лет на двадцать от западного, высокотехнологичного. Спрашивается: почему? Видимо, отчасти оттого, что у нас такие жесткие фильтры везде поставлены. Партбилета нет – тогда и шлагбаум в науку закрывается. Впрочем, это не мое теперь дело – поеду, как советуете, в тундру, к белым медведям и к белым воронам – таким, как я сам. Вы правы, что производственная практика всегда полезна, тут я полностью солидарен, и меня это ничуть не пугает и даже не расстраивает такая перспектива. Но вот с чем не могу согласиться с вами, так это про мой спорт. Вы о нем судите очень поверхностно, как вообще о многом, что вас окружает. Столько пота, сколько с меня за пять лет сошло на тренировках и соревнованиях за нашу «керосинку», никакие комитеты комсомола и близко на своих мероприятиях не поимели. Посмотрим лет через десять, какие из указанных комитетчиков в Менделеевы выйдут, но я думаю, это только when the pigs fly…
– Вот! Все-таки в корень наш партком смотрит! Гнильцо-то и вышло наружу! Это он еще нас учить будет, что есть наука и кто ее достоин! Думает, мы английский язык не знаем. Это ты еще скажи спасибо, что я правильно эту поговорку про дождичек в четверг понял, а то бы за pigs – свинью ты у меня тут fly – полетел бы! Иди-ка ты, парень, вон отсюда!
Но тут в аудиторию заглянул Жюль, и то, что до этого высказал Шусараша, по сравнению с профессорскими крылатыми выражениями уже не стало иметь никакого значения… Присутствовавшие в комиссии производственники сначала ошарашенно следили за начавшейся при них и все нарастающей словесной баталией, потом они деликатно пытались разнять профессора и председателя комиссии (он же один из проректоров), буквально за грудки схвативших друг друга и мотавших свои тела из стороны в сторону. Жюль был постарше, но настырнее. Однако в какой-то момент он схватился за сердце и начал буквально сползать на пол.
После его падения комиссия и с ними Сашка переключились на экстренную эвакуацию к медикам. Потрепанный оппонент тоже вынужден был в полуобморочном состоянии «выйти покурить». На следующий день, узнав, что Жюль забюллетенил, он тоже оформил себе медицинскую справку, опасаясь, что вину за болезнь профессора (не дай бог, у того инфаркт!) возложат на него.
В итоге битва слона и носорога закончилась вничью, через пару недель ректор лично их примирил… Вот, однако, какие страсти в интеллигентных кругах могли кипеть в те годы условного застоя! А какие еще эмоции кипели тогда на чисто научных семинарах, на защитах некоторых диссертаций! «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…»
- * * *
Далее в жизни Александра была преимущественно проектная камеральная работа в центральной московской научно-производственной организации. Это там однажды в их рабочей комнате появилась кареглазая застенчивая Иришка, там в столовой за обедами зародилась их дружба, которая могла перерасти, но так и не переросла во что-то большее. Опасаясь, что ненароком перейдет со своей подопечной стремительно приближавшуюся красную черту, Шусараша в самый пик этой дружбы натурально бежал в другое подразделение института, где было много командировок по всем нефтегазовым регионам СССР. В ответ же на его побег обиженная Иришка по-женски отомстила – скоропалительно вышла замуж.
Практически весь свой срок в статусе молодого специалиста Шусараша промотался по стране: пустыни Туркмении сменялись тундрой Ямала, а Васюганские болота чередовались с утесами рек Лены и Енисея. Это были, пожалуй, одни из самых счастливых и быстро пролетевших из его лет жизни. Саня много путешествовал по стране (причем за казенный счет!), в каждой своей командировке набирался профессионального и жизненного опыта, более опытные коллеги начали считаться с его мнением по рабочим вопросам, начальники тоже прислушивались к его предложениям по проектам, в какой-то момент ему наконец начали доверять и самостоятельные работы.
Вершиной Сашкиного профессионального роста стали звонки-вызовы в центральный НИИ от периферийных нефтегазодобывающих предприятий: «В следующую командировку пришлите обязательно нам того Санька, что приезжал в прошлый раз, – только его, других нам не надо!»
Зарплата в его институте, правда, была смешная. За вычетом подоходного налога да еще за бездетность она еле-еле дотягивала чистыми до ста рублей. Друзья подсмеивались: «Как же твой тезис про то, что западло работать за зарплату, унижающую чувство собственного достоинства?» – «Это все верно, мужики. Но здесь есть одно исключение: зарплата не имеет значения, когда находишь работу, на которой ты удовлетворяешь свое научное любопытство за государственный счет!» Впрочем, и с оплатой своего труда после перевода в новое институтское подразделение Шусараша лукавил. За счет постоянных командировок, а с ними полевых начислений, за счет премий по проектам, в которых он участвовал, фактически на руки денег выходило в два раза более.
Единственное, с кем у Александра в НИИ кардинально не сложились отношения, – так это опять с парткомом института и лично с его секретарем Ваниным. Камнем преткновения становились овощные базы, стройки, колхозы и прочие места трудового воспитания советских инженеров. Вместо того чтобы смиренно с другими ИТРами помогать городу и колхозам, оттягиваясь на природе с мужиками за водкой, Шусараша начинал калькулировать трудозатраты и простои, из чего получалось, что их так называемая помощь не только непродуктивна в организационном плане, но и разорительна в масштабах отраслевого НИИ, да и всей страны. Эти вопросы он регулярно поднимал на любой партийно-комсомольской говорильне в уже ставшем ему родном научно-производственном объединении и вообще сравнивал порядки в стране с китайской культурной революцией, что, естественно, бесило ответственных за идеологию чиновников.
Проверенный механизм воздействия «вызов строптивца на партком» Ванину ничего не дал – вместо порки пришлось взять на рассмотрение от наглеца увесистый, заранее им подготовленный отчет со скандальными цифрами о непроизводительных потерях, в титуле адресованный в партийные органы района и города. В ответ на высказанные Шусараше идеологические обвинения он взял да и озвучил публично прямо из своего отчета (возникшего как черт из табакерки) ряд шокирующих цифр. Так, например, продуктивной работой их бригада на городской стройке за весь двухнедельный срок местной командировки была занята лишь 5,5 часов (а остальное время – ожидания, простои, переделки вчерашнего, инструктажи, планерки и пр.). Ко всему некоторые члены парткома явно поддержали эти сомнительные выводы и настояли вписать в протокол крамольное: «поставить соответствующий вопрос в вышестоящем партийном органе». Парторг после такого заседания вынужден был со своим замом, закрывшись в кабинете, снимать стресс, зарекшись вообще этого чумного парня привлекать к непрофильным трудовым повинностям.