Трагический эксперимент. Книга 9
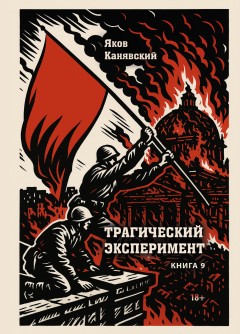
Народ, забывший своё прошлое, утратил своё будущее.
Сэр Уинстон Черчилль
© Канявский Яков, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Фронт
Текут рекой за ратью рать,
Чтобы уткнуться в землю лицами;
Как это глупо – умирать
За чей-то гонор и амбиции.
Игорь Губерман
Глава 1
Отступление
В течение первого дня войны авиация потеряла около 1200 самолётов. Только Западный фронт потерял 738 самолётов, из них 528 были уничтожены на аэродромах. Мобилизационные запасы располагались около западной границы, и в связи с вынужденным отходом они были утрачены, из-за чего с первых дней войны пришлось испытывать трудности в боеприпасах, вооружении и горючем.
Директива Главного военного совета на ввод в действие плана прикрытия была отдана западным приграничным округам лишь поздно вечером 21 июня. Но и в ней настойчиво звучало требование «не поддаваться ни на какие провокационные действия, могущие вызвать крупные осложнения». Пока её передавали по инстанциям, потеряли ещё 4–5 часов драгоценного времени. Войска не были подняты даже по боевой тревоге. Тем более что к началу войны большинство соединений находились в стадии реорганизации, перевооружения и формирования.
В начальный период войны, по официальным данным, на Западном фронте Советский Союз понёс огромные потери в людях и технике. Из 44 дивизий 24 были разгромлены, оставшиеся 20 соединений лишились в среднем половины сил и средств, ВВС фронта 80 % штатной численности. До середины июля 1941 г. было потеряно убитыми около миллиона бойцов и командиров. Противнику достались в качестве трофеев около 7 тыс. танков (в основном старых), 7 тыс. орудий и миномётов, огромные запасы боеприпасов и горючего. У нас же был острый недостаток даже в винтовках и патронах.
Военная катастрофа 1941 г. и оккупация врагом огромной территории создали сложные экономические проблемы. Были потеряны регионы, где производилось 70 % чугуна, 60 % стали, 65 % угля, 40 % зерна. Острейшей стала проблема трудовых ресурсов.
В первый месяц войны Красная армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, бóльшую часть Украины. До декабря 1941 г. Сотни тысяч красноармейцев оказались в немецком плену. Для ужесточения дисциплины в армии 16 августа 1941 г. советское руководство издало приказ № 270, объявлявший всех, кто добровольно оказался в плену, предателями и изменниками. Согласно приказу семьи струсивших командиров и политработников подлежали репрессиям, а родные солдат лишались льгот, предоставляемых семьям участников войны.
В конце лета – начале осени 1941 г. важное значение имели бои за Киев, Одессу, Севастополь.
В конце сентября пять советских армий попали в окружение под Киевом. Ожесточённые оборонительные бои за Одессу шли до 16 октября. Наиболее длительной была оборона Севастополя – 250 дней. Ещё в августе 1941 г. противник установил блокаду Ленинграда, продолжавшуюся до января 1944 г.
На Московском направлении крупным событием в августе – сентябре 1941 г. стало Смоленское сражение, во время которого начали действовать соединения реактивных миномётов («Катюши»), родилась советская Гвардия, было выиграно время для укрепления обороны Москвы. Битва за Москву является крупнейшим событием начального периода войны.
Изначально Гитлер предполагал взятие Москвы в течение первых трёх или четырёх месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. В частности, битва за Смоленск (10 июля – 10 сентября 1941 года) задержала немецкое наступление на Москву на 2 месяца. Битвы за Киев и Ленинград также оттянули часть сил вермахта, предназначенных для наступления на Москву. Таким образом, немецкое наступление на столицу СССР началось только 30 сентября. Целью наступления являлся захват Москвы до холодов.
К концу сентября 1941 года вермахт преодолел сопротивление советских войск в битве за Смоленск. Скрытно сосредоточив ударный кулак из более чем половины войск, находящихся на Восточном фронте, немцы предприняли наступление на Москву. Группа армий «Центр» начала осуществлять тщательно разработанную операцию «Тайфун». Немцам удалось прорвать сильно растянутую оборону советских войск. Глубоко вклинившись в тылы, они окружили две советские армии под Брянском и четыре под Вязьмой. В котёл попали более 660 тыс. солдат. Резервов за первой линией обороны у советских войск не имелось, и противник получил реальную возможность беспрепятственно выйти к Москве. Однако, героически сражаясь в окружении, советские войска в течение нескольких недель сковали силы 28 дивизий противника.
Так, в начале октября 1941 года немцам удалось прорвать оборону наших войск на Десне и 4 октября их дозоры ворвались на военные аэродромы в районе Юхнова. К счастью, лётчикам и аэродромным командам удалось быстро организоваться, уничтожить разведгруппы немцев, погрузиться в самолёты и уйти в тыл. Но дорога немцам на Москву по Варшавскому шоссе была открыта.
Начальник парашютно-десантной службы капитан Иван Георгиевич Старчак по личной инициативе и не дожидаясь приказа сверху сформировал отряд из 430 десантников, преградив немцам путь на Москву у моста через реку Угра. Заложив фугасы и заминировав мост, вооружённые только лёгким оружием десантники Старчака уже 5 октября приняли неравный бой с передовыми частями 10‐й танковой дивизии LVII моторизованного корпуса вермахта. Мост через Угру был взорван, а отряд Старчака, поддержанный ротой псковских курсантов пехотного училища при взводе «станкачей» и двух орудий, да дивизионом артиллерийского училища, неся большие потери и не имея за спиной резерва, до 8 октября не давал немцам продолжить «шпацирен» к столице нашей Родины.
Ценой огромных потерь и массового героизма советских солдат было выиграно время, замедлен ход немецкого наступления, что дало возможность подтянуть резервы и перейти к организованной обороне.
С каждым днём положение под Москвой становилось всё более драматичным. Гитлеровские войска вплотную подошли к городу (на некоторых участках – на расстояние 20–30 км).
К началу декабря 1941 года немцам удалось выйти к каналу Москва-Волга и, перейдя его, занять Химки. С востока немцы форсировали реку Нару и вышли к Кашире. 8 октября ГКО принял решение об эвакуации значительной части правительственных учреждений и предприятий.
Стремительное наступление немцев на Москву вызвало серьёзную панику внутри столицы. Заброшенные в город сигнальщики и саботажники, а также внутренние «всёпропальщики» сеяли панические слухи, что сопротивление бесполезно, продукты питания и топливо вывезены из города подчистую, а правительство во главе со Сталиным тайно перебралось из Москвы в Куйбышев, поскольку не надеется отстоять Москву. Из города началось бегство перепуганных обывателей и отдельных представителей начальства. Как по команде, почуяв лёгкую наживу, из «хаз» и «малин» повылезал уголовный элемент.
Сталину и в самом деле предлагали уехать в безопасное место. Но, понимая, что такое решение подорвёт моральный дух горожан и защитников столицы, он отказался.
С мародёрством и паникой в городе было быстро покончено. Все предприятия города в авральном режиме переходили на выпуск оружия и боевой техники. Москва ощетинилась противотанковыми «ежами» и надолбами, на окраинах строились баррикады, в небе тучами повисли баллоны заграждения. Школьники и домохозяйки уходили рыть окопы и противотанковые рвы в ближнее Подмосковье. Подростки дежурили на крышах и боролись с немецкими «зажигалками», помогали службе оповещения ПВО, выслеживали вражеских шпионов и сигнальщиков. Специальные группы сапёров минировали здания. Москва собралась в кулак и готовилась к самому худшему – к городским боям с оккупантами.
Войска ПВО Москвы нанесли настолько сильный урон германским ВВС, что очень скоро немцы прекратили массовые налёты на столицу, ограничиваясь редкими ночными бомбардировками небольшими по численности группами самолётов. В те дни выставленные на всеобщее обозрение в городских парках обломки немецких истребителей и бомбардировщиков стали обычным явлением.
В те решающие и грозные дни Центральный Комитет ВКП(б), Государственный Комитет Обороны и Ставка Верховного Главнокомандующего провели большую работу по мобилизации всех сил на организацию защиты столицы.
Более 50 тыс. рабочих и служащих, студентов и преподавателей, коммунистов, комсомольцев и беспартийных москвичей записались в дивизии народного ополчения. Почти два стрелковых корпуса. В народное ополчение никто не сгонял людей из-под палки – советские люди вступали в него добровольно.
Для того чтобы поднять моральный дух москвичей, руководство города приложило огромные усилия, чтобы, как и в мирное время, в Москве в обычном режиме работали магазины, шли фильмы в кинотеатрах, а в театрах продолжали ставить спектакли, оперу и балет.
Понимая, что в войне настал решающий момент, Сталин назначил на должность командующего Западным фронтом Г. К. Жукова. Именно с приходом Жукова на самый ответственный участок обороны Москвы в частях были введены драконовские, но жизненно необходимые меры, повышающие ответственность командиров за бесплодные лобовые атаки и неоправданные потери личного состава.
К концу ноября 1941 года немцам удалось взять Клин. Однако на этом их продвижение было остановлено. Передовые танковые соединения фашистов значительно оторвались от тылов. Фронт растянулся настолько, что передовые части германской армии утратили пробивную способность. Наступившие холода стали причиной отказа техники. Зато части Красной армии валили лес по всей протяжённости оборонительной линии и делали проходы в снегу для переброски войск и техники.
На ходе битвы сказалась неподготовленность личного состава войск противника к ведению боевых действий в условиях северной зимы. Отчаянное сопротивление и героизм советских солдат также оказали огромное психологическое давление на наступательный порыв немцев. В этих факторах заключались причины падения боевого духа германских солдат и фатальный просчёт немецкого командования.
Несмотря на тяжёлое положение на фронте, 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся военный парад. С патриотической речью выступил Сталин. Это произвело колоссальное впечатление на советских граждан, вселив в них уверенность в победе. С парада войска шли на передовую.
Огромную роль в обороне столицы сыграли сводные дивизии и полки НКВД. Теперь мало кто знает, что Наркомат внутренних дел СССР был огромной организацией и его довоенная численность достигала миллиона сотрудников. В НКВД входили не только пограничники, конвойные части, спецслужбы, но и милиция, пожарные, охрана важных объектов и даже коммунальные службы. И многие из этих людей добровольно ушли воевать на передовую.
Из спортсменов московских спортклубов в НКВД был сформирован легендарный ОМСБОН – отдельный мотострелковый батальон особого назначения. Батюшка советского спецназа. Был ОМСБОН не столько мотострелковым, сколько лыжным, зимой 1941–1942 годов неоднократно ходил в рейды за линию фронта, нанося врагу чувствительные потери при минимальных собственных.
При ЦК ВЛКСМ в Москве была организована Центральная диверсионно-разведывательная школа (в/ч 9903 Разведуправления штаба Западного фронта). Молодёжь рвалась мстить оккупантам. На первую запись в кинотеатре «Колизей» пришло три тысячи комсомольцев, хотя в школу набирали только две тысячи курсантов.
Большинство выпускников школы ушли воевать за линию фронта во время битвы за Москву. Из двух тысяч диверсантов погибла почти половина, из них около 350 пропали без вести. 150 человек попали в плен и приняли мученическую смерть. Среди них – разведчицы Зоя Космодемьянская и Вера Волошина, одновременно ушедшие со своими группами в немецкий тыл 21 ноября 1941 года и не вернувшиеся с задания…
Красной армии противостояли превосходящие силы вермахта и войск СС. И Москву они не взяли. В оборонительных боях, ценой огромных потерь советские войска смогли измотать, обескровить и перемолоть дивизии противника.
В октябре под Москву были переброшены части из глубины страны. Ставка, получив данные разведки о нежелании Японии вступать в войну с СССР, решилась на переброску войск из Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
В это время удалось сформировать три новые армии, которые должны были нанести удар в тот момент, когда противник будет полностью изнурён. Жуков предложил без паузы в оборонительных боях перейти в контрнаступление.
Перед войсками ставилась задача разгромить ударные армии группировки «Центр» и устранить угрозу захвата Москвы.
Ночью с 5 на 6 декабря части Красной армии начали мощное контрнаступление по всему фронту, которое стало полной неожиданностью для германского командования.
В ходе этого наступления немецкие войска были отброшены на 120–150 км от столицы. В течение декабря они потеряли убитыми свыше 120 тыс. солдат и офицеров. Красная армия освободила города Калугу и Тверь. Битва за Москву была окончена.
В честь этой жизненно важной победы более миллиона участников битвы за Москву, как из действующей армии, так и отличившиеся гражданские лица, были награждены медалью «За оборону Москвы».
Ещё ни разу с начала Второй мировой войны германские войска с союзниками не знали поражения и разгрома, которые они получили под Москвой. Только по числу потерь битва за Москву обошлась Германии в более чем полмиллиона убитых, безвозвратные потери были ещё больше. Их воинский дух был надломлен, а к солдатам и офицерам вермахта пришло понимание, что дальше будет только хуже. Именно под Москвой окончательно рухнул план «блицкрига» – молниеносной войны, согласно которому к концу 1941 года вермахт должен был выйти на рубежи гигантской дуги от Белого до Каспийского моря. Вместо этого Германия была вынуждена перейти к длительной войне на истощение, затем к войне на два фронта, тотальной мобилизации, подорвавшей экономику и человеческие ресурсы рейха, получив полный разгром и капитуляцию в финале.
Захватив Москву, гитлеровцы вырвали бы стратегическое преимущество: истекавший кровью СССР терял важнейший транспортный узел, промышленный и культурный центр. Советская линия обороны «Север – Юг» оказалась бы разорванной посередине. Гитлеровская верхушка вместе со взятием Москвы стяжала бы и огромную пропагандистскую победу. Каким образом потеря столицы сказалась бы на моральном состоянии армии и народа, можно только догадываться. Кроме того, на карту были поставлены союзническая помощь СССР, а также вступление в войну Японии и Турции. Не устояла бы Москва – и клубок пауков с разных сторон навалился бы на страну, раздирая её на части.
Но подвиг защитников Москвы предотвратил национальную катастрофу.
По новейшим данным историка Алексея Исаева, в битве за Москву безвозвратные потери СССР достигли двух миллионов солдат, ополченцев, партизан, подпольщиков, разведчиков.
Сильно ослабили Красную армию поражения в Крыму и под Харьковом. Немцам удалось расчистить себе путь на Сталинград и Кавказ.
В общем ходе войны Красная армия не смогла удержать стратегическую инициативу. Советское командование ожидало летом 1942 года нового наступления на Москву, но весной – летом 42‐го враг двинулся в южном направлении – на Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье.
Главной задачей немцев был захват нефтеносных районов на Кавказе, промышленного Донбасса, плодородных областей юга. И. В. Сталин и его окружение совершили стратегическую ошибку – неправильно спрогнозировали направление главного удара немцев и недооценили его силы. Кроме того, приказ Ставки об одновременном наступлении на нескольких фронтах привёл к серьёзным поражениям Красной армии под Харьковом и в Крыму. Лето 1942 года было ознаменовано периодом неудач Красной армии. На юге были захвачены Донбасс, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Новороссийск. Однако к Бакинской нефти всё-таки немцам выйти не удалось.
Поражение привело к новому отступлению советских войск: в августе одна группа немецких армий вышла к Волге в районе Сталинграда, а другая – на Кавказе.
Ещё 5 января 1942 г. на заседании Ставки Верховного Главнокомандования И. В. Сталин, явно переоценив результаты контрнаступательных операций под Москвой, Ростовом-на-Дону и Тихвином, потребовал от Генерального штаба разработать план общего наступления на всех фронтах – от Ладожского озера до Чёрного моря. Наши войска ни на одном из направлений не имели необходимого превосходства, поэтому Генштаб выступил за переход к активной стратегической обороне. Но Верховный Главнокомандующий настоял на своём, поставив задачу добиться, чтобы 1942‐й стал годом окончательного разгрома фашистской Германии.
Ошибочность, нереалистичность сталинской установки вскоре дали о себе знать. На северо-западном направлении в январе – апреле 1942 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов, наступая навстречу друг другу, вели бои на любанском направлении. В оборону противника глубоко вклинилась 2‐я ударная армия (командующий – генерал А. А. Власов). Из-за просчётов Ставки и командующего Ленинградским фронтом генерала М. С. Хозина армия попала в окружение и практически перестала существовать. Вырваться из кольца удалось немногим, сам Власов предпочёл сдаться в плен. Операция Волховского фронта (командующий – генерал К. А. Мерецков) по выводу из окружения 2‐й ударной армии обошлась потерей почти 95 тыс. человек, из которых около 55 тыс. – безвозвратные (то есть погибшие в боях, умершие от ран на поле боя и в лечебных учреждениях, пропавшие без вести, попавшие в плен).
В начале Великой Отечественной войны корпус под командованием А. А. Власова в составе 6‐й армии Юго-Западного фронта участвовал в приграничном сражении с превосходящими силами противника в районе г. Перемышль. В дальнейшем соединения корпуса участвовали во встречном танковом сражении под Дубно, Ровно, в Киевской оборонительной операции. С 23 июля 1941 г. генерал-майор А. А. Власов командовал 37‐й армией Юго-Западного фронта. Участвовал в обороне Киева, являясь комендантом города и командующим Киевским УРом. После выхода из окружения занимал должность заместителя командующего войсками Юго-Западного фронта по тылу. 20 ноября 1941 г. после приёма у И. В. Сталина он был назначен командующим 20‐й армией Западного фронта. Войска армии отличились в Клинско-Солнечногорских оборонительной и наступательной операциях, в освобождении Красной Поляны, Волоколамска, Солнечногорска, за что А. А. Власов в январе 1942 г. был награждён орденом Красного Знамени и ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С марта 1942 г. – заместитель командующего войсками Волховского фронта, с 16 апреля вступил в командование 2‐й ударной армией этого фронта. В ходе Любанской наступательной операции по деблокированию Ленинграда (январь – апрель 1942 г.) войска армии оказались в окружении в районе Мясного Бора Новгородской обл., где вели тяжёлые оборонительные бои.
При выходе из окружения А. А. Власов оставил войска армии и 12 июля 1942 г. добровольно сдался в плен. До конца июля содержался в Винницком особом лагере, затем согласился на предложение немецкого командования возглавить русское антисталинское движение. С сентября 1942 г. Власов находился в Берлине в отделе пропаганды вермахта. Вёл активную антисоветскую пропагандистскую деятельность. 27 декабря 1942 г. он подписывает так называемую Смоленскую декларацию, в которой впервые излагаются цели его движения. В середине апреля 1943 г. он посещает города Рига, Псков, Гатчина, Остров, где выступает перед жителями оккупированных районов. В ноябре 1944 г. в Праге провозглашает Пражский манифест – главный программный документ власовского движения. Возглавил Комитет освобождения народов России (КОНР) и сформировал «Русскую освободительную армию» (РОА), был её командующим. В марте 1945 г. 1‐я дивизия РОА участвовала в боях против войск Красной армии на р. Одер. 27 апреля 1945 г. отверг предложение испанских дипломатов генерала Франко эмигрировать в Испанию, находился со своим штабом в Северной группе ВС КОНР. В мае 1945 г. остатки частей армии А. А. Власова были ликвидированы на территории Чехословакии. 12 мая в окрестностях г. Брежи (южнее Праги) захвачен в штабной колонне сотрудниками Смерш 162‐й танковой бригады 25‐го танкового корпуса.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ
В последние годы выдвинуты российскими и зарубежными исследователями многочисленные версии принадлежности генералов А. А. Власова и М. Ф. Лукина к разведывательным органам СССР.
Первые пять месяцев Великой Отечественной войны Андрей Власов провёл на Украине командиром самой отсталой 39‐й стрелковой дивизии. Много лет спустя, когда имя А. А. Власова было уже под запретом, даже советские историки были вынуждены признать, что немцы «впервые получили по морде» именно от механизированного корпуса генерала А. А. Власова. После дивизии И. В. Сталин назначил генерал-майора командиром 37‐й армии. Стоит обратить внимание, как 37‐я армия обороняла столицу Украины. Киев, август ‒ сентябрь 1941 г. Под Киевом идут ожесточённые бои. Немецкие войска несут колоссальные потери. В самом Киеве… ходят трамваи. За время обороны на улицах города разорвалось лишь несколько снарядов. Но Красной армии было приказано сдать город: «В ночь на 19 сентября практически не разрушенный Киев был оставлен советскими войсками. Уже позже все узнали, что в «киевский котёл» попали 600 000 военнослужащих. Единственный, кто с минимальными потерями вывел из окружения свою армию, был «не получивший» приказ об отходе Андрей Власов.
А. А. Власову предстояло стать ещё и «спасителем Москвы». «На Солнечногорск наступала 20‐я армия генерал-майора Власова. Обладая всего 15 танками, части генерала Власова остановили танковую армию Вальтера Моделя в пригороде Москвы ‒ Солнечногорске и отбросили немцев, которые уже готовились к параду на Красной площади, на 100 километров, освободив при этом три города… «В январе 1942 года войска 20‐й армии ударом на Волоколамск ‒ Шаховская прорвали заблаговременно подготовленную оборону противника на рубеже реки Лама и, преследуя отступающего противника, к концу января вышли в район северо-восточнее Гжатска. Это наступление обогатило советское оперативное искусство опытом массирования сил и средств на главном направлении и умелого их применения в зимних условиях». Эта цитата уже из Советской военной энциклопедии. Её составители «пропустили» лишь имя командарма, «обогатившего советское оперативное искусство», ‒ А. А. Власов.
«Если бы судьба сложилась иначе ‒ ему бы командовать парадом Победы. Власов был куда более толковым командиром, чем Рокоссовский и Говоров», считает историк В. Г. Петрович. А. А. Власов удостоился личной аудиенции у Сталина, на которой из рук Верховного Главнокомандующего получил назначение заместителем командующего Волховским фронтом, войдя в номенклатуру Политбюро ЦК ВКП(б). Дальше начинается самое интересное. Как заместитель командующего фронтом вдруг становится командармом Второй ударной армии? Ведь это явное понижение… Представлять А. А. Власова на должность командарма‐2 в штаб Волховского фронта приезжали лично два члена ГКО – Государственного комитета обороны: член Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, маршал К. Е. Ворошилов, представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Волховском фронте, и Л. П. Берия, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя СНК СССР, генеральный комиссар государственной безопасности. Вот вам и понижение! Случай, невиданный в истории Великой Отечественной войны ни до, ни после А. А. Власова, – так обычно представляли только командующих фронтами…
Ещё один совершенно непонятный вопрос: зачем Сталину потребовалось назначать перспективного талантливого генерала командармом уже фактически окружённой армии? Чтобы генерал неминуемо попал в фашистский плен, став символом коллаборационизма? – на его личность безоговорочно на сорок с лишним десятилетий был повешен ярлык главного предателя Родины. Возможен и этот вариант. По крайней мере, анализируя поведение А. А. Власова, можно сделать вывод, что генерал сделал всё, чтобы наверняка попасть в плен к фашистам. Согласившись работать с нацистами, Власов возглавил «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую освободительную армию» (РОА), составленные из пленных советских военнослужащих. Американский журналист русского происхождения В. Люлечник утверждает: «Мало кому известно, что у истоков Русского освободительного движения стоял отнюдь не генерал Власов. Ещё в ноябре 1941 года около Смоленска возникла группа, организующая “Освободительное движение”… По данным, которые имелись у генерала Лукина, который тоже стоял у истоков этого движения, уже тогда не менее полумиллиона бывших военнопленных, эмигрантов первой волны и добровольцев из населения оккупированных немцами районов находились под ружьём и сражались против советского строя».
Михаил Фёдорович Лукин, генерал-лейтенант, участник ещё Первой мировой войны, в Красной армии с 1918 г. В начале Великой Отечественной войны – командарм 16‐й армии. При выходе из окружения 14 октября 1941 г. командарм М. Ф. Лукин был тяжело ранен и без сознания попал в плен, где достойно держал себя в тяжелейших условиях. Во время допросов в плену допускал возможность создания антисталинского русского правительства, союзного по отношению к Германии, излагал идеи, впоследствии углублённые А. А. Власовым. Поскольку М. Ф. Лукин находился в немецком плену, то сразу же после освобождения в мае 1945 г. был арестован и содержался в Лефортовской тюрьме. Освобождён по личному приказу И. Сталина, передавшему ему «спасибо за Москву», имея в виду героические усилия командарма во время Смоленского сражения.
Так что не всё однозначно с нашими генералами, пленёнными фашистами. Но вернёмся к А. А. Власову. Он составляет (или подписывает) письмо «Почему я встал на путь борьбы с большевизмом?». Приведём основные его мысли:
«Призывая всех русских людей подниматься на борьбу против Сталина и его клики, за построение Новой России без большевиков и капиталистов, я считаю своим долгом объяснить свои действия. <…> История не поворачивает вспять. Не к возврату к прошлому зову я народ. Нет! Я зову его к светлому будущему, к борьбе за завершение Национальной Революции, к борьбе за создание Новой России ‒ Родины нашего великого народа. Я зову его на путь братства и единения с народами Европы и в первую очередь на путь сотрудничества и вечной дружбы с Великим Германским народом. Этот союз, одинаково выгодный для обоих великих народов, приведёт нас к победе над тёмными силами большевизма, избавит нас от кабалы англо-американского капитала.
Генерал-лейтенант A. А. ВЛАСОВ».
Можно ли верить в подобные откровения генерала? Придерживайся он подобных взглядов, вряд ли был допущен до разведывательной деятельности в Китае и к командованию крупными воинскими соединениями по возвращению в Союз. Скорее всего, данное письмо – попытка убедить немцев в существовании в СССР оппозиции, уцелевшей под катком сталинских репрессий, идеологически обосновать своё предательство Родины – фашистские бонзы были весьма щепетильны, к предателям относились брезгливо. Стоит отметить, что в разгар Великой Отечественной войны даже давние противники советской власти, эмигрировавшие из России в годы Гражданской войны, призывали к единению всех патриотов Родины в борьбе против фашизма, а не против режима И. С. Сталина.
В. М. Чернов, председатель Учредительного собрания России, разогнанного большевиками в январе 1918 г., в разгар Великой Отечественной войны в письме И. В. Сталину предлагает объединить усилия всех патриотов России, в том числе и эмигрантов, бывших когда-то противниками большевиков, – в минуты, когда Отечество в опасности, не до идеологических разногласий. Призыв Чернова убеждает: письмо А. А. Власова – фальшивка, рассчитанная лишь на недальновидность гитлеровцев.
А. А. Власов прилагает много усилий для создания РОА – Русской освободительной армии. В ней служили несколько Героев Советского Союза. Его ближайшие сподвижники – люди дела, профессионалы, орденоносцы. Неужели все они были трусами, ушедшими в услужение к немцам ради спасения собственной жизни?! Очевидно нет. Удивительные метаморфозы, происшедшие лично с А. А. Власовым и его ближайшим окружением в плену, можно объяснить очень просто. «Предательство Родины» генерала А. А. Власова, создание им в немецком тылу «Комитета освобождения народов России» (КОНР) и «Русской освободительной армии» (РОА) – тщательно спланированная операция советской военной разведки, о которой знало лишь высшее руководство страны, по всей вероятности, только Политбюро ЦК ВКП(б), если провожали Власова на выполнение ответственного задания лично люди из Политбюро. Косвенно эту версию подтверждает одно из писем А. А. Власова жене, содержащее информацию о встрече генерала со Сталиным: «Меня вызвал к себе самый большой и главный хозяин. Представь себе, он беседовал со мной целых полтора часа. Сама представляешь, какое мне счастье…»
Трудно поверить в гуманизм И. В. Сталина, но одной из целей разведывательной операции генерала А. А. Власова могло быть спасение жизней сотен тыс. советских военнопленных. А. А. Власов, сумевший «продавить» у гитлеровцев идею создания Русской освободительной армии, рассчитывал поставить под ружьё до одного миллиона человек, или каждого четвёртого-пятого из числа попавших в плен. В итоге ему удалось довести численность РОА до 124 тыс. человек.
Почему выбор И. В. Сталина пал на А. А. Власова? Представляется, что поначалу эта задача была возложена на генерала М. Ф. Лукина. Тот в плену позволял себе многое. В 1994 г. в исторический оборот были введены отрывки из стенограмм его допросов: «Вы, немцы, можете сокрушить систему, но вы не должны думать о том, что народ может это сделать сам, несмотря на свою ненависть к режиму. И вы не должны упрекать или наказывать русских за то, что они не восстают». Аккурат в духе сочинений А. А. Власова, якобы в СССР существует оппозиция… Но что-то у Лукина не заладилось: то ли авторитета среди военнопленных и фашистов не хватало, но немцы не «клюнули» на предложения Лукина. Тогда советская разведка по инициативе И. В. Сталина и могла пойти на внедрение А. А. Власова к фашистам. В пользу этих предположений говорят факты.
М. Ф. Лукин свою службу в Красной армии начал с учёбы в… разведывательной школе РККА. Умер М. Ф. Лукин в Москве в 1970 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище, пантеоне самых выдающихся героев нашей страны, от царских времён до сегодняшнего дня. Почётнее в советский период российской истории являлось только захоронение у Кремлёвской стены на Красной площади.
1970 год, строительство социализма, всевластие КПСС и КГБ. Председателем КГБ СССР четвёртый год как работал Ю. В. Андропов. Могла ли всевластная «контора» допустить захоронение на Новодевичьем кладбище автора столь одиозных слов в адрес коммунистического режима? Не могла. Но допустила. Вывод напрашивается сам собой: сказанное М. Ф. Лукиным в фашистском плену не отражало его истинных убеждений и явилось лишь частью легенды о существовании оппозиции советской власти в СССР. Имел ли отношение к разведке А. А. Власов? Имел, и самое прямое! В 1937 г. тогда ещё полковник Власов был одним из руководителей второго отдела штаба Ленинградского военного округа. Второй отдел – это разведка и контрразведка округа. В разгар репрессий полковник Власов, получивший оперативный псевдоним «Волков», был отправлен с глаз долой советником к Чан-Кайши… Читаем мемуары участников тех событий. Все, как один, утверждают: в Китае работал советский разведчик … полковник Волков. Он дружил с немецкими дипломатами, водил их в рестораны, поил водкой до обморочного состояния, ‒ что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Способен вести себя так в 1937‒1938 гг., в разгар репрессий, обычный советский полковник, прекрасно знающий, что людей в СССР арестовывали только за то, что на улице Москвы объясняли иностранцам, как пройти в Александровский сад? Все женщины агенты Рамзая – Рихарда Зорге не могли поставлять информацию, сравнимую с данными жены Чан-Кайши, с которой русский полковник Волков был в «тесных» отношениях…
О разведывательной работе полковника Власова свидетельствовал его личный переводчик в Китае, утверждавший, что «Волков» приказал ему при малейшей опасности пристрелить его. Получается, что оба генерала – и Лукин, и Власов – не новички в разведке. После пленения А. А. Власова за ним «охотилось» более 42 разведывательных и диверсионных групп общей численностью 1 600 человек. Можно ли поверить, что в разгар 1942 г. чекисты не могли «достать» одного пленённого генерала, даже если его хорошо охраняли? Скорее всего, подобная «охота» была операцией прикрытия, призванной убедить фашистов в значительности персоны А. А. Власова. Власову удалось заставить немцев обратить на себя внимание. Й. Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии: «Генерал Власов в высшей степени интеллигентный и энергичный русский военачальник; он произвёл на меня очень глубокое впечатление». Были и прямо противоположные мнения. Рейхсфюрер СС Г. Гимлер: «У русских есть свои идеалы. А тут подоспели идеи господина Власова: Россия никогда не была побеждена Германией; Россия может быть побеждена только самими русскими. И вот эта русская свинья (diese russische Schwine) господин Власов предлагает для сего свои услуги. Кое-какие старики у нас хотели дать этому человеку миллионную армию. Этому ненадёжному типу они хотели дать в руки оружие и оснащение, чтобы он двинулся с этим оружием против России, а может, однажды, что очень вероятно, чего доброго, и против нас самих!»
Как ни парадоксально, но Г. Гиммлер оказался прав. 28 января 1945 г. генерал Власов встал во главе Вооружённых сил КОНР. Они состояли из трёх дивизий, одной запасной бригады, двух эскадрилий авиации и офицерской школы, всего около 50 тыс. человек. Плохо вооружённые, эти силы всего два раза, 9 февраля и 14 апреля 1945 г., участвовали в боях на Восточном фронте. В первом бою на сторону Власова переходит несколько сот красноармейцев. 6 мая 1945 г. в Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. По призыву восставших чехов в Прагу входит… Первая дивизия армии генерала Власова. Она вступает в бой с… вооружёнными до зубов частями СС и вермахта, захватывает аэропорт, чтобы не допустить возможность прибытия в город свежих немецких частей – сделано всё точно по канонам военной науки! ‒ и освобождает Прагу. Чехи ликуют. Прославленные командиры Красной армии вне себя от злости: опять этот «выскочка» Власов. Мало ему было прозвища «спаситель Москвы», теперь вот ещё и «спасителем Праги» оказался… Под давлением советского командования чехи просят Власова… покинуть Прагу, поскольку «русские друзья недовольны». Власов отдаёт команду об отходе…
В. С. Абакумов, начальник Смерша, издаёт приказ об аресте А. А. Власова. 12 мая 1945 г. он был арестован на юго-западе Чехии. Контрразведчики Смерша в полной парадной форме спокойно ждали колонну власовской армии на обочине дороги. Остановив машину генерала, отдали ему честь и пригласили выйти из машины. По свидетельству юриста танковой дивизии, Власов был одет в… генеральскую форму РККА (старого образца), со знаками различия и орденами, предъявил прокурору расчётную книжку начальствующего состава РККА, удостоверение личности генерала Красной армии № 431 от 13.02.41 г. и партийный билет члена ВКП(б) № 2123998 ‒ все на имя Власова Андрея Андреевича…
За день до прибытия Власова в дивизию понаехало немыслимое количество армейского начальства. По прибытии Власова был организован совместный обед. Читатели нашего поколения должны помнить финальную сцену четырёхсерийного фильма «Щит и меч» (песня «С чего начинается Родина?» как раз из этого фильма) ‒ советского разведчика Александра Белова с гимнастёркой, полной орденов и медалей, встречает на берлинских улицах глава советской разведки. Весьма похожая сцена…
Дальше был суд – не показательный, как можно было предположить, а закрытый, и приговор, приведённый в исполнение 1 августа 1946 г. в Москве. Место захоронения Власова неизвестно…
Теперь несколько фактов для размышления. После войны началась массовая реабилитация сидевших в тюрьмах и лагерях. Первыми помиловали… «власовцев». «Судьба Андрея Власова всем хорошо известна… Впрочем, известна ли? О том, что Власов и его движение были «большой подставой», игрой НКВД по типу операции ”Трест”, не раз приходилось слышать. И не только от историков, специалистов по РОА и эмиграции, но и от стариков ‒ участников тех событий. Кое-кто даже уверял, что Власов спокойно доживал свои дни на спецобъекте КГБ то ли под Москвой, то ли под Нижним Новгородом», ‒ отмечал А. Меленберг в «Новой газете» ещё в 2002 г. И последнее. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 1 октября 1993 года № 1553 «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов», генерал-лейтенанту М. Ф. Лукину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Медаль Героя России № 46…
Октябрь 1993 г., противостояние властей, буквально через несколько часов начнётся штурм Белого дома в Москве – президент же подписывает указ, которым спустя 23 года после смерти удостаивает покоящегося на Новодевичьем кладбище Москвы генерала – соратника А. А. Власова по работе в фашистском плену высшей государственной награды новой России… Не пора ли государству поставить точку в споре «кто вы, генерал Власов, – герой или предатель?» Или вновь придётся ждать, когда гриф секретности можно будет убрать с его фондов? Впрочем, о не засветившихся агентах не говорят почти никогда…
К осени 1942 г. на оккупированной фашистами территории оказалось более 80 млн человек. Страна лишилась не только огромных людских ресурсов, но и крупнейших промышленных и сельскохозяйственных районов.
Трагедия произошла и на юго-западном направлении в районе Харькова. Зимой – весной 1942 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов вели наступление против донбасско-таганрогской группировки немцев. Продвинувшись на 90–100 км, они закрепились в образовавшемся в линии фронта Барвенковском выступе. Отсюда 12 мая войска Юго-Западного фронта (командующий – маршал С. К. Тимошенко) начали новое наступление, первые дни проходившее с видимым успехом. Однако противник нанёс встречные удары по северному и южному фасам Барвенковского выступа, и крупная группировка наших войск попала в окружение. Операция закончилась тяжёлым поражением, потери обоих фронтов превысили 277 тыс. человек, из них более 170 тыс. – безвозвратные.
Катастрофически завершилась и попытка советского командования изгнать врага из Крыма. Готовившееся к наступлению командование Крымским фронтом (командующий – генерал-лейтенант Д. Т. Козлов) не смогло своевременно вскрыть планы противника. К тому же и Ставка, и Генштаб буквально до последнего дня не могли определиться: против всех правил военного искусства фронту ставилась задача и обороняться, и наступать.
8 мая соединения 11‐й немецкой армии генерал-фельдмаршала Э. Манштейна нанесли внезапный удар. Несмотря на значительное превосходство в силах и средствах, советские войска после двухнедельных боёв были вынуждены оставить Керченский полуостров и эвакуироваться на Тамань. Безвозвратные потери Крымского фронта и Черноморского флота составили более 176 тыс. человек. Наряду с командующим и штабом фронта главную ответственность за катастрофу несёт представитель Ставки ВГК армейский комиссар 1 ранга Л. 3. Мехлис, активный, но часто бездумный проводник сталинской линии. С потерей Керченского полуострова советским войскам 3 июля пришлось оставить и Севастополь.
29 июня 1942 года в Севастополе были взорваны Инкерманские штольни, в которых, помимо винных складов и складов боеприпасов, находились медсанбаты № 427 и № 47, а также бежавшие из Севастополя старики и женщины с детьми. 3000 мирных людей и тысячи раненых были похоронены заживо под многотонными глыбами камня по приказу своего же командования. Приказ о подрыве отдал начальник тыла ЧФ контр-адмирал Заяц.
А уже в ночь на 1 июля 1942 года командование обороной Севастополя во главе с вице-адмиралом Филиппом Октябрьским, получив «добро» от Сталина, поспешно бежало из Крыма с Херсонесского аэродрома на 13 самолётах «Дуглас» под возмущённые крики и стрельбу в воздух своих же бойцов. Всего 13 самолётов вывезли на Кавказ 222 начальника, 49 раненых и 3490 кг грузов.
Историк Г. Ванеев, долгое время занимавшийся изучением второй обороны Севастополя, приводит такой факт: «Когда к самолёту подходили командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский и член военного совета флота дивизионный комиссар Кулаков, их узнали. Скопившиеся на аэродроме воины зашумели, началась беспорядочная стрельба в воздух… Но их поспешил успокоить военком авиационной группы Михайлов, объяснив, что командование улетает, чтобы организовать эвакуацию из Севастополя».
Свидетель эвакуации Ф. Октябрьского лейтенант В. Воронов писал в воспоминаниях, что командующий флотом прибыл к самолёту, переодевшись в какие-то гражданские обноски, «в потёртом пиджаке и неказистой кепке». Подобного рода зрелище произвело на присутствующих очень плохое впечатление.
Другая часть руководящего состава армии и партийных чинов (во главе с генералом Петровым) с членами их семей и ценными вещами незаметно бежали из Севастополя на двух подводных лодках Щ‐209.
Начальник отдела укомплектования Приморской армии подполковник Семечкин рассказывал: «Мы шли на посадку на подводную лодку. Я шёл впереди Петрова. В это время кто-то из толпы стал ругательски кричать: “Вы такие-разэдакие, нас бросаете, а сами бежите”. И тут дал очередь из автомата по командующему генералу Петрову. Но так как я находился впереди него, то вся очередь попала в меня. Я упал… Людей с причала переправляли на небольшом буксире “Папанин” на подводные лодки. На лодки попадали только счастливчики, имевшие пропуска за подписью Октябрьского и Кулакова».
Официально Севастополь покинули 600 человек руководящего состава армии и партработников, но на самом деле их было 1228 человек. Те командиры и политработники, которым не хватило места в самолётах и подлодках, загрузились на небольшой катер № 112 и в ночь на 2 июля, выйдя в море, были на рассвете обнаружены и пленены итальянскими торпедными катерами. Допрашивавший генерала Новикова Манштейн обратил внимание на то, что пленённый советский генерал одет в форму рядового (!), и немедленно приказал переодеть его в соответствующее обмундирование.
79 956 оборонявших город солдат были оставлены на верную гибель и плен. Даже нацистский фельдмаршал Паулюс не покинул обречённые на гибель и плен свои войска под Сталинградом, он разделил их участь.
3 июля оборона Севастополя, продолжавшаяся 250 дней, завершилась поражением, и весь Севастополь был оккупирован гитлеровскими войсками. Заняв город, немцы заявили о захвате 100 тыс. пленных. В качестве трофеев немцам достались 758 исправных миномётов, 622 орудия, 26 танков.
Выживший снайпер из 25‐й Чапаевской дивизии вспоминал: «Когда нас уже пленными гнали, немцы смеялись: «Дураки вы, иваны! Вам надо было ещё два дня продержаться. Нам уже приказ дали: два дня штурм, а затем, если не получится, делать такую же осаду, как в Ленинграде!» А куда нам было держаться! Всё начальство нас бросило и бежало. Неправда, что у нас мало было боеприпасов, всё у нас было. Командиров не было. Если бы начальники не разбежались, мы бы города не сдали…»
А вот что писал на эту же тему в мемуарах «Утерянные победы» генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, который командовал 11‐й армией вермахта, наступавшей на Севастополь в июне – июле 1942‐го года: «…судьба наступления в эти дни, казалось, висела на волоске. Ещё не было никаких признаков ослабления воли противника к сопротивлению, а силы наших войск заметно уменьшились… кто мог бы в тот момент, видя, как заметно иссякают силы наших храбрых полков, дать гарантию в скором падении крепости?»
А теперь о цинизме советско-сталинского режима. Последний абзац сообщения Совинформбюро от 4 июля 1942 г. звучал так: «Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя – вице-адмирале Октябрьском, генерал-майоре Петрове… – войдёт в историю Отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц». Есть просто ложь, есть наглая ложь, а есть ложь кремлёвская… Советские войска не оставляли Севастополь. Наоборот, это их оставило там, бросило на произвол судьбы собственное командование: Октябрьский, Петров, Заяц.
Вскоре после этих событий была учреждена медаль «За оборону Севастополя». Первые её номера получили… Октябрьский, Петров, Заяц и прочие из списка 1228 фамилий. В 1958 г. адмирал Ф. С. Октябрьский получил звание Героя Советского Союза, стал почётным гражданином Севастополя; его именем назвали боевой корабль, учебный отряд Черноморского флота, улицу. Генерал армии И. Е. Петров в 1945 г. стал Героем Советского Союза, был награждён пятью орденами Ленина, двумя полководческими орденами…
Неудачи Красной армии в районе Любани, под Харьковом и в Крыму позволили противнику, вновь захватившему стратегическую инициативу, приступить к осуществлению собственного плана на южном участке советско-германского фронта. Он состоял в уничтожении войск РККА западнее Дона с целью захвата нефтеносных районов Кавказа. В конце июня, нанеся удар на стыке Брянского и Юго-Западного фронтов, немцы прорвали оборону советских войск и стали быстро продвигаться в направлении Воронежа и к Дону. 6 июля был частично захвачен Воронеж. Южнее противник отбросил наши войска за Дон и продолжал развивать наступление по западному берегу реки к югу, стремясь во что бы то ни стало выйти в большую излучину Дона. К середине июля стратегический фронт Красной армии оказался прорванным на глубину 150–400 км, что позволило вермахту развернуть наступление в большой излучине на Сталинград. С захватом немцами Ростова-на-Дону (24 июля) и форсированием Дона в его нижнем течении непосредственная угроза нависла и над Северным Кавказом.
Войска Юго-Западного, Южного и Брянского фронтов понесли тяжелейшие потери. Чтобы восстановить устойчивость стратегической обороны, Ставка ВГК вынуждена была использовать значительную часть своих резервов – шесть общевойсковых армий и шесть танковых корпусов.
В соответствии с директивой, подписанной А. Гитлером 23 июля, группа армий «А» должна была наступать на Кавказ, а перед группой армий «Б» поставили задачу, носившую вначале вспомогательный характер – силами 6‐й армии генерал-полковника Ф. Паулюса овладеть Сталинградом. Правда, уже 30 июля это решение было пересмотрено, и сталинградское направление стало приоритетным, сюда с кавказского направления была повёрнута 4‐я танковая армия. Из города, лежащего на второстепенном направлении, Сталинград быстро превратился в ключевой пункт, где решалась судьба всей кампании 1942 года.
Вероятность того, что вермахт может предпринять наступление на сталинградском направлении, советское командование не исключало и ранее. Чтобы отразить немецкое наступление в большой излучине Дона, Ставка ВГК ещё 12 июля 1942 г. образовала Сталинградский фронт (командующий – маршал C. K Тимошенко, затем генералы В. Н. Гордов, А. И. Ерёменко), перед которым была поставлена задача занять рубеж западнее Дона и не допустить прорыва противника.
Несмотря на то, что соединения 6‐й армии уступали войскам Сталинградского фронта в живой силе, артиллерии и особенно в танках, им удалось к концу июля добиться заметных успехов. Немцы смогли на двух участках выйти к Дону, создав угрозу окружения 62‐й армии в междуречье Дона и Чира. В ходе контрудара Сталинградский фронт потерял бóльшую часть имеющихся у него танков, лишившись бронированного «кулака», и оказался не в состоянии изменить обстановку к лучшему.
Бесспорно, сказывалось недостаточное умение высшего командного звена управлять большими массами живой силы, бронетанковой техники и другими средствами боя. Но надо прямо сказать, что поражение советских войск было во многом обусловлено и ярко выраженным оборонительным синдромом.
Отходили на многие сотни километров, отходили, разумеется, с тяжёлым сердцем, уступая более изощрённому противнику, но в мозгу у многих теплилась успокоительно-предательская мысль: Россия велика, авось враг не проглотит всю, подавится.
Двухмесячное поспешное отступление, а порой и бегство действовали на людей угнетающе; стойкость, упорство, воинская дисциплина дали глубокую трещину. В те самые июльские дни 1942 г. в ЦК ВКП(б) направил письмо полковник Тётушкин, командир 141‐й стрелковой дивизии, которая занимала оборонительный рубеж в районе Воронежа. Офицер, прошедший ещё школу Первой мировой войны, стал свидетелем беспорядочного отступления наших войск, о чём он с огромной болью писал секретарю ЦК Г. М. Маленкову: «Какую же картину отхода армий Ю. З. (Юго-Западный) и Брянского фронтов я наблюдал? Ни одной организованно отступающей части я не видел на фронте от Воронежа на юг до г. Коротояк. Это были отдельные группки бойцов всех родов оружия, следовавшие, как правило, без оружия, часто даже без обуви, имея при себе вещевые мешки и котелок. Попутно они (не все, конечно) отбирали продовольствие у наших тыловых армейских учреждений и автомашины. Кто идёт с винтовкой, то она обычно ржавая (а производства 1942 г.). Картина эта мне знакома по прошлому году».
Полковник Тётушкин обращал внимание на недостаточную стойкость и плохую обученность пехоты, отсутствие беспрекословного повиновения младшего старшему, особенно в звене младший командир – боец. О какой дисциплине можно говорить, если бойцы на походе или вообще вне боя бросали противогазы, сапёрные лопатки, шлемы, оружие (даже пулемёты), лошадей. «Противник в отношении дисциплины намного сильнее нас», – замечал комдив, вспоминая немецких пленных, которых гнали десятки километров до советских штабов и у которых всё было цело до последнего личного номерка, у всех обязательно вычищены сапоги и выбриты лица.
С убеждённостью старого воина Тётушкин подсказывал и один из путей решения проблемы: «У нас не хватает жёсткой дисциплины, чтобы наверняка обеспечить успех в бою, чтобы никто не смел бросить своё место в окопе в любой обстановке. Умри, а держись. Всё это должно быть обеспечено соответствующим законом, отражённым в уставах. Всё, что мы имеем сейчас (уставы, положения), – этого не достигают…
Дисциплина, как и везде, особенно необходима в бою, тут она решает дело. Причём, если даже нет командира при бойце, он должен упорно защищаться или двигаться вперёд на противника так же, как и с командиром».
То, что часть рядового и командно-начальствующего состава была парализована страхом перед силами врага, а то и полной безысходностью, подтверждали и донесения особого отдела (ОО) НКВД Сталинградского фронта. Раньше историки практически не обращались к такого рода документам органов безопасности из-за их секретности. Между тем они содержали куда более объективную информацию, чем, скажем, донесения политорганов, в которых преобладала пропагандистская сторона. В этом заключается их особая ценность как исторического источника.
«Немецкая армия культурнее и сильнее нашей армии, – говорил, например, своим сослуживцам по 538‐му лёгкому авиационному полку Резерва Верховного Главнокомандования красноармеец Колесников. – Нам немцев не победить. Смотрите, какая у немцев техника, а у нас что за самолёты, какие-то кукурузники…»
«Нас предали. Пять армий бросили немцу на съедение. Кто-то выслуживается перед Гитлером. Фронт открыт и положение безнадёжное, а нас здесь с 6 июля маринуют и никак не определят», – такова была точка зрения начальника штаба артиллерии 76‐й стрелковой дивизии капитана Свечкора.
В высказываниях военнослужащих, как следовало из материалов ОО НКВД, полученных в том числе путём перлюстрации почтовой корреспонденции, всё чаще стали фигурировать далёкие тыловые рубежи, до которых кое-кто психологически уже был готов отходить.
«Положение у нас крайне тяжёлое, почти безвыходное… Так мы довоюемся, что и на Урале не удержимся» (начальник отдела укомплектования штаба фронта майор Антонов).
«Если на Дону не удержимся, то дела будут очень плохие, придётся отступать до Урала. Если союзники нам не помогут, то сами мы не справимся с разгромом гитлеровцев» (техник Автобронетанкового управления капитан Погорелый).
«Немцы сейчас вырвали инициативу из наших рук и, если [мы] не сумели удержаться на Дону, не удержимся и на Волге. Придётся отходить до Урала» (интендант 2‐го ранга Фей).
Подобного рода «пораженческие», по терминологии тех дней, мысли и высказывания были не редкостью. Их нарастание отметил и такой чуткий к фронтовым настроениям писатель, как Василий Гроссман, автор одного из лучших романов о Сталинградской битве «Жизнь и судьба». Один из его героев, подполковник Даренский, был командирован на левый фланг фронта с проверкой войск, «затерявшихся в песке между каспийским побережьем и калмыцкой степью». Проехав сотни километров, офицер увидел, что встреченные им люди и не помышляли о какой-либо перемене к лучшему, «настолько безысходным казалось положение войск, загнанных немцами на край света». «Даренский, – читаем в романе, – постепенно подчинился монотонной тоске этих мест. Вот, думал он, дошла Россия до верблюжьих степей, до барханных песчаных холмов и легла, обессиленная, на недобрую землю, и уже не встать, не подняться ей».
Даже такой стойкий офицер, как командир батальона Ширяев, герой ещё одного произведения «сталинградского» цикла – повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда», признаётся в разговоре с главным героем лейтенантом Керженцевым: «А скажи, инженер, было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже… Рассыпалось… Ничего уже нет. Было? У меня один раз было. Когда через Дон переправлялись. Знаешь, что там творилось? По головам ходили…»
Порой «пораженческие» размышления соответствовали реальному положению дел, отражая, например, слабое и неумелое руководство войсками, недостатки боевой техники. Но при всём при этом в конкретной обстановке лета – осени 1942 г. такие настроения выдавали слабый психологический настрой многих военнослужащих, упадок духа и внутреннюю готовность к дальнейшему отступлению.
Глава 2
Приказ № 227
Именно в этот момент и был обнародован приказ № 227. Впервые после начала войны власть решилась сказать всю правду о реальном положении на фронтах. Дальнейшее отступление Красной армии грозило Советскому Союзу утратой национальной независимости и государственного суверенитета.
Легендарный 227‐й приказ готовил начальник Генштаба генерал Александр Василевский. Однако текст потом основательно отредактировал, вписав в него целые абзацы, сам Верховный Главнокомандующий. Среди исследователей можно встретить мнение, что это едва ли не самый откровенный, самый отчаянный за всё время войны посыл вождя страны своим «верноподданным» – тем, кто уже воевал в действующей армии, и тем, кому ещё предстояло пополнить её ряды.
А. М. Василевский впоследствии высказал такое мнение: «Приказ № 227 – один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряжённости. Я, как и многие другие генералы, видел некоторую резкость оценок приказа, но их оправдывало очень суровое и тревожное время…»
Действительно, за все десятилетия советской власти немного найдётся документов, подписанных в Кремле и предназначенных для широкой огласки, где столь откровенно был бы упомянут негатив, связанный с действиями наших войск. И тому есть объяснения. Именно летом 1942‐го подошла к катастрофическому для СССР рубежу обстановка на фронтах. Прежние оптимистичные надежды на перелом в войне и её победное завершение, возникшие ещё зимой, после успешного контрнаступления под Москвой, сменились чередой тяжёлых стратегических неудач, которые могли привести к окончательному поражению. Об этих неудачах без завуалированных формулировок, указывая даже конкретных виновников, написал в приказе сам Сталин:
«Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, <…> половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамёна позором…»
А дальше следуют и вовсе запредельные высказывания в адрес РККА: «Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток».
Советские люди «разочаровываются» и даже «проклинают» армию? За подобные слова любой гражданин СССР ещё вчера мог запросто угодить в застенки НКВД как «контра». А теперь эти уничижительные формулировки, подписанные наркомом обороны, зачитывают в полках перед строем.
Фактический автор приказа – Сталин – совершил ещё один невиданный доселе поступок. Он похвалил гитлеровцев:
«После своего зимнего отступления под напором Красной армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Сформировали около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины, <…> лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали наконец специальные отряды заграждения и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен… Эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов?»
Вывод хозяин Кремля сделал однозначный: поучиться у гитлеровцев следует. В войсках РККА отныне в массовом порядке вводились штрафные подразделения, куда стали отправлять тех, кто спасовал на поле боя, отступил без приказа, совершил иные преступления. А чтобы создать у бойцов и командиров дополнительный стимул биться с врагом, не щадя жизни, предусмотрена была организация заградительных отрядов, которые должны размещаться «в непосредственном тылу неустойчивых дивизий».
Известный советский писатель Константин Симонов, много повидавший, будучи военным корреспондентом, написал позднее: «…Не приказ двести двадцать семь был тяжёлый, а тяжело было, что дожили до такого приказа. Приказ двести двадцать семь поставил вопрос ребром: остановиться или погибнуть. Если так и дальше пойдёт, пропала Россия!»
Чтобы повернуть события в желаемое русло, требовалось наконец остановить вражеское наступление, упёршееся своим остриём в Волгу. Какими рычагами располагал для этого Верховный Главнокомандующий? Продолжать тасовать командные кадры, списывая на генералов и иных высших командиров развал управления войсками, как это было летом – осенью 1941 г.? Первый год войны, однако, показал: лихорадочная перестановка маршалов и генералов, сопровождавшаяся расстрелами генералов Д. Г. Павлова, В. Е. Климовских, Н. А. Клича, А. А. Коробкова, A. T. Григорьева, А. И. Таюрского, С. И. Оборина, С. А. Черных и тюремным заключением ряда других военачальников, неэффективна. Тем паче что более подготовленных кадров, чем те, кто уже стоял у руля войск, в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования не было.
Перетасовывать военачальников прежними темпами Сталин перестал, но спрос с них установил жестокий. В соответствии с приказом № 227 командиры частей и соединений, командующие, допустившие самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа вышестоящего командования, отстранялись от занимаемых постов и предавались суду военного трибунала.
Но не в одном руководящем составе было дело. Верховный, как видно, понимал: нужно включить не только кадровые, но и все возможные рычаги воздействия на армию. Он (а стиль документа выдаёт личное авторство Сталина) прежде всего обратился к самому сокровенному у фронтовиков. Отсюда – апелляция к их родственным чувствам («территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жёны, братья, дети»), к долгу перед народом, который никогда ничего не жалел для своих защитников («население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную армию, а многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдаёт народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток»).
Эмоциональное начало подкреплялось разумными доводами о том, что как ни велика и богата наша страна, бесконечное отступление рано или поздно приведёт к тому, что «останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог».
Корень зла Сталин увидел в недостатке порядка и дисциплины непосредственно в войсках – ротах, батальонах, авиаэскадрильях, стрелковых и танковых полках, дивизиях, следствием чего было постоянное оставление занимаемых позиций. Любой, самой жестокой ценой остановить отход наших войск – таким был пафос сталинского приказа.
Для сознательных, стойких бойцов было достаточно призыва: «Ни шагу назад без приказа высшего командования». А для слабодушных и настроенных на дальнейший отход Верховный, образно говоря, обнажил кнут. Он не только давал право, но и прямо требовал на месте истреблять паникёров и трусов. А командиров рот, батальонов, полков, дивизий, комиссаров и политработников, отступивших с боевой позиции без приказа свыше, объявлял предателями Родины и приказал поступать с ними именно так, как с предателями.
В качестве одной из важнейших карательных мер приказ наркома обороны № 227 определил введение в Красной армии штрафных формирований. Военным советам фронтов, их командующим предписывалось «сформировать в пределах фронта от одного до трёх (смотря по обстановке) штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления против Родины». В пределах армий формировались от пяти до десяти штрафных рот, куда по тем же основаниям направлялись рядовые бойцы и младшие командиры.
Репрессивный аппарат заработал без промедления. Во исполнение сталинского приказа нарком юстиции СССР и прокурор СССР 31 июля 1942 г. издали директиву № 1096, в которой содержалась квалификация действий командиров, комиссаров и политработников, привлечённых к суду за, как говорилось в документе, «самовольное отступление с боевой позиции без приказа вышестоящих командиров и за пропаганду дальнейшего отступления частей Красной армии», а также определялись сроки расследования этой категории дел.
Действия, заключавшиеся в самовольном отступлении без приказа, квалифицировались по ст. 58–1 «б» УК РСФСР (измена Родине, совершённая военнослужащим, каралась высшей мерой уголовного наказания – расстрелом, с конфискацией всего имущества). Расследование по этим делам не могло превышать 48 часов. Пропаганда дальнейшего отступления квалифицировалась по ст. 58–10, ч. 2 УК (контрреволюционная пропаганда и агитация при наличии отягчающего обстоятельства – военной обстановки или военного положения – каралась расстрелом).
Военным прокурорам и председателям трибуналов предписывалось принять «решительные меры к оказанию командованию и политорганам реальной помощи к выполнению задач, поставленных в приказе народного комиссара обороны».
Приказ НКО СССР № 227 зачитывался во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах. С его содержанием в Красной армии были знакомы без преувеличения все, и никто не мог сослаться на собственное неведение.
Об этом позаботились в первую очередь политические органы. Уже на следующий день начальник ГлавПУ Красной армии генерал-лейтенант А. С. Щербаков обязал начальников политуправлений фронтов, военных округов, начальников политотделов армий лично проследить за тем, чтобы приказ наркома был немедленно зачитан и разъяснён всему личному составу. «Не должно быть ни одного военнослужащего, который не знал бы приказа товарища Сталина», – подчёркивалось в директиве начальника Главного политуправления. Все политорганы должны были дважды в день информировать ГлавПУ не только о ходе разъяснения приказа, но и о его выполнении.
Практические действия, предпринимаемые на местах, отслеживались Москвой пунктуально. 15 августа А. С. Щербаков направил военным советам и начальникам политуправлений фронтов, округов, армий новую директиву, в которой вскрыл непонимание некоторыми из них политического значения приказа № 227. Он особо обратил внимание подчинённых на то, что «приказ товарища Сталина является основным военно-политическим документом, определяющим боевые задачи всей Красной армии и содержание партийно-политической работы на ближайший период войны».
Начальник ГлавПУ потребовал не ограничиваться формальным ознакомлением личного состава с содержанием приказа, а увязывать эту работу с воспитанием у людей стойкости и упорства в бою, с борьбой против «элементов, сопротивляющихся наведению порядка и дисциплины в армии», с организацией штрафных частей и заградительных отрядов. Члены военных советов и руководители политуправлений обязывались лично заниматься организаторской работой и подбором подходящих кадров, не передоверяя эту работу подчинённым. О выполнении приказа № 227 все политорганы по-прежнему должны были ежедневно доносить в Москву. Пропагандистская машина работала, таким образом, без устали.
В первую очередь сталинский приказ проводился в жизнь, конечно, на южном фланге советско-германского фронта. «В настоящий момент [наша] главная задача – приостановить наступление противника на Туапсе и Новороссийск… – писал в начале августа 1942 г. Верховному Главнокомандующему член Политбюро ЦК ВКП(б), член военного совета Северо-Кавказского фронта Л. М. Каганович. – Одновременно принимаем, на основе приказа 227, меры по полному оздоровлению тыла, к настоящему [моменту] заградотряды созданы в большинстве дивизий, создано <…> штрафных рот, разослали специальных работников, в том числе и судебно-прокурорских, для задержки неорганизованно двигающихся частей и одиночек».
Косвенное представление о появлении приказа советские люди впервые получили из печати в начале августа. «Ожесточённые сражения, происходящие сейчас юго-западнее Клетской, носят весьма подвижный характер, – писала “Красная звезда”. – С обеих сторон принимает участие в боях большое количество танков, авиации, артиллерии и пехоты. Схватки распространились на десятки километров. Обходы, удары во фланги, встречные столкновения танковых и других колонн являются основными видами боевой деятельности войск. Враг делает невероятные усилия, чтобы овладеть излучиной Дона, но наталкивается на решительное сопротивление бойцов Красной армии. Ни шагу назад! – таков всюду должен быть девиз наших воинов! Ещё крепче, организованнее и стремительнее удары по врагу!» Понятно, что суть вопроса полностью была ясна только тем, кто имел к появлению этой газетной статьи непосредственное отношение.
Приказ № 227 хотя и не был секретным, а содержал лишь гриф «Без публикации», стал известен широкому читателю только в 1988 г., когда был напечатан в «Военно-историческом журнале». Но фронтовики в любом случае знали его отлично на протяжении всей войны.
Принимая решение о введении штрафных частей, Верховное Главнокомандование опиралось на опыт прошлого. Создание таких частей в Красной армии не было чем-то уникальным. Впервые они появились ещё в годы Гражданской войны по приказу Реввоенсовета республики от 3 июня 1919 г. Большевистские руководители, хорошо знавшие массовую психологию, отдавали себе полный отчёт в том, что человека способны заставить идти под вражеский огонь, на смерть, не только «пряники» – пламенные призывы, награды или перспектива карьерного роста, но и «кнут». Были востребованы крайние, крутые меры, сопоставимые с той опасностью, которой человек подвергался на поле боя.
Эту установку тогда весьма лаконично выразил председатель РВС республики, нарком по военным и морским делам в ленинском правительстве Л. Д. Троцкий: «Красноармеец должен быть поставлен в условия выбора между возможной почётной смертью в бою, если он идёт вперёд, и неизбежной позорной смертью расстреляния, если бросит позицию и побежит назад…»
Революционные военные трибуналы широко практиковали в отношении дезертиров такую меру наказания, как направление в штрафную роту с условным смертным приговором. Фактически эти приговоры в исполнение не приводились, так как большинство осуждённых либо искупали свою вину, либо погибали в боях. Всего в стране за семь месяцев 1919 г. были осуждены 95 тыс. злостных дезертиров, из которых больше половины было направлено в штрафные части, а 600 человек расстреляны. В штрафные части направлялись также красноармейцы, уличённые в саморанениях, или, как называли позднее, в членовредительстве.
К Гражданской войне относится и первый опыт заградотрядов. В соответствии с постановлением «О дезертирстве», принятым 5 декабря 1918 г. Советом рабоче-крестьянской обороны, по всей прифронтовой полосе для поимки дезертиров были организованы заградительные отряды из лиц, преданных Советской власти, а также специальные кавалерийские дивизионы. Наиболее крупными среди них были дивизион имени Троцкого, носивший название «Тайный дивизион», и отряд «Чёрная сотня».
«Организация заградительных отрядов представляет собой одну из важнейших задач командиров и комиссаров, – говорилось в приказе РВС Западного фронта, изданном в 1920 г. во время советско-польской войны. – Каждое крупное воинское соединение должно иметь за своею спиной хотя бы тонкую, но прочную и надёжную сетку заградительных отрядов… Лёгкость и безнаказанность дезертирства способны разъесть самую лучшую часть. Молодой солдат, пытающийся вырваться из огня, в который попал впервые, должен встретить твёрдую руку, которая властно возвратит его назад с предупреждением о суровой каре всем нарушителям боевого долга. Удирающий шкурник должен наткнуться на револьвер или напороться на штык…»
Анализ того, как использовались штрафные части, заставил первого заместителя наркома обороны маршала Г. К. Жукова в начале марта 1943 г. отдать командующим фронтами следующую директиву:
«Проверками штрафных частей, произведёнными военной прокуратурой, установлено, что на формирование и укомплектование штрафных батальонов и рот уходило по нескольку месяцев, в течение которых штрафники отсиживались в тылу, в боях не участвовали. Так, штрафной батальон Волховского фронта находился в глубоком тылу больше трёх месяцев, имея в своём составе всего 64 штрафника при 100 человек постоянного состава. Значительная часть штрафников 63‐й и 65‐й рот Сталинградского фронта находилась в тылу также около трёх месяцев. Штрафные роты 10‐й армии, насчитывая всего по 30–40 человек в роте, выполняли хозяйственные работы при вторых эшелонах.
В целях использования штрафных частей в строгом соответствии с приказом Народного комиссара обороны № 227 и положениями о штрафных частях, приказываю:
1. Сократить число штрафных рот в армиях. Собрать штрафников в сводные роты и таким образом содержать их в комплекте, не допуская бесцельного нахождения в тылу и используя их на наиболее трудных участках боевых действий.
2. В случае значительного некомплекта в штрафных батальонах вводить их в бой поротно, не ожидая прибытия новых штрафников из лиц начсостава с целью прикрытия некомплекта всего батальона.
3. О принятых мерах донести».
Штрафбаты и воевавшие в их составе штрафники – это при советской власти было закрытой темой. Зато теперь истории, связанные с героями и антигероями на букву «ш», оказались в числе самых востребованных страниц той войны. О них в последние годы сняты фильмы, написаны десятки книг. Но всё равно остаётся ещё много неясного, противоречивого. С некоторыми из этих вопросов многие постарались разобраться, поговорив со специалистами. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Владимир Телицын основательно занимался темой штрафных подразделений в Красной армии.
– Читал в публикациях некоторых авторов, что штрафные воинские части у нас появились ещё до подписания приказа № 227…
– Мне доводилось слышать такую историю: некий лётчик убил жену с любовником и, будучи приговорён к расстрелу, в письме Сталину попросил разрешения умереть в бою. Сталин, сказав: «А вдруг он хотя бы одного немца убить сможет?» – принял решение создать штрафбаты. Но это всего лишь легенда.
Штрафные подразделения существовали в Красной армии с 25 июля 1942 года. В этот день, даже раньше знаменитого сталинского приказа, была сформирована отдельная штрафная рота 42‐й армии Ленинградского фронта. А датой, когда штрафные роты прекратили своё существование, называют 6 июня 1945‐го: тогда была расформирована последняя из них – 32‐я отдельная штрафная рота 1‐й Ударной армии.
– Если судить по некоторым нынешним фильмам, в составе штрафбатов наряду с провинившимися советскими воинами сражались также и матёрые уголовники, «политические» …
– Такое мнение действительно сейчас распространено. Однако оно не соответствует реальности. Лица, отбывающие наказание за тяжкие уголовные преступления, а также за государственные преступления, согласно существовавшим в то время законам обязаны были провести весь положенный срок в тюрьмах и лагерях. Но люди с «гражданки» всё-таки могли оказаться среди штрафников на передовой. Во время войны допускалось в качестве альтернативной меры наказания направление по приговору суда в штрафные роты гражданских лиц, осуждённых за совершение нетяжких и средней тяжести общеуголовных преступлений.
– Наверняка многие наши читатели путаются: что такое штрафной батальон и что такое штрафная рота? Какая между ними разница?
– Это различие указано в самом приказе № 227. Штрафбат – штрафное подразделение в ранге батальона. Туда направлялись военнослужащие офицерского состава всех родов войск, осуждённые за воинские или общеуголовные преступления. Данные подразделения формировались в пределах фронтов – от одного до трёх на каждом фронте. В штрафбате насчитывалось по 800 человек.
Для провинившихся военнослужащих из числа рядового, сержантского состава предназначались штрафные роты. Их формировали в пределах армии – от пяти до десяти таких рот. В каждой – по 150–200 человек.
– Существует расхожее мнение, что штрафников отправляли фактически на убой, поручая им самые сложные и даже безнадёжные боевые задания…
– Сам смысл появления штрафных подразделений был в том, чтобы дать оказавшимся в них людям возможность «кровью искупить свою вину перед Родиной». Так что бои на самых опасных участках и неизбежное при этом значительное количество убитых и раненых вполне объяснимы. Потери в штрафных подразделениях были гораздо выше, чем в обычных частях.
Причиной тому – ещё и весьма своеобразные «тактические задачи», которые порой командование поручало штрафникам. Скажем, при нехватке сапёрных частей солдат штрафной роты могли послать на ликвидацию минных полей. Причём сплошь и рядом люди, не имеющие соответствующих навыков, разминировали территорию собственными телами: задетые ненароком мины взрывались у них под ногами.
Ещё одно специфическое военное изобретение с использованием «пушечного мяса»: штрафников нередко задействовали в «разведке боем». Когда нужно было составить хотя бы приблизительное представление о состоянии немецкой обороны, этих «храбрецов поневоле» посылали в лобовую атаку без какой-либо поддержки, с одной лишь целью: вызвать на себя как можно более мощный шквал немецких мин, снарядов и пуль. Благодаря этому наши офицеры, наблюдая издали, могли нанести расположение позиций вражеских миномётов, орудий и пулемётов на свои карты. Информация была очень важна для последующих успешных действий против гитлеровцев, но получали её ценой большого количества человеческих жизней: до 90 % штрафников из таких «разведок боем» не возвращались.
– Причин для попадания в штрафники было много. Вам наверняка попадались и неординарные случаи?
– Большинство печальных историй этих людей достаточно традиционны, развивались по нескольким «классическим» схемам. Вот лишь три примера, взятые из сохранившихся документов военного времени.
Командир танкового взвода лейтенант Матвиенко в районе Вязьмы в октябре 1941‐го попал в окружение. После ранения в ногу отстал от части. До прихода Красной армии скрывался, проживая в своей семье на Полтавщине.
Гвардии капитан Денисов, в апреле 1944 года командированный для заготовки зерна и картофеля, пьянствовал, разбазарил вверенное имущество. Почти пятьдесят суток не являлся к месту службы.
Офицер связи 52‐й гвардейской танковой бригады лейтенант Золотухин в июне 1944‐го утерял пакет с секретными документами…
В каждом штрафном подразделении воевали с врагом не только осуждённые за преступления, но и законопослушные офицеры. Командир штрафбата, его замполит, командиры рот – всё это были люди не из числа осуждённых. Впрочем, мне известны ситуации, когда статус человека, воюющего в штрафном подразделении, менялся, и он с командной должности попадал в ряды своих прежних подчинённых.
Например, однажды в штрафбат угодил командир штрафной роты. После боя и тяжёлых потерь в его подразделении получили продукты и водку («наркомовские 100 грамм») на уже погибших к тому времени солдат-штрафников. Столь богатые припасы употребили в дело: была организована пьянка, к которой присоединились и чины из военной прокуратуры. А потом, хорошо угостившись у командира штрафроты, они же и организовали на него дело за хищение. В результате офицер этот попал «искупать вину» в штрафной батальон.
Другой случай – из разряда «не рой другому яму». Любвеобильный инженер-майор домогался девушек-военнослужащих, пугая в случае отказа отправкой в штрафную роту. А те доложили о ловеласе куда следует. В итоге проведённого разбирательства и состоявшегося суда штрафником стал сам майор.
Есть примеры и более серьёзных нарушений. Так, например, большой резонанс имела проверка в мае 1943 г. организации питания красноармейцев на Калининском фронте, осуществлённая комиссией ГКО во главе с заместителем наркома обороны, начальником ГлавПУ РККА А. С. Щербаковым. Несмотря на достаточное количество продовольствия, личный состав ряда воинских частей длительное время не получал горячего питания, сухой паёк выдавался урезанным, одни продукты произвольно и без особой необходимости заменялись другими (мясо – яичным порошком, овощи – ржаной мукой), продовольствие расхищалось. Люди подчас просто голодали, массовыми стали случаи заболевания алиментарной дистрофией и даже голодной смерти.
Как вспоминал вновь назначенный командующим фронтом генерал-полковник А. И. Ерёменко, в первом квартале 1943 г. было 76 случаев смерти от истощения. Должностные лица же, включая начальника санитарного управления фронта, вместо наведения порядка в снабжении и обеспечении сохранности продуктов доказывали, что дистрофия и смерть происходили из-за малой калорийности пайка.
В постановлении ГКО № 3425с от 24 мая 1943 г., изданном по результатам работы комиссии А. С. Щербакова, ответственность за допущенные «крупнейшие недостатки в организации питания красноармейцев на Калининском фронте» была возложена на командование фронтом (командующий – генерал-полковник М. А. Пуркаев, член военного совета генерал-лейтенант Д. С. Леонов), членов военных советов армий, командиров дивизий, полков, батальонов и их заместителей.
Последовали и оргвыводы. Ещё до завершения работы комиссии ГКО генерал-полковник М. А. Пуркаев был снят с поста командующего фронтом и переведён на Дальневосточный фронт. Приказом по НКО № 0374 от 31 мая 1943 г. И. В. Сталин объявил выговор генерал-лейтенанту Д. С. Леонову, а генерал-майора П. Е. Смокачёва «за преступное отношение к вопросам питания красноармейцев» снял с поста члена военного совета фронта и начальника тыла фронта и предал суду военного трибунала. Военному совету фронта (его возглавил генерал-полковник А. И. Ерёменко) было предписано установить лиц начальствующего состава, «виновных в перебоях в питании бойцов или недодаче продуктов бойцам», и направить их в штрафные батальоны и роты…
Замнаркома по химической обороне и гвардейским миномётным частям генерал-майор артиллерии В. В. Аборенков (он же – командующий гвардейскими миномётными частями РККА) получил в сентябре 1942 г. доклад о том, что в 58‐м гвардейском миномётном полку (Сталинградский фронт) из-за «преступного отношения водительского, командного и политического состава полка к ценной и остро дефицитной боевой технике» выведено из строя до 80 процентов боевых и транспортных автомашин. Он приказал члену военного совета гвардейских миномётных частей фронта совместно с представителями особого отдела и автобронетанкового управления немедленно произвести расследование, по результатам которого виновных в преднамеренной порче машин расстрелять перед строем, а виновных в небрежном отношении к вверенной боевой технике – немедленно направить в штрафные части. Те же самые меры он потребовал применять к виновным в выводе техники из строя и впредь, доведя текст приказа до всего командного, политического и начальствующего состава, а также водительского состава гвардейских миномётных частей Красной армии…
– Известно ли общее количество штрафных подразделений и тех офицеров и солдат, которые через эту «мясорубку» прошли?
– Во многих справочниках приводятся такие цифры: за время существования штрафбатов и штрафных рот в такие специфические воинские части было направлено по приговору суда без малого 428 тыс. человек. Это составляет 1,24 % от числа военнослужащих, прошедших через советские Вооружённые силы за годы Великой Отечественной войны.
По годам эти людские потоки заметно отличаются: в 1942 году в составе штрафных подразделений успело повоевать почти 25 тыс. человек, в 1943 году – около 178 тыс., в 1944‐м – свыше 143 тыс., в 1945 году – без малого 82 тысячи.
Ответить на вопрос о количестве штрафных частей на самом деле трудно. Хотя составители современных справочников вроде бы точно сообщают: в период Великой Отечественной войны в Красной армии было 65 штрафбатов и 1048 штрафных рот. Имеется даже конкретный перечень с указанием присвоенных им номеров. Однако не всё так очевидно. Сроки существования таких подразделений различны. Какие-то существовали долго, какие-то – совсем короткое время.
Например, если в списке указано «1943 г.», это вовсе не значит, что данный батальон или рота существовали весь 1943 год. Известно, скажем, что 1‐й и 2‐й штрафные батальоны, сформированные к 25 августа 1943 года из бывших военнопленных, уже спустя два месяца были расформированы, а их личный состав восстановлен в правах.
Таким образом, количество одновременно существовавших штрафных частей оказывается гораздо меньшим. По одним данным – 38 отдельных штрафных батальонов и 516 отдельных штрафных рот. Другие исследователи насчитали 45 штрафных батальонов и 470 штрафных рот. Третьи – 51 отдельный штрафной батальон и 529 отдельных штрафных рот…
Цифры, упомянутые Вадимом Телицыным, возможно, покажутся кому-то не столь внушительными. Но в любом случае речь идёт о десятках и сотнях тысяч советских офицеров и солдат, которым в соответствии со сталинским приказом № 227 была сделана «прививка от трусости».
За последние годы было немало написано, сказано о тех, кто воевал и погибал в пехотных батальонах и ротах, состоявших из штрафников. Однако помимо «земных» штрафбатов были ещё штрафбаты «небесные» – штрафные эскадрильи. История этих подразделений до сих пор куда менее известна.
Долгие годы почти вся информация, относящаяся к штрафным подразделениям РККА, находилась под замком. Лишь после распада СССР часть документов, относящихся к кровавой истории штрафбатов и штрафрот, была рассекречена. Но даже в таких условиях оставалась тайна тайн. Речь идёт об эскадрильях, где лётный состав и наземные службы состояли из людей, осуждённых военным трибуналом.
Кроме того, разобраться в столь непростой теме помог ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Вадим Телицын.
Разработка положений о штрафбате и штрафроте потребовала ещё некоторого времени. В итоге они были подписаны зам. наркома обороны Г. Жуковым 26 сентября 1942‐го. Однако на три недели раньше успели оформить аналогичные документы авиаторы. После этого в Военно-воздушных силах начали создавать штрафные эскадрильи.
Впервые о них упомянуто в директиве Ставки № 170549 «О мерах по устранению причин недопустимо высокого выхода из строя самолётов», подписанной Сталиным 4 августа 1942 года.
«По докладу командующего ВВС Красной армии, из числа 400 истребителей, выделенных для участия в операциях Калининского и Западного фронтов, за 4–5 дней операции до 140 самолётов вышло из строя. Наши боевые потери составляли 51 истребитель, 89 истребителей считаются вышедшими из строя по техническим неисправностям.
Считая невероятным такой недопустимо высокий процент самолётов, вышедших из строя по техническим причинам, Ставка усматривает здесь наличие явного саботажа, шкурничества со стороны некоторой части лётного состава, которая, изыскивая отдельные мелкие неполадки в самолёте, стремится уклониться от боя. Безобразно поставленный в авиачастях технический надзор и контроль за материальной частью, а также за выполнением боевых заданий лётчиками, способствует этим преступным явлениям.
Ставка Верховного главнокомандования приказывает:
…Лётный состав, уличённый в саботаже, немедленно изъять из частей, свести в штрафные авиаэскадрильи и использовать для выполнения ответственнейших заданий на самых опасных направлениях и тем самым предоставить им возможность искупить свою вину.
Безнадёжных, злостных шкурников немедленно изъять из авиачастей и в качестве рядовых бойцов направить в штрафные пехотные роты для выполнения наиболее трудных задач в наземных частях».
Вскоре появилось положение о штрафных эскадрильях, подготовленное в штабе 8‐й воздушной армии Сталинградского фронта.
– Почему военачальники, возглавлявшие именно это авиационное соединение, стали разработчиками норм для «крылатых штрафников»?
– Доводилось слышать предположение, что руководство 8‐й ВА само проявило такую инициативу, – рассказал Вадим Телицын. – Однако, вероятнее всего, начальник Генштаба А. Василевский обязал Военный совет этой воздушной армии подготовить положение о штрафных эскадрильях. Допускаю, что подобные же поручения были даны и другим высшим чинам авиационного командования, а представители 8‐й армии просто справились с таким заданием успешнее других.
В любом случае именно разработки сталинградцев стали буквой закона для «небесных штрафбатов». 6 сентября положение о штрафных эскадрильях утвердили командующий 8‐й воздушной армией генерал-майор авиации Т. Хрюкин.
Задача штрафэскадрилий в документе была определена так: предоставить возможность лётчикам, стрелкам-бомбардирам, техникам и механикам, уличённым в саботаже, проявлении элементов шкурничества, уклонении от полётов, путём выполнения боевых заданий на самых опасных участках искупить свою вину перед Родиной. Далее сказано, что перечисленные выше лица независимо от занимаемых должностей направляются в штрафные эскадрильи распоряжением командира дивизии. Отчисление из штрафной эскадрильи осуществляется по представлению комдива приказом командующего армией.
Ещё через несколько дней, 9 сентября, И. В. Сталин подписал приказ, в котором говорилось: «Лётчиков-истребителей, уклоняющихся от боя с противником, предавать суду и переводить в штрафные части в пехоту».
– То есть командующие авиадивизиями имели возможность кого-то из провинившихся направлять в окопы, а кого-то сохранить для авиации, «сослав» в штрафную эскадрилью. От чего зависел такой выбор?
– Главным образом от тяжести проступка. Но чётких критериев не существовало. Поэтому срабатывал человеческий фактор. Бывало, что трибунал приговаривал провинившегося лётчика к отправке в пехоту, а комдив своей волей заменял штрафбат на штрафэскадрилью.
Нужно учитывать сугубо практическую причину появления штрафных авиаподразделений. Потребность в лётчиках была тогда огромная. Важнейшим стратегическим вопросом было создание преимущества советской авиации в воздухе. Для этого наша промышленность наращивала выпуск самолётов, но квалифицированных кадров для их эксплуатации не хватало. Даже в условиях военного времени, используя ускоренные курсы подготовки, пилотов приходилось обучать почти полгода. А тут такая расточительность: уже готового, зачастую даже опытного лётчика за допущенный им проступок следует «подарить» пехоте, где он будет ходить в атаку с примитивной винтовкой в руках. Нет уж, пускай сражается с врагом на той сложной технике, которую уже успел освоить!
– Самому «сталинскому соколу» тоже предпочтительнее было попасть в штрафную эскадрилью?
– Следует отметить, что документ у авиаторов получился даже более строгий, чем положение о пехотных штрафных подразделениях, которое подписал Жуков.
Например, отправленные в штрафбат командиры заранее знали, на сколько там могут остаться: этот срок не превышал трёх месяцев. Кроме того, полученное ранение признавалось основанием считать, что человек «смыл вину кровью». Но составители положения о штрафэскадрильях предпочли иные критерии для принятия решения о возвращении из штрафной части: число боевых вылетов и их итоги, а для наземных служб – качество подготовки самолётов к боевой работе. Случалось, лётчики застревали в статусе штрафника на 4–5 месяцев. Даже полученные во время вылетов ранения не давали права на автоматический перевод в обычные авиационные части. Отправленные в штрафную эскадрилью пилоты и специалисты наземных служб лишались прежних званий и числились рядовыми.
Несмотря на эти строгости, чаще всего среди провинившихся авиаторов направление в такие эскадрильи считалось самым щадящим наказанием.
Впрочем, большая часть осуждённых воинов из состава авиационных частей всё же попадала для искупления вины в пехоту. Тут следует учитывать и организационные моменты. Штрафные эскадрильи не получили широкого распространения. Такие лётные подразделения существовали не на всех фронтах, и командование воздушных армий отправляло туда только «своих» авиаторов. Поэтому, если, скажем, решался вопрос с определением наказания лётчику из соединения ВВС, где не имелось к тому времени штрафэскадрильи, такого человека ожидал обычный пехотный штрафбат.
Маршал авиации Александр Ефимов в интервью одной из газет упомянул о том, что история штрафных эскадрилий в годы войны до сих пор остаётся почти не исследованной ввиду «щепетильности темы».
Уже опубликован подробный перечень штрафных батальонов и штрафных рот. Но по «небесным штрафбатам» информация весьма скудная. Нашлись сведения лишь об отдельных штрафэскадрильях.
Больше всего упоминаний о «крылатых штрафниках» из 8‐й воздушной армии. В её составе 9 сентября 1942 года начали формировать три такие эскадрильи, по 10 самолётов в каждой. Одна из них – истребительная – вошла в состав 268‐й истребительной авиадивизии, лётчики воевали на самолётах Як‐1 и ЛаГГ‐3. Другая – штурмовая – была включена в 206‐ю штурмовую авиадивизию и укомплектована «летающими танками» Ил‐2. И, наконец, третья – легкобомбардировочная – действовала при 272‐й ночной бомбардировочной дивизии, будучи укомплектована бипланами У‐2. Учитывая, что в 8‐й ВА тогда насчитывалось полсотни авиаполков, а в каждом из них – около 60 самолётов, оказывается, что доля штрафников в этой крылатой армаде составила лишь 1 %.
В организационном плане у штрафных авиационных и пехотных подразделений было некоторое сходство. Например, начальников в штрафэскадрильи назначали не из числа провинившихся. Таких в штате было пятеро: командир и комиссар эскадрильи, заместитель комэска, старшие адъютант и техник. Весь остальной лётный и технический состав укомплектовывался штрафниками.
В. Телицын: «Отмечу примечательный момент. После того как КБ Ильюшина внесло изменения в конструкцию штурмовика и сделало его двухместным – с кабиной для пулемётчика сзади, появилась новая должность – стрелка на Ил‐2. Она оказалась в прямом смысле “расстрельной”: стрелок был очень уязвим при атаках противника, причём немецкие истребители, чтобы не попасть под мощный огонь основного вооружения штурмовика, чаще всего пытались сбивать наши Илы, именно заходя им в хвост. Поэтому, как показывает статистика, “номер второй” в экипаже Ила получал ранения или погибал в несколько раз чаще, чем пилот самолёта. Конечно, в штурмовых полках возникала нехватка стрелков. Дефицит ликвидировали просто: в этом качестве на Ил‐2 сажали штрафников, порой даже из числа наземных солдат и командиров, – главное, чтобы человек с пулемётом обращаться умел».
В 3‐й воздушной армии Калининского фронта осенью 1942 года воевала штрафная истребительная эскадрилья во главе с настоящим асом – майором Иваном Фёдоровым. В документах она названа «группой штрафников лётного состава». Упоминается также, что в неё входили 64 человека, однако большинство – штрафники из числа наземного персонала.
Существовала штрафная эскадрилья в 4‐й воздушной армии 2‐го Белорусского фронта – при 233‐й штурмовой авиадивизии.
По сведениям, найденным одним из исследователей, штрафэскадрилья была сформирована 22 сентября 1942 года в составе 236‐й истребительной авиадивизии Черноморской группы войск. Она просуществовала до января 1943‐го, принимая участие в боях на Кубани. В составе эскадрильи воевали 6 лётчиков-штрафников, которые совершили 176 вылетов на разведку войск противника и 165 – на штурмовку. Примечательно, что по крайней мере до середины октября 1942 года штрафникам приходилось летать на устаревших машинах – бипланах И‐153, которые приспособили для атак наземных целей.
За что попадали в «небесные штрафники»? Провинности были разные, порой удивительные.
Командир эскадрильи 622‐го отдельного штурмового полка Григорий Потлов 14 августа 1942 года не выполнил боевое задание. По какой-то причине он не смог обнаружить порученную для атаки наземную цель, и в результате все 6 Илов, входивших в состав его группы, вернулись на аэродром с неизрасходованным боекомплектом. Командир полка расценил это как проявление трусости и написал рапорт. В итоге Потлова отправили в штрафную эскадрилью. Там провинившийся комэск зарекомендовал себя отличным лётчиком и уже вскоре был назначен ведущим группы штурмовиков. Воевать в «воздушном штрафбате» Григорию Алексеевичу пришлось почти 5 месяцев. Лишь 24 января 1943‐го Потлова восстановили в звании капитана, вернули заслуженный им прежде орден и назначили командиром эскадрильи 811‐го штурмового авиаполка.
Комэск Фёдор Филипченко 19 сентября 1942 года был приговорён трибуналом к лишению свободы на 5 лет за поломку истребителя. Тюремный срок ему заменили отбыванием наказания в штрафной эскадрилье при 268‐й ИАД. Находясь там, он за неполных два месяца совершил 37 боевых вылетов, сбил 2 немецких самолёта. После этого был возвращён в свой полк как искупивший вину.
Пилот, старший сержант Владимир Цурко сплоховал при экстренной посадке на полевом аэродроме. Его Як‐1 выкатился за пределы взлётной полосы и крылом ударил стоявший на площадке другой истребитель, безнадёжно изуродовав его. В итоге Цурко попал в штрафники и погиб пару недель спустя – не вернулся с очередного боевого вылета.
Зачастую «сталинских соколов» приводил в штрафэскадрилью алкоголь. Изрядно принявшему на грудь лётчику взбрело в голову пострелять из табельного пистолета по пустым бутылкам. На беду мимо проходил какой-то солдатик, ну и получил пулю. Коллега этого лётчика по увлечению «огненной водой» во хмелю разбушевался и избил дежурного офицера части. Ещё один лётчик – пилот тяжёлого бомбардировщика – угодил в летающие штрафники, застрелив, будучи под парами, пытавшегося утихомирить его милиционера…
Представитель технических служб мог загреметь в штрафэскадрилью даже за чрезмерную инициативность, проявленную ради обеспечения боеготовности «подшефного» самолёта. Известен случай с авиамехаником, который, стараясь поскорее починить повреждённый ЛаГГ‐3 своего лётчика, умыкнул необходимые детали с такого же истребителя в соседнем полку.
Впрочем, гораздо чаще технари получали «путёвку» в штрафную эскадрилью за допущенные оплошности, которые привели к поломке крылатых машин или утрате их боевых качеств. Поздней осенью 1942‐го, когда ударили первые холода, по недосмотру механиков оказалась заморожена система водяного охлаждения двигателей нескольких самолётов в полках 8‐й воздушной армии. В другом случае невнимательность главного техника эскадрильи по обеспечению вооружением привела к тому, что Ил‐2 вылетел на боевое задание безоружным: этот специалист забыл зарядить пушки штурмовика снарядами.
Некоторые инциденты, закончившиеся отправкой в штрафники, выглядят и вовсе анекдотически. Командир авиаполка отправил двух пилотов в тыл, чтобы перегнать в часть с расположенного под Астраханью полевого аэродрома отремонтированный истребитель. Парни вылетели в командировку на У‐2 и исчезли. В итоге пропавших обнаружили под Кизляром. Оказалось, что лётчики решили воспользоваться оказией и «по пути» завернуть в соседние дагестанские края, чтобы затариться там вином. Эта «спецоперация», может, и прошла бы для начальства незамеченной, но, увы, при взлёте с пустыря возле «винной точки» самолёт потерпел аварию.
О том, как воевали лётчики в штрафных эскадрильях, можно судить по скупым строчкам армейских приказов и наградных листов.
Вот лишь несколько фрагментов из распоряжений о реабилитации авиаторов, подписанных командующим 8‐й воздушной армией генерал-майором Тимофеем Хрюкиным (характерно, что в приказах «искупившие вину» штрафники уже названы теми званиями, которые они имели до вынесения приговора).
«28 февраля 1943 г. сержант Котенко Борис Борисович при штурмовке высоты 101 попал под сильный заградительный зенитный огонь. Несмотря на то, что были перебиты тяги и пробиты бензобаки, бомбы положил точно в цель, после чего посадил самолёт на линии фронта и под пулемётным огнём лично эвакуировал его на 20 км в тыл…»
«При выполнении боевого задания 28 марта 1943 г. днём на самолёте У‐2 пилот старшина Казарянц Владимир Егишевич, будучи обстрелянным зенитно-пулемётным огнём, получил ранение в ногу и, истекая кровью, привёл самолёт на свой аэродром…»
«Старший техник-лейтенант Ноготков Василий Николаевич, осуждённый военным трибуналом сроком на 5 лет, работая механиком, обеспечил 129 боевых вылетов при образцовом содержании материальной части…»
Напряжённо трудились «воздушные рабочие войны», попавшие в штрафную эскадрилью при 272‐й авиадивизии. Эта группа пилотов под командой старшего лейтенанта Ивана Семергея летала на лёгких ночных бомбардировщиках У‐2. За ночь успевали иногда слетать на 5–6 бомбёжек. Красноречивая статистика: красноармеец (а до попадания в ШЭ – батальонный комиссар) Мухамедзян Шарипов за месяц произвёл 94 боевых вылета, его товарищ по эскадрилье Кузьма Волков – 75 вылетов.
А это выдержки из наградных представлений, в которых упоминаются в том числе и подвиги пилотов, воевавших в штрафэскадрильях:
«…За время нахождения в штрафной авиаэскадрилье при 236 ИАД с 8. 10. 42 по 31. 12. 42 совершил 89 успешных боевых вылетов. Из них: на штурмовку с бомбометанием – 43, на разведку войск противника – 46. Выполнял самые ответственные задания… 12 ноября при выполнении боевого задания командования по штурмовке и бомбометанию войск противника в районе цели был атакован группой самолётов противника Ме‐109Ф. В завязавшемся бою пилот мл. лейтенант Рохманюк в паре с лейтенантом Манычкиным сбили самолёт противника… Приказом командующего воздушной армией 31. 12. 42 г. за отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом отваги и мужества пилот младший лейтенант Рохманюк из штрафной авиаэскадрильи переведён в действующую часть…» (Из наградного листа на младшего лейтенанта Григория Рохманюка. 1 января 1943 г.)
«9 сентября 1942 года был назначен командиром штрафной авиаэскадрильей при 286‐й штурмовой авиадивизии… Штрафная эскадрилья малым числом лётного состава 5–6 человек произвела на Сталинградском фронте 86 успешных боевых вылетов, при этом уничтожено: танков – 12, автомашин – 79, подавлен огонь 12 зенитных артбатарей… Уничтожено… живой силы до 500 солдат и офицеров…» (Из наградного листа на капитана Петра Забавских. 29 мая 1943 г.)
Сроки существования штрафных эскадрилий в воздушных армиях были разными.
Например, упомянутая ранее штурмовая ШЭ при 206‐й авиадивизии, которой командовал капитан П. Ф. Забавских, была расформирована в мае 1943 года.
Штрафэскадрилью истребителей Ивана Фёдорова расформировали в конце осени 1942‐го, после двух месяцев ожесточённых боёв с асами люфтваффе на Калининском фронте. Всех штрафников, находившихся к тому времени в подразделении, направили служить в обычные лётные части, сняв прежние судимости.
А вот штрафное подразделение в 4‐й воздушной армии существовало даже в первой половине 1944‐го. Именно тогда в его составе воевал «сосланный» сюда по решению трибунала будущий Герой Советского Союза Иван Занин.
Формально окончательную точку в истории штрафэскадрилий поставил Указ Президиума ВС СССР от 7 июля 1945 года «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией». 11 дней спустя вышел приказ, в котором разъяснялось, что объявленная амнистия распространяется и на бойцов, оставшихся ещё в штрафных подразделениях.
Впрочем, Вадим Телицын высказал иное мнение о фактической ситуации с «небесными штрафниками»: «Работая с архивами, я встречал материалы, которые убеждают в том, что штрафэскадрильи исчезли после Победы далеко не сразу. Могу даже предположить, что подразделения, состоявшие из лётчиков-штрафников, принимали участие в боях на Дальнем Востоке против Японии. Хотя документальных подтверждений этого мне не встретилось».
Существовали ли в Красной армии штрафные подразделения, укомплектованные только представительницами слабого пола?
Женщины на войне, во фронтовых условиях – по сути своей это вообще противоестественно. Но куда более вопиющая ситуация, когда представительницы прекрасного пола попадают в самое пекло сражения. А ведь именно наиболее опасные участки на передовой «затыкали» во время Великой Отечественной частями, состоящими из штрафников.
В некоторых публикациях, которые довелось посмотреть, авторы категорически отрицают данный факт: «Женщин в штрафные роты не направляли. Для отбытия наказания они направлялись в тыл…» На самом же деле это не так.
Если судить по официальным документам, «штрафницы» существовали в Красной армии на протяжении более года. Началось всё с июля 1942‐го, когда вышел приказ № 227 («Ни шагу назад!»), которым вводились в армиях штрафные батальоны и роты. А 19 сентября 1943 года появилась директива Генштаба № 1484/2/орг: «Начальникам штабов фронтов военных округов и отдельных армий о порядке исполнения судебных приговоров в отношении женщин-военнослужащих. Женщин-военнослужащих, осуждённых за совершённые преступления, в штрафные части не направлять…»
Вместо штрафбатов и штрафрот отныне предлагалось отправлять провинившийся слабый пол в части действующей армии. Вариантов было несколько: с понижением в должности, в звании на несколько чинов, а то и вовсе рядовыми. За серьёзные проступки трибунал мог приговорить женщину в погонах к отправке в места заключения.
Исследователи обнаружили в архивах некоторые документы, подтверждающие факт существования женщин-штрафников в период 1942–1943 гг. Вот лишь некоторые из них:
«Чупринина Лидия Филипповна, 1924 года рождения. Место рождения: Краснодарский край… Последнее место службы – 56‐я армия 97‐я армейская отдельная штрафная рота 5‐го армейского отдельного штрафного батальона 328‐й дивизии. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убита. Дата выбытия – 9.08.1943…»
«Бранникова Клавдия Васильевна, 1923 г. р. Место рождения: Кировская обл., Лебяжский р-н, с. Пронина… Последнее место службы: 83‐я Гвардейская стрелковая дивизия 97‐я отдельная штрафная рота. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убита. Дата выбытия: 15.03.1943…»
«Хованова Евгения Павловна. Дата рождения: 1924 г. Место рождения: г. Ленинград. Последнее место службы: 42‐я армия 125‐я ОШР. Воинское звание: красноармеец. Причина выбытия: убита. Дата выбытия: 18.08.1943…»
А вот о военнослужащей Кондратьевой, решением трибунала отправленной в штрафники и оказавшейся в составе отдельной штрафной роты, приданной 379‐й стрелковой дивизии, из документов известно, что она отличилась в бою 13 марта 1943‐го и после этого была не только освобождена от наказания, но вместе с ещё семью штрафниками из этой роты представлена за проявленное мужество и героизм к награде.
Много ли их было в годы Великой Отечественной – женщин и девушек-«штрафбатовцев»? И формировались ли на фронте из них отдельные женские штрафные подразделения? Разбираться в этом помог автор книги «Мифы о штрафбатах», ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Вадим Телицын.
– Насколько мне известно, специально сформированных только из женщин штрафных подразделений в Красной армии не существовало. Однако в составе штрафбатов могло находиться какое-то количество представительниц слабого пола – относительно небольшое. Скажем, из 300–500 человек общего состава батальона 20–30 – женщины.
– И что же? Они вместе с мужиками шли в атаку на немецкие пулемёты?
– Упоминаний о подобных эпизодах не встречал. Вообще в штрафбатах старались женщин использовать на вторых ролях, держать по возможности подальше от самой горячки боя. Они служили связистками, санитарками, иногда – снайперами… Во время атаки они не шли в передних рядах.
– За что женщины могли попасть в штрафбат?
– Список прегрешений большой. Например, начальство обнаружило, что девушка-зенитчица ушла с батареи в самоволку. Или связистка опоздала из увольнения. Ещё один вариант: работница армейской хлебопекарни припрятала и продала спекулянтам несколько буханок хлеба, а служащая на вещевом складе попалась на краже казённого белья или обуви…
Бывали и трагические случаи. Ведь к женщинам в действующей армии повышенное внимание. Вокруг каждой – десятки и сотни сослуживцев-мужчин. И не всегда эти мужчины вели себя по-рыцарски. Если за девушкой-военнослужащей начинал активно ухаживать кто-нибудь из командиров, добиваясь физической близости, а она резко отвергала домогательства офицера, бывало, тот элементарно мстил «недотроге»: под надуманным предлогом обвинял её в серьёзном нарушении дисциплины и отправлял под трибунал.
Сохранились воспоминания участницы Великой Отечественной войны С. Г. Ильенко как раз об одном таком случае:
«Девушка у нас в части пыталась покончить с собой, но лишь легко себя ранила и осталась жива. Её судил трибунал. Суд был открытый. Помню, как председательствующий спрашивал её: “Старшина к тебе приставал?” А она отвечала: «Да, приставал. Он говорил мне: «Ах ты, чадо моё, чадо!» Это была простая крестьянская девушка, она не знала слова «чадо» … В конце концов её приговорили к отправке в штрафной батальон. Дальнейшей её судьбы я не знаю, но штрафной батальон – это была почти верная смерть…»
– Практика отправки провинившихся женщин-военнослужащих в штрафбаты действительно прекратилась осенью 1943-го, после появления директивы Генштаба по «женскому вопросу»?
– Скажем так, в массовом порядке такого больше не было, однако отдельные случаи всё-таки происходили – из-за волюнтаризма членов конкретного военного трибунала, а также из-за того, что какое-то время в нормативных документах оставались пробелы. Вплоть до лета 1944 года не существовало официального положения, регламентирующего, как следует обходиться с совершившими проступок или преступление женщинами-военнослужащими.
Например, ветеран войны Ефим Абелевич Гольбрайх, сам воевавший в штрафбате, в своих опубликованных заметках привёл в качестве примера такую выписку из приказа по 8‐му отдельному штрафному батальону, датируемого 1944 годом: «В период наступательных боёв в районе деревни Соковнинка бывший боец переменного состава Лукьянчикова Пелагея Ивановна, исполняя должность санитара стрелковой роты, самопожертвенно презирая смерть, оказывала помощь раненым непосредственно на поле боя. В период боёв с 15 по 24 июля ею вынесено 47 раненых бойцов с их оружием…» То есть эта женщина находилась в составе штрафбата уже много месяцев спустя после того, как была подписана упомянутая директива Генштаба…
– Можно ли назвать конкретные данные – сколько женщин прошло через штрафбаты?
– Такой информации нет. Хотя в будущем, может, мы это и узнаем. Ведь многие документы, относящиеся к комплектованию и действиям штрафных подразделений, ещё не рассекречены. Могу лишь предположить, что речь идёт о нескольких тысячах женщин-штрафников. Судите сами: по подсчётам исследователей, в общей сложности во всех штрафбатах и отдельных штрафных ротах за годы войны перебывало не менее 420–430 тыс. штрафников. Даже если предположить, что лишь около 5 % из них были женщинами, получается более 2 тысяч «штрафниц».
Что интересно: все мои попытки обнаружить в мемуарах участниц боевых действий хоть какие-то упоминания об их службе в штрафных подразделениях не дали результата. Возможно, наши уважаемые женщины-ветераны просто не захотели упоминать о таком «негативе» в своей фронтовой биографии. Но есть и иное объяснение. Ведь уцелеть, оказавшись в штрафбате, повезло далеко не каждому. Статистика войны неумолима: в среднем срок жизни штрафника во время наступления – 1–2 боя.
Создавались и заградительные отряды для расстрела отступающих.
В армии действовал карательный орган контрразведки Смерш («Смерть шпионам») с неограниченными правами.
Глава 3
Сталинградская битва
Сталинградская битва стала крупнейшим сражением в мировой истории. Она продолжалась более полугода, с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. В ней приняло участие свыше 2 миллионов солдат. Красной армии пришлось воевать не только с немцами, но и с румынами, итальянцами, хорватами и венграми.
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточённая битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяжённости фронта от 400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн человек. По целям, размаху и напряжённости боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории.
Немецкое верховное командование, планируя операции на лето и осень 1942 г., руководствовалось подписанной А. Гитлером 5 апреля 1942 г. директивой № 41, в которой изложенные военно-политические цели были фактически развитием идей плана «Барбаросса». Основными условиями окончательного разгрома СССР, по мнению высших руководителей вермахта, являлись захват Кавказа с его мощными источниками нефти, плодородных сельскохозяйственных районов Дона, Кубани, Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, а также захват водной артерии – р. Волги.
К концу июня 1942 г. противник сосредоточил в полосе от Курска до Таганрога на фронте 600–650 км около 900 тыс. солдат и офицеров, 1260 танков, 17 тыс. орудий и миномётов, 1640 боевых самолётов. В составе этой группировки находилось до 35 % пехотных, свыше 50 % танковых и моторизованных дивизий от общего количества войск на советско-германском фронте.
В соответствии с директивой главного командования вермахта № 45 от 23 июля 1942 г. группа армий «Юг» при подготовке к наступлению была разделена на две группы: группу армий «А» и группу армий «Б». Группе армий «А» (командующий – генерал-фельдмаршал В. Лист) была поставлена задача захватить Кавказ. Как предписывалось директивой, «…на долю группы армий «Б» выпадает задача наряду с оборудованием оборонительных рубежей на реке Дон нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке. Вслед за этим танковые и механизированные войска должны нанести удар вдоль Волги с задачей выйти к Астрахани и там также парализовать движение по главному руслу Волги…» В состав группы армий «Б» (командующий – генерал-полковник, с 1.02.1943 г. генерал-фельдмаршал М. Вейхс) входили: немецкие 4‐я танковая, 2‐я и 6‐я армии, 8‐я итальянская и 2‐я венгерская армии.
Из состава войск группы армий «Б» для захвата Сталинграда была выделена 6‐я армия (командующий – генерал-полковник Ф. Паулюс). Немецкое командование было настолько уверено в быстром захвате Сталинграда, что с 1 по 16 июля сократило состав 6‐й армии с 20 до 14 дивизий. Всего в 6‐й армии к началу наступления насчитывалось 270 тыс. солдат и офицеров, около 3 тыс. орудий и миномётов, около 500 танков, а с воздуха её поддерживали 1200 боевых самолётов 4‐го воздушного флота.
В результате неудачного для советских войск исхода операций под Харьковом, на воронежском направлении и в Донбассе, а также выдвижения крупных сил противника в большую излучину Дона создалась реальная угроза прорыва врага к Волге. Это могло привести к разрыву фронта советских войск и потере коммуникаций, связывавших центральные области страны с Кавказом.
Войска Юго-Западного фронта понесли большие потери и не могли остановить продвижение немецко-фашистских войск на восток. Войска Южного фронта, отражая атаки соединений немецких 1‐й танковой и 17‐й армий группы армий «А» с востока, севера и запада, с тяжёлыми боями отходили к ростовскому оборонительному району. Требовались срочные, решительные меры, чтобы организовать отпор противнику на сталинградском и кавказском направлениях.
С этой целью решением Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) в тылу Юго-Западного и Южного фронтов были развёрнуты 62‐я, 63‐я и 64‐я армии. 12 июля был образован новый Сталинградский фронт (командующий – Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко), в состав которого, кроме указанных армий, вошли из расформированного Юго-Западного фронта 21‐я и 8‐я воздушная армии. Сталинградский фронт получил задачу создать прочную оборону по левому берегу Дона в полосе от Павловска до Клетской и далее по линии Клетская – Суровикино – Верхне-Курмоярская. На участок от Верхне-Курмоярской до Азова (протяжённостью свыше 300 км) по левому берегу Дона была выдвинута 51‐я армия Северо-Кавказского фронта. Вместе с отходившими войсками Южного фронта она должна была прикрывать кавказское направление. Вскоре в состав Сталинградского фронта Ставка дополнительно включила отошедшие с большими потерями 28‐ю, 38‐ю и 57‐ю армии. На усиление 8‐й воздушной армии в район Сталинграда были направлены десять авиационных полков (всего 200 самолётов).
Необходимо отметить, что несвоевременное определение намерений противника по захвату Сталинграда летом 1942 г. привело к тому, что Ставка ВГК не успела вовремя перебросить резервы для создания нового фронта обороны. В середине июля врагу на сталинградском направлении реально могли противостоять 12 дивизий 63‐й и 62‐й армий (166 тыс. человек, 2,2 тыс. орудий и миномётов, около 400 танков). Авиация фронта насчитывала около 600 самолётов, в том числе 150–200 бомбардировщиков дальней авиации и 60 истребителей противовоздушной обороны (ПВО). На подступах к Сталинграду строились четыре оборонительных обвода: внешний, средний, внутренний и городской. Хотя к началу оборонительной операции оборудовать их полностью не удалось, они сыграли немалую роль в обороне города. Из числа жителей Сталинграда формировались батальоны народного ополчения.
Общее руководство и координацию действий фронтов под Сталинградом по поручению Ставки ВГК осуществляли заместитель Верховного Главнокомандующего генерал армии Г. К. Жуков и начальник Генерального штаба генерал-полковник A. M. Василевский.
С учётом решаемых задач, особенностей ведения боевых действий сторонами, пространственного и временного масштаба, а также результатов Сталинградская битва включает два периода: оборонительный – с 17 июля по 18 ноября 1942 г.; наступательный – с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.
Стратегическая оборонительная операция на сталинградском направлении продолжалась 125 дней и ночей и включает два этапа. Первый этап – ведение оборонительных боевых действий войсками фронтов на дальних подступах к Сталинграду (17 июля – 12 сентября). Второй этап – ведение оборонительных действий по удержанию Сталинграда (13 сентября – 18 ноября 1942 г.).
Немецкое командование наносило главный удар силами 6‐й армии в направлении на Сталинград по кратчайшему пути через большую излучину Дона с запада и юго-запада, как раз в полосах обороны 62‐й (командующий – генерал-майор В. Я. Колпакчи, с 3 августа – генерал-лейтенант А. И. Лопатин, с 6 сентября – генерал-майор Н. И. Крылов, с 10 сентября – генерал-лейтенант В. И. Чуйков) и 64‐й (командующий – генерал-лейтенант В. И. Чуйков, с 4 августа – генерал-лейтенант М. С. Шумилов) армий. Оперативная инициатива находилась в руках немецкого командования при почти двойном превосходстве в силах и средствах.
Оборонительные боевые действия войсками фронтов на дальних подступах к Сталинграду велись с 17 июля по 12 сентября.
Первый этап операции начался 17 июля 1942 г. в большой излучине Дона боевым соприкосновением частей 62‐й армии с передовыми отрядами немецких войск. Завязались ожесточённые бои. Противнику пришлось развернуть пять дивизий из четырнадцати и затратить шесть суток, чтобы подойти к главной полосе обороны войск Сталинградского фронта. Однако под натиском превосходивших сил противника советские войска были вынуждены отходить на новые, слабо оборудованные или даже необорудованные рубежи. Но и в этих условиях они наносили врагу ощутимые потери.
К концу июля обстановка на сталинградском направлении продолжала оставаться очень напряжённой. Немецкие войска глубоко охватили оба фланга 62‐й армии, вышли к Дону в районе Нижне-Чирской, где держала оборону 64‐я армия, и создали угрозу прорыва к Сталинграду с юго-запада.
В связи с возросшей шириной полосы обороны (около 700 км) решением Ставки ВГК Сталинградский фронт, которым с 23 июля командовал генерал-лейтенант В. Н. Гордов, 5 августа был разделён на Сталинградский и Юго-Восточный фронты. Для достижения более тесного взаимодействия между войсками обоих фронтов с 9 августа руководство обороной Сталинграда было объединено в одних руках, в связи с чем Сталинградский фронт был подчинён командующему войсками Юго-Восточного фронта генерал-полковнику А. И. Ерёменко.
30 июля немецким командованием было принято решение повернуть 4‐ю танковую армию с кавказского направления на сталинградское. В результате на сталинградском направлении действовали уже две армии: 6‐я – с запада и 4‐я танковая – с юго-запада. 5 августа передовые соединения 4‐й танковой армии вышли к внешнему Сталинградскому обводу. Попытки противника с ходу прорваться через этот рубеж были отражены хорошо организованными контратаками соединений 64‐й и 57‐й армий.
Несмотря на упорное сопротивление советских войск, 23 августа противнику удалось прорвать оборону 62‐й армии, подойти к среднему обводу города, а передовыми отрядами немецкого 14‐го танкового корпуса выйти к Волге севернее Сталинграда в районе Ерзовки. Одновременно с этим немцы бросили на город армаду бомбардировщиков – за один день было сделано более 2 тыс. самолётовылетов. Воздушные налёты за всю войну не достигали такой силы. Огромный город, растянувшийся на 50 км, был объят пламенем.
Представитель Ставки ВГК A. M. Василевский вспоминает: «Утро незабываемого трагического 23 августа застало меня в войсках 62‐й армии. В этот день фашистским войскам удалось своими танковыми частями выйти к Волге и отрезать 62‐ю армию от основных сил Сталинградского фронта. Одновременно с прорывом нашей обороны противник предпринял 23 и 24 августа ожесточённую массовую бомбардировку города, для которой были привлечены почти все силы его 4‐го воздушного флота. Город превратился в развалины. Телефонная и телеграфная связь нарушилась, и мне в течение 23 августа пришлось дважды вести короткие переговоры с Верховным Главнокомандующим открыто по радио».
Средствами ПВО только 23 августа было сбито 120 самолётов противника, из них истребительной авиацией – 90, зенитной артиллерией – 30 самолётов. При этом зенитные артиллерийские полки перед городом отражали неоднократные атаки немецких танков и пехоты, нанося им урон. Сражение у стен города принимало исключительно напряжённый и ожесточённый характер.
В эти дни городской комитет обороны, возглавляемый секретарём Сталинградского обкома партии А. С. Чуяновым, обратился к населению города с воззванием:
«Дорогие товарищи! Родные сталинградцы! Снова, как и 24 года назад, наш город переживает тяжёлые дни. Кровавые гитлеровцы рвутся в солнечный Сталинград к великой русской реке Волге. Сталинградцы! Не отдадим родного города на поругание немцам. Встанем все как один на защиту любимого города, родного дома, родной семьи. Покроем все улицы непроходимыми баррикадами. Сделаем каждый дом, каждый квартал, каждую улицу непреступной крепостью. Выходите все на строительство баррикад. Баррикадируйте каждую улицу. В грозный 1918 год наши отцы отстояли Царицын. Отстоим и мы в 1942 году Краснознамённый Сталинград!
Все на строительство баррикад! Все, кто способен носить оружие, на защиту родного города, родного дома!»
Население города являлось важнейшим источником пополнения рядов защитников Сталинграда. Тысячи жителей вливались в части 62‐й и 64‐й армий, на которые была возложена оборона города.
В первых числах сентября противник прорвал внутренний обвод города и захватил отдельные районы в северной его части. Он продолжал упорно рваться к центру города, чтобы полностью перерезать Волгу – эту важнейшую коммуникацию. Попытки врага прорваться к Волге на широком фронте обходились ему большими потерями. Так, только за 10 дней сентября у стен Сталинграда немцы потеряли 24 тыс. человек убитыми, было уничтожено около 500 танков и 185 орудий. С 18 августа по 12 сентября на ближних подступах к городу было сбито более 600 самолётов противника.
2 сентября командующий группой армий «Б» и командующий 6‐й армией были вызваны в ставку фюрера под Винницей. Гитлер был крайне недоволен тем, что до сих пор Сталинград не взят немецкими войсками, и приказал захватить город в кратчайшие сроки.
Силы противника всё время нарастали. Всего на сталинградском направлении в первой половине сентября действовало уже около 50 дивизий. Его авиация имела господство в воздухе, совершая в день от 1500 до 2000 самолётовылетов. Методически разрушая город, враг пытался подорвать морально-психологическое состояние войск и населения.
Второй этап оборонительной операции советских войск по удержанию Сталинграда начался 13 сентября и продолжался 75 дней и ночей. На этом этапе операции противник четыре раза переходил к штурму города, пытаясь захватить его с ходу.
Первый штурм города начался 13 сентября мощной артиллерийской подготовкой при поддержке авиации. Враг превосходил в силах и средствах соединения 62‐й и 64‐й армий примерно в 1,5–2 раза, а по танкам – в 6 раз. Основные его усилия были направлены на захват центра города с выходом к Волге на участке напротив центральной переправы.
Бои в городе носили исключительно ожесточённый и напряжённый характер и продолжались практически круглосуточно на улицах и площадях Сталинграда. Стойкостью и упорством советских войск поражались даже генералы вермахта. Участник битвы под Сталинградом, немецкий генерал Г. Дерр позднее писал: «За каждый дом, цех, водонапорную башню, насыпь, стену, подвал и, наконец, за каждую кучу мусора велась ожесточённая борьба, которая не имела себе равных даже в период Первой мировой войны с её гигантским расходом боеприпасов. Расстояние между нашими войсками и противником было предельно малым. Несмотря на массированные действия авиации и артиллерии, выйти из района ближнего боя было невозможно. Русские превосходили немцев в отношении местности и маскировки и были опытнее в баррикадных боях за отдельными домами: они заняли прочную оборону».
День 14 сентября вошёл в героическую эпопею Сталинградской битвы как один из кризисных дней обороны. Особенно упорные бои развернулись в районе элеватора и вокзала Сталинград‐2. Ценой больших потерь 15 сентября противник овладел господствующей в центральной части города высотой 102,0 – Мамаевым курганом. Однако уже на следующий день части 13‐й гвардейской и 112‐й стрелковых дивизий в результате ожесточённых боёв отбили у врага высоту.
С 13 по 26 сентября противник сумел потеснить соединения и части 62‐й армии и ворваться в центр города, а на стыке двух армий – 62‐й и 64‐й – выйти к Волге. Но овладеть всем берегом р. Волги в районе Сталинграда врагу не удалось. Особенно упорные бои развернулись за овладение вокзалом, который 13 раз переходил из рук в руки.
Ставка ВГК постоянно подкрепляла оборонявшиеся войска резервами из глубины страны. Так, только с 23 июля по 1 октября на сталинградское направление прибыло 55 стрелковых дивизий, 9 стрелковых бригад, 7 танковых корпусов и 30 танковых бригад.
В связи с возросшим составом фронтов и большой протяжённостью их полос Ставка ВГК 28 сентября упразднила единое командование Юго-Восточного и Сталинградского фронтов и переименовала Сталинградский фронт в Донской (командующий – генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский), а Юго-Восточный – в Сталинградский (командующий – генерал-полковник А. И. Ерёменко).
Второй штурм Сталинграда враг предпринял с 28 сентября по 8 октября. Немецкое верховное командование категорически требовало от Паулюса взять Сталинград любой ценой и в самые ближайшие дни. Гитлер, выступая в рейхстаге 30 сентября 1942 г., заявил: «Мы штурмуем Сталинград и возьмём его – на это вы можете положиться… Если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдвинуть».
Сражение под стенами Сталинграда развёртывалось с неослабевающей силой. С 27 сентября по 4 октября происходили упорные бои на северных окраинах города за рабочие посёлки Красный Октябрь и Баррикады. Одновременно враг вёл наступление в центре города в районе Мамаева кургана (ему удалось закрепиться на западном склоне) и на правом фланге 62‐й армии в районе Орловки. Темпы продвижения немецких частей в течение дня составляли от 100 до 300 м.
В первые дни октября 1942 г. соединения и части 62‐й армии занимали оборону вдоль правого берега Волги в полосе шириной 25 км. При этом удаление переднего края от уреза воды составляло на отдельных участках не более 200 м. Хотя в руках противника уже находилась территория пяти районов города из семи, ему так и не удалось овладеть центральной набережной с переправами, через которые в город поступали войска, вооружение, продовольствие, топливо и отправлялись раненые.
Германское верховное командование было крайне недовольно действиями 6‐й армии в Сталинграде и торопило её командующего как можно быстрее захватить весь город. В течение первой половины октября оно перебросило из Германии дополнительные силы для усиления 6‐й армии: 200 тыс. пополнения, 30 артиллерийских дивизионов (около 1000 орудий), 40 инженерно-штурмовых батальонов, предназначенных для штурма города и ведения уличных боёв. Над соединениями 62‐й армии превосходство было создано в силах и средствах до 4–5 раз.
Третий, самый ожесточённый, с применением большого количества огневых средств штурм города начался 14 октября. Соединения и части 62‐й армии, даже разделённые противником, продолжали оборонять полосу, вытянутую вдоль набережной р. Волги. 138‐я стрелковая дивизия (командир дивизии – полковник И. И. Людников), отрезанная от главных сил армии, удерживала полосу вдоль берега по фронту 700 м и в глубину 400 м. В составе дивизии было всего 500 человек личного состава.
Врагу удалось овладеть вершиной, северным и южным склонами Мамаева кургана. Его восточный склон с 28 сентября 1942 г. по 26 января 1943 г. обороняли части 284‐й стрелковой дивизии (командир – полковник Н. Ф. Батюк), отбивая в октябре-ноябре по нескольку атак противника в день.
Ожесточённость противоборства достигла своего наивысшего предела. Бои шли за каждый квартал, переулок, за каждый дом, за каждый метр земли. В одном доме советские и немецкие подразделения могли занимать разные этажи. Всемирную известность получили подвиги бойцов «Дома Павлова», удерживавшие его в течение 58 дней. Враг по этому дому наносил удары авиацией, вёл артиллерийский и миномётный огонь, но защитники дома не отступили ни на шаг. Состав защитников «Дома Павлова» был многонациональным: 11 русских, 6 украинцев, грузин, казах, узбек, еврей и татарин.
Весь личный состав от солдата до генерала был проникнут одним желанием – уничтожить врага, посягнувшего на свободу и независимость Родины. Девизом для всех советских воинов стали слова снайпера В. Г. Зайцева: «Для нас, бойцов и командиров 62‐й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть!» По окончании Сталинградской битвы В. Г. Зайцеву будет присвоено звание Героя Советского Союза.
Целый месяц шли напряжённые бои на всём протяжении полосы обороны 62‐й и 64‐й армий, но противнику так и не удалось прорвать оборону советских войск. Он лишь на отдельных участках, продвинувшись на несколько сот метров, вышел к Волге. Немецкие войска, понеся большие потери, несмотря на значительный перевес в силах и огневых средствах, так и не сумели овладеть всем городом, в том числе его прибрежной частью.
Однако Гитлер и его окружение, не желая считаться с очевидным провалом своих планов захвата Сталинграда, продолжали категорически требовать от войск нового наступления.
Четвёртый штурм Сталинграда начался 11 ноября. В бой против 62‐й армии были брошены пять пехотных и две танковые дивизии. Положение и состояние 62‐й армии было крайне тяжёлым. В её составе насчитывалось: личного состава – 47 тыс. человек, около 800 орудий и миномётов и 19 танков. К этому времени полоса её обороны была расчленена на три части.
Вот как видел картину этих ожесточённых наступательных боёв немецкий офицер, командир батальона: «…На русские позиции обрушивается залп за залпом. Там уже не должно быть ничего живого. Беспрерывно бьют тяжёлые орудия. Навстречу первым лучам восходящего солнца в просветлённом небе несутся бомбардировщики с чёрными крестами… Они пикируют и с воем сбрасывают на цель свой бомбовый груз… Ещё каких-нибудь 20 метров, и они (немецкая пехота) уже займут передовые русские позиции! И вдруг они залегают под ураганным огнём. Слева короткими очередями бьют пулемёты. В воронках и на огневых точках появляется русская пехота, которую мы уже считали уничтоженной. Нам видны каски русских солдат. Каждое мгновение мы видим, как валятся наземь и уже больше не встают наши наступающие солдаты, как выпадают у них из рук винтовки и автоматы».
В боях на территории Сталинграда длительных пауз или затишья не было – бои шли непрерывно. Сталинград для немцев представлял своеобразную «мельницу», которая перемалывала сотнями, тысячами немецких солдат и офицеров, уничтожая танки и самолёты. В письмах немецких солдат образно и реально описывается обстановка боя в городе: «Сталинград – это ад на земле, Верден, Красный Верден с новым вооружением. Мы атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно». В другом письме немецкий ефрейтор сообщает матери: «Специального сообщения о том, что Сталинград наш, тебе ещё долго придётся ждать. Русские не сдаются, они сражаются до последнего человека».
К середине ноября продвижение немецких войск было остановлено на всём фронте. Враг был вынужден окончательно перейти к обороне. На этом стратегическая оборонительная операция Сталинградской битвы завершилась. Войска Сталинградского, Юго-Восточного и Донского фронтов выполнили свои задачи, сдержав мощное наступление врага на сталинградском направлении, создав предпосылки для контрнаступления.
В ходе оборонительных сражений вермахту были нанесены огромные потери. В борьбе за Сталинград враг потерял около 700 тыс. убитыми и ранеными, свыше 2 тыс. орудий и миномётов, более 1000 танков и штурмовых орудий и свыше 1,4 тыс. боевых и транспортных самолётов. Вместо безостановочного продвижения к Волге войска противника были втянуты в затяжные, изнурительные бои в районе Сталинграда. План немецкого командования на лето 1942 г. оказался сорванным. Советские войска при этом также понесли большие потери в личном составе – 644 тыс. человек, из них безвозвратные – 324 тыс. человек, санитарные 320 тыс. человек. Потери вооружения составили: около 1400 танков, более 12 тыс. орудий и миномётов и более 2 тыс. самолётов.
14 октября 1942 г. главное командование вермахта приняло решение о переходе к стратегической обороне на всём советско-германском фронте с задачей во что бы то ни стало удержать достигнутые рубежи и создать предпосылки для продолжения в 1943 г. наступления. В оперативном приказе № 1, предписывающем войскам переход к стратегической обороне, Гитлер, по сути, признал провал летнего наступления на востоке.
Сталинградская стратегическая оборонительная операция подготовила условия для перехода Красной армии в контрнаступление с целью решительного разгрома врага под Сталинградом. В этой обстановке советское Верховное Главнокомандование пришло к выводу, что именно здесь, на южном крыле советско-германского фронта, осенью 1942 г. создались наиболее благоприятные условия для проведения наступательных операций.
Стратегическая наступательная операция (контрнаступление под Сталинградом) войск Юго-Западного, Донского, Сталинградского, левого крыла Воронежского фронтов с участием Волжской военной флотилии, проводилась с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. (кодовое наименование «Уран»). Её замысел состоял в том, чтобы ударами с плацдармов на Дону в районах Серафимовича и Клетской и из района Сарпинских озёр южнее Сталинграда разгромить войска, прикрывавшие фланги ударной группировки противника, и, развивая наступление по сходящимся направлениям на Калач-на-Дону, Советский, окружить и уничтожить его главные силы непосредственно под Сталинградом. Разработкой плана контрнаступления руководили генерал армии Г. К. Жуков и генерал-полковник А. М. Василевский.
За сравнительно короткий срок (с 1 октября по 18 ноября) из резерва Ставки на усиление фронтов сталинградского направления было переброшено четыре танковых, два механизированных и два кавалерийских корпуса, 17 отдельных танковых бригад и полков, 10 стрелковых дивизий и 6 бригад, 230 артиллерийских и миномётных полков. Советские войска имели в своём составе около 1135 тыс. человек, около 15 тыс. орудий и миномётов, свыше 1,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских орудий. Состав ВВС фронтов был доведён до 25 авиационных дивизий, имевших свыше 1,9 тыс. боевых самолётов. Общее количество расчётных дивизий в трёх фронтах доходило до 75. Однако эта мощная группировка советских войск имела особенность – около 60 % личного состава войск было молодое пополнение, не имевшее ещё боевого опыта.
Им противостояли немецкие 6‐я и 4‐я танковая армии, румынские 3‐я и 4‐я армии группы армий «Б», насчитывавшие более 1011 тыс. человек, около 10,3 тыс. орудий и миномётов, 675 танков и штурмовых орудий, свыше 1,2 тыс. боевых самолётов. Наиболее боеспособные немецкие соединения были сосредоточены непосредственно в районе Сталинграда. Фланги их прикрывали румынские и итальянские войска, оборонявшиеся на широком фронте. Оборона противника на Среднем Дону и к югу от Сталинграда достаточной глубины не имела. В результате массирования сил и средств на направлениях главных ударов Юго-Западного и Сталинградского фронтов было создано значительное превосходство советских войск над противником: в людях – в 2–2,5 раза, артиллерии и танках – в 4–5 раз и более.
Наступление войск Юго-Западного фронта (командующий – генерал-лейтенант, с 7.12.1942 г. генерал-полковник Н. Ф. Ватутин) и 65‐й армии Донского фронта началось 19 ноября после 80‐минутной артиллерийской подготовки. К исходу дня наибольшего успеха достигли войска Юго-Западного фронта, продвинувшись на 25–35 км, они прорвали оборону румынской 3‐й армии на двух участках: юго-западнее Серафимовича и в районе Клетской. Румынские 2‐й и 4‐й армейские корпуса были разгромлены, а их остатки с 5‐м армейским корпусом, находившимся в районе Распопинской, охвачены с флангов. Соединения 65‐й армии (командующий – генерал-лейтенант П. И. Батов), встретив ожесточённое сопротивление, к концу дня продвинулись на 3–5 км, но полностью прорвать первую полосу обороны противника не смогли.
20 ноября перешли в наступление войска Сталинградского фронта. «Первыми заиграли “катюши”, писал генерал-полковник А. И. Ерёменко. – За ними начали свою работу артиллерия и миномёты. Трудно передать словами те чувства, которые испытываешь, вслушиваясь в многоголосый хор перед началом наступления, но главное в них – это гордость за мощь родной страны и вера в победу. Ещё вчера мы, крепко стиснув зубы, говорили себе: “Ни шагу назад!”, а сегодня Родина приказала нам идти вперёд». В течение первого дня стрелковые дивизии прорвали оборону румынской 4‐й армии и вклинились в оборону врага в юго-западном направлении на 20–30 км.
В ставке Гитлера стало известно о прорыве обороны севернее и южнее Сталинграда и о разгроме румынских войск на обоих флангах. Но резервов в составе группы армий «Б» практически не было. Нужно было снимать дивизии с других участков фронта. Советские войска упорно продолжали наступать, всё больше охватывая с юго-запада группировку войск Паулюса.
За 2 дня боёв войска фронтов нанесли тяжёлое поражение румынским 3‐й и 4‐й армиям. 21 ноября 26‐й и 4‐й танковые корпуса Юго-Западного фронта вышли в район Манойлина и, повернув на восток, по кратчайшему пути устремились к Дону, в район Калача. 26‐й танковый корпус, захватив мост через Дон, 22 ноября занял Калач. Навстречу подвижным соединениям Юго-Западного фронта выдвигались подвижные соединения Сталинградского фронта.
23 ноября части 26‐го танкового корпуса стремительно вышли к Советскому и соединились с соединениями 4‐го механизированного корпуса. Подвижные соединения Юго-Западного и Сталинградского фронтов, выйдя в район Калач – Советский – Мариновка, завершили окружение немецких войск. В котле оказались 22 дивизии и более 160 отдельных частей, входивших в состав 6‐й и 4‐й танковой армий, общей численностью около 300 тыс. чел. Такого окружения немецких войск за всё время Второй мировой войны ещё не было.
В тот же день капитулировала распопинская группировка противника. Это была первая в Великой Отечественной войне капитуляция крупной группировки врага перед советскими войсками. Всего в районе станицы Распопинской было взято в плен свыше 27 тыс. солдат и офицеров двух румынских корпусов.
Вот как оценивал в то время офицер разведотдела немецкого армейского корпуса складывающуюся обстановку: «Ошеломлённые и растерянные, мы не сводили глаз с наших штабных карт – нанесённые на них жирные красные линии и стрелы обозначали направления многочисленных ударов противника, его обходные манёвры, участки прорывов. При всех наших предчувствиях мы и в мыслях не допускали возможности такой чудовищной катастрофы!»