За кулисами театра военных действий III
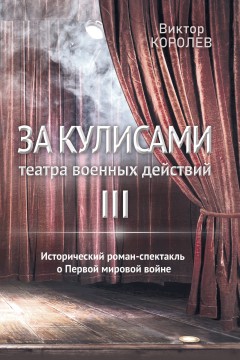
© Королев В. В., текст, 2025
© Издательство «Союз писателей», оформление, 2025
© ИП Соседко М. В., издание, 2025
Пролог
«Первая мировая война не была неизбежной. Общеевропейский политический кризис, послуживший её началу, можно было преодолеть при благоразумии и доброй воле противостоявших сторон. Здравомыслия не нашлось, и разразившаяся война обернулась небывалой трагедией, унёсшей десять миллионов солдатских жизней и исковеркавшей не меньшее число судеб. В 1918 году пушки смолкли, но политическая конфронтация и порождённая вражда между народами разных стран полностью не исчезли, и если доискиваться до истоков ещё более разрушительной Второй мировой войны, то нельзя закрывать глаза и на эти не украшающие человечество факторы. Обе войны – звенья одной цепи…
Первая мировая война вообще остаётся загадкой. Её причины непостижимы. То же можно сказать и о её ходе… Почему, когда была ещё надежда разрешить конфликт быстрыми и решительными мерами за считанные месяцы, его участники решили продолжать военные действия, мобилизуя войска для глобальной войны, и в конечном счёте бросили своё юношество на взаимное уничтожение в совершенно бессмысленной резне? Возможно, на карту был поставлен принцип…
Последствия, конечно, порой невозможно предвидеть. Опыт же, напротив, может слишком легко быть спроецирован в будущее. В этом тоже есть тайна».
Джон Киган «Первая мировая война»
ДВА С ПОЛОВИНОЙ века назад была прията Декларация независимости Соединённых Штатов. Независимости прежде всего от Великобритании, которая восемь лет пыталась отжать хоть что-то от богатых земель Нового Света. Но и подписав мирный договор, эти две страны не стали дружественными и равными. Ни в то время, ни сто лет спустя сравниться с Британской империей не мог никто. Она властвовала на морях-океанах, число её подданных измерялось сотнями миллионов, а богатство – миллиардами фунтов стерлингов.
Соединённые Штаты просто опоздали к переделу мира. К началу XX века он был закончен. Но Америка стремительно набирала силу и мощь. И ей жизненно важно было столкнуть в военном споре тех, кто пока был сильнее её. Утверждённая ещё в 1823 году доктрина Монро подсказывала американским президентам, у кого можно отжать земли, а кого столкнуть друг с другом, чтобы оказаться сильнее Европы. И в конце XIX века – понеслось…
«Мир претерпевает грандиозные изменения. Никогда ранее условия жизни не менялись так значимо и так стремительно, как они изменились для человечества за последние пятьдесят лет. Мы несёмся в потоке сменяющих друг друга событий и не имеем возможности измерить всевозрастающую их скорость. Мы только сейчас начинаем осознавать штормовую силу и мощь тех перемен, которые обрушились на нас», – писал сто лет назад британский писатель и публицист Герберт Уэллс.
И дальше:
«Мы только сейчас начинаем понимать природу этих изменений, находить для них слова и фразы, подбирать им определения. Сначала эти изменения шли незамеченными, и лишь затем мы их осознали. Теперь мы начинаем видеть, как эти изменения связаны друг с другом, и можем оценить масштаб их последствий».
Масштаб последствий мировой войны, разразившейся в 1914 году и длившейся пять лет, был страшен. Двадцать миллионов погибших, поровну – военных и гражданских. Подсчитано, что «период недожития» каждого убитого в среднем составляет 40 лет. Это значит, что каждые 100 тысяч погибших равнозначны 4 миллионам лет отнятого будущего! Это несделанные научные открытия и несозданные произведения искусств, это нерождённые дети и непостроенные города.
Многократно возросшие военные расходы могли бы позволить давно решить проблемы глобального голода и изменения климата. Война – это отброшенное назад человечество, это гигантская дыра в развитии цивилизации. Война – это и есть жесточайшее противоборство цивилизации и варварства…
Пройдёт совсем немного времени, и Соединённые Штаты Америки будут праздновать 250-летие. За эти годы они участвовали практически во всех вооружённых конфликтах на Земле и никогда не воевали на своей территории. Они предпочитали сражаться чужими руками и инициировали боевые действия, стравливая страны между собой. Они получали прибыль от любых войн. Они объявляли себя победителями и миротворцами. Так им было выгодно. Расчёт и нажива всегда стояли у Соединённых Штатов на первом месте.
Американская мечта – стать первыми, самыми большими и самыми сильными. Подмять под себя всех соседей, властвовать и расширять свою территорию. С помощью политики «большой дубинки» уничтожить коренное население. Там, где не справятся дубинка и кольт, слово своё скажет доллар. С его помощью можно задёшево купить у Франции, России и других стран новые земли – таким образом приобретена почти половина территории современных США. Стать «мировым жандармом», сначала в Западном полушарии, а потом и на всей планете – вот что такое американская мечта.
«America First» («Америка прежде всего») – они никогда не скрывали этой своей цели. И те, кто мешает её достижению, должны уйти с дороги. Иначе будут стёрты с лица земли. Так мечталось им два века назад, когда Джеймс Монро, 5-й президент Соединённых Штатов, объявил официально, что в будущем Америка должна стать первой, господствующей на планете.
Мешали сильная Британия, огромная Россия, воинственная Германия, перспективный Китай. Соперники были крупными, и справиться с ними Америка могла лишь одним способом: не допустив их союза, натравив их друга на друга.
Почти сорок стран приняли участие в Первой мировой войне (поначалу она называлась Великой). Соединённые Штаты объявят войну Германии лишь в самом её конце, чтобы успеть в число победителей попасть. У них это получилось. А для остального населения Земли война стала колоссальным бедствием.
Это была катастрофа, историческая трагедия. Один известный в то время американский политик писал: «Публика не имеет никакого представления о том, что творится за кулисами. Если бы она могла увидеть авторов и декорации и то, как готовятся исторические трагедии, для публики это было бы откровением…»
Показать, что было за кулисами мировой войны, и кто её развязал, – это и есть главная цель книги, которую вы сейчас держите в руках.
США: Доктрина Монро как американская мечта
«Для Вашингтона была невыгодна полная и быстрая победа одной из двух военно-политических коалиций. Америке была выгодна затяжная, длительная война на истощение, которая максимально ослабит все державы и разрушит Европу. Это позволяло США поднять своё значение на качественно иной уровень, стать экономическим и военным лидером планеты…
В конце 1915 года полковник Эдуард Хауз, ставленник закулисных сил при президенте Вильсоне, сказал по поводу возможной победы Германии: „США не могут пойти на то, чтобы союзники потерпели поражение. Нельзя допустить, чтобы Германия установила над всем миром своё военное господство. Мы, конечно, будем следующим объектом нападения, и доктрина Монро будет значить меньше, чем клочок бумаги“…
Особые планы у Соединённых Штатов имелись в отношении России – они мечтали об огромных ресурсах русской цивилизации. При этом Вашингтон прикрывал свои хищнические цели демократическо-пацифистскими лозунгами. Президент Вудро Вильсон был большим мастером этого дела Под шумок моральных и пацифистских проповедей, которые Вильсон читал воюющим странам и американскому народу, его страна интенсивно готовились к войне, к положению „мирового жандарма“…
Финансовая революция в США стала важнейшей предпосылкой начала Первой и Второй мировых войн, а также всех последующих крупных конфликтов, включая „холодную войну“ (по сути, Третью мировую) и современную Четвёртую мировую войну».
Александр Самсонов «США и Первая мировая война»
Картина 1-я. Правая рука Джи Пи Моргана
Действующие лица:
• Генри Дэвисон (1867–1922) – банкир и филантроп, председатель Военного совета Американского Красного Креста, майор.
• Джон П. Морган-ст. (1837–1913) – всемирно известный американский финансист, миллионер, инвестиционный банкир, «барон-разбойник», основатель династии.
Место действия – Соединённые Штаты Америки.
Время действия – до войны и самое начало Первой мировой.
Автор (из-за кулис): Имя «Джи Пи Морган» известно, наверное, во всём мире. Оно так и пишется – «JP Morgan». Как-то американские журналисты стали копаться в биографии этого сверхбогатого человека и нашли его родственную связь с известным пиратом прошлого Генри Морганом. Богатей открестился и отныне стал писаться исключительно с инициалами перед фамилией. Кроме денег, любил Джи Пи яхты. Они все у него принципиально назывались «Корсар». А на вопрос, сколько стоит их обслуживание, горделиво отвечал: «Тому, кто этим интересуется, яхта явно не по карману». А ещё был у него помощник – светлая голова, гениальный Генри Дэвисон. Правая рука Джи Пи Моргана, скромный банкир, приумноживший состояние своего начальника и сделавший Соединённые Штаты богатыми. Практически забытая сегодня личность…
У ГЕНРИ Дэвисона был ясный ум и стиснутые зубы. Он был смел и обладал необычайным магнетизмом. В любой компании его оригинальное чувство юмора и краткие замечания и оценки всегда выделялись. При этом был он замкнут и жил, как в коконе. С детства погружённый в себя, развил интуицию, научился мгновенно принимать порой неординарные, но всегда правильные решения. Генри постоянно был чем-то занят, сосредоточенно и молча что-то делал. Вообще говорил мало.
Интересно, что не сохранилось никаких писем или значимых документов, связанных с его появлением в компании «Дж. П. Морган и Ко». Разумеется, пришёл он туда по приглашению самого Джи Пи, а этот богач, как известно, был ещё менее разговорчив, не зря его прозвали «Мистер Да или Нет». Как всегда делал при первой встрече с новичком, Джи Пи предупредил Генри, что у того есть только пятнадцать секунд, чтобы подумать и ответить.
– Боюсь только одного: опыта не хватит, – глядя в глаза будущему шефу, ответил Генри.
– Принят, – старый Морган махнул рукой, показывая, что разговор окончен.
…Генри Дэвисон (часто его называли ещё Гарри) родился в штате Пенсильвания. В городке, где прошло его детство, было всё что нужно: школа, гостиница, кожевенный завод, семь церквей, салун, баня, три магазина и один банк.
Каждое воскресенье, после завтрака, семья торжественно направлялась в церковь, где все сидели, погрузившись в безмолвную молитву. Проповедь мальчику казалась очень долгой, и глаза его выискивали всё, что могло бы отвлечь. Он загибал пальцы, считая свечи на золотой люстре, свисающей с потолка, и на подносах, что стояли под иконами. Так он в пять лет самостоятельно научился складывать и вычитать в уме.
Генри исполнилось девять, когда мать умерла, оставив четверых детей, младшего – шести месяцев от роду. Потом не стало и отца. Племянников разобрали дяди и тёти, а Генри попал к бабушке. Она не расставалась с Библией, и навсегда воспитала в мальчике неприятие к любой форме святотатства. Она и помогла ему устроиться на первую в жизни работу – за десять центов в неделю протирать окна в городском банке.
В школе он всегда был в числе первых. Ему часто доверяли звонить в медный колокольчик, объявляя начало или конец урока – а это, согласитесь, немалая честь. В любимчиках не ходил, но однажды, это уже в старшем классе, заменил заболевшего учителя, и все потом удивлялись, что никто из учеников не баловался на том уроке. А в пятнадцать лет он на лето стал директором соседней сельской школы – и справился.
Полы покрасить, лошадь запрячь, корову подоить или в магазине клерком на неделю – ни от какой работы не увиливал. Зимой 1883 года несколько недель посещал специальные курсы в бизнес-колледже в соседнем городе. После обучения его приняли в банк младшим клерком. Но он почему-то не испытал никакой радости от первых рабочих дней.
В большой комнате на первом этаже пахло застоявшейся пылью, старой кожей, железистым запахом денег и угольного газа. На стене перед его табуретом висели громко тикающие часы, а на подоконниках двух больших окон стояли горшки с геранью. Клиентов было мало. Старший клерк, чей-то сынок, молча сидел на табурете, строго по часам ходил обедать, листал какие-то журналы, что-то писал, ровно в шесть уходил домой. А Генри поселили на втором этаже и приказали через дырку в полу постоянно следить, не пытаются ли воры залезть в банк и взломать сейф.
Две ночи Генри добросовестно не спал. А потом отпросился съездить в колледж, чтобы подать заявку на стипендию Гарварда. Стипендию не дали. А по возвращении ждал его суровый разговор с начальством.
– Ты непоседа, а людям с таким переменчивым характером в банке не место! Ни в каком!
Помаявшись без работы месяц, Гарри Дэвисон поступил в Грейлокский колледж (штат Массачусетс). В нём обучались около ста студентов, в основном из типичных американских семей: сыновья священников, юристов, торговцев и т. д. Большинство студентов жили в достатке, бедняков принимали туда неохотно.
Атмосфера в колледже была простой и демократичной, развлечения у студентов – такими же. Дэви, как его здесь называли, играл в бейсбол и теннис, но никогда не добивался больших успехов. Ему нравился спорт, но не настолько, чтобы пытаться попасть в сборную колледжа. Однако Дэви пользовался большим уважением у сокурсников. И преданных товарищей у него было много, хотя считается, что у бедного человека друзей можно пересчитать на мизинце одной руки…
Все три года, проведённых в Грейлоке, он шёл в числе первых. В июне 1886 года Генри оказался лучшим во всём выпуске. И наконец-то он нашёл настоящую работу: Дэвисон стал бухгалтером в Национальном банке в Бриджпорте с окладом 800 долларов в год.
Банковское дело увлекало его. Генри стремился узнать все секреты, все детали своих нынешних обязанностей. У него практически не было других интересов, кроме тех, что связаны с работой.
Там же, в Бриджпорте, он встретил свою будущую жену. Коллега пригласил его в гости к своим друзьям, известную в Коннектикуте семью. Сам пошёл в дом, а Генри задержался, привязывая лошадей. Вдруг с крыльца сбежала улыбающаяся красивая девушка.
– Мне шепнули, что тебя специально пригласили, чтобы представить мне, – сказала она. – А я привыкла сама выбирать. Совсем не обязательно много жаб поцеловать, чтобы найти своего принца, да же? И я тебя выбираю! Согласен?
– Полностью, – только и смог вымолвить Генри.
Кейт оказалась именно такой женой, в которой он нуждался: спокойной, уравновешенной. Она была немногословной, но советы её отличались оригинальностью и мудростью. Это она узнала от своих родственников, что в Нью-Йорке открывается новый банк, и уговорила мужа предложить свои услуги.
Генри позвонил человеку, который занимался набором персонала. Ему вежливо ответили, что офис завален анкетами, вакансий больше нет.
– Не сдавайся! Поезжай в Нью-Йорк! – тормошила его Кейт. – Если не получается с первого раза, пробуй ещё и ещё!
Генри добился встречи с человеком, который должен был стать вице-президентом нового банка. Тот выслушал, но отказал. И тогда Генри решился на отчаянный шаг. Узнав адрес будущего начальника, он пришёл к нему домой и с порога заявил:
– Забыл сказать, что новому банку я нужен больше, чем я нуждаюсь в работе!
Генри Дэвисон был принят помощником кассира. Стояло лето 1891-го. А осенью того же года банк ограбили. Точнее, пытались ограбить. В окошко кассы пролезла рука с револьвером, и зверский голос потребовал пятьдесят тысяч долларов.
– О'кей! – спокойно сказал помощник кассира Дэвисон и, нырнув под прилавок, поднял тревогу.
Грабителя задержали, а про Генри даже написали в газетах. И когда в Liberty National Bank оказалась вакансия, его имя было названо первым.
Дальше пошёл просто фантастический рост его карьеры. В банке «Либерти» ему положили зарплату 2500 долларов в год. Надо же, совсем недавно они с женой копили мелочь в стеклянной банке и верили: когда она наполнится, придёт в семью достаток. Исполнилось!
Именно в «Либерти» Дэвисон проявил свои выдающиеся способности банкира, свой дар управлять людьми и мыслить глобально. Через год его повысили в должности с окладом в 4000 долларов. Все начальники признавали, что Генри – неформальный лидер коллектива.
В тридцать два года Генри Дэвисон стал вице-президентом банка, а через полтора года президентом. За семь лет – от помощника кассира до президента! И теперь у него были грандиозные планы по расширению бизнеса, намечался переезд с тихой улочки на оживлённый Бродвей. Но когда ему предложили пост вице-президента Первого Национального банка, согласился не раздумывая. Ещё бы, First National Bank – наверное, самый тогда известный из сотен банков Нью-Йорка.
Трудно представить себе более благоприятную обстановку, чем та, что царила здесь, в Первом Национальном. Его глава, мистер Бейкер успешно торговал на фондовом рынке и щедро делился с подчинёнными своей биржевой стратегией. Она простая: изучай новости, покупай «хорошие» ценные бумаги, когда их рыночная стоимость снижается, а затем придерживай их, «пока коровы не вернутся домой».
На протяжении двух поколений мистер Бейкер считался лучшим институциональным банкиром в Америке, он и его подчинённые обеспечили банку репутацию самой надёжной в стране кредитной организации. Кстати, именно кредитная политика и сделала Генри Дэвисона великим банкиром.
То, что он предложил, казалось бы, лежало на поверхности. Нужно создать коалицию банков, тогда объёмы ссуд можно увеличить в несколько раз, а риски поделить на всех участников. Такой банковский трест сможет кредитовать крупные государственные заказы.
Идея очень понравилась мистеру Бейкеру, а ещё больше – его другу, известному богачу Джи Пи Моргану. Он и предложил Генри Дэвисону стать партнёром. Дал пятнадцать секунд на обдумывание ответа. Генри согласился.
Bankers Trust Company была основана весной 1903 года с начальным капиталом в 1,5 миллиона долларов. Деньги, разумеется, дал Морган, у него же оказался и контрольный пакет. Можно сказать, что теперь Джи Пи контролировал всю финансовую систему Соединённых Штатов. Прибыль пошла сразу: в первый же день акции новой трастовой компании подскочили в цене вдвое (через двадцать лет держатели акций получат дивидендов на 37 миллионов долларов)…
После убийства Мак-Кинли президентом США стал Теодор Рузвельт. Он решил объявить войну монополиям. В то время миллиардер Морган контролировал 70% сталелитейной промышленности и 60% железных дорог в стране. Он не стал дожидаться санкций и репрессий.
– Мистер президент! – сказал он, явившись в Белый дом. – Если вы недовольны моим бизнесом, я готов что-то поправить.
– Мистер Морган, я не хочу поправлять ваш бизнес, – ответил Рузвельт. – Я хочу его остановить!
Власть злобствовала, президент своей политикой «большой дубинки» угрожал монополиям. Те дробились, мимикрировали, не сдавались. Цены падали, рынок акций полз вниз, доллар дешевел на глазах. Народ кинулся снимать свои вклады в банках.
Гром грянул 22 октября 1907 года. Банки отказались свободно выдавать наличные и заморозили кредиты. Это лишь подлило масла в огонь. Началась дикая паника. Фондовый рынок упал, доллар обесценился вдвое.
Спасти денежную систему можно было, лишь вернув веру в банки. И тогда Рузвельт запросил помощи. Финансовый дом 70-летнего Джи Пи Моргана согласился организовать спасательную операцию, Его аналитики мигом сосчитали, что срочно требуется 25 миллионов долларов, чтобы банки начали выдавать людям деньги. Эту сумму нашли быстро. Но тут же выяснилось, что нужно ещё столько же.
Мистер Морган собрал двенадцать директоров крупнейших финансовых компаний в своей библиотеке.
– Джентльмены, требуется выдать новый кредит в размере двадцати пяти миллионов, – тихо сказал он. – Иначе могут рухнуть ваши собственные здания.
Простой бланк подписки кредитного займа лежал на его столе. Банкиры переминались с ноги на ногу, желающих не было. Тогда Джи Пи мягко подтолкнул вперёд Генри Дэвисона, вложил в его руку свою красивую золотую ручку. Генри расписался. За ним расписались остальные директора.
Банковская система была спасена. Но утром в воскресенье, 27 октября, стало известно, что дефолт угрожает мэрии Нью-Йорка. Назавтра истекал срок погашения её краткосрочных обязательств на сумму около 30 миллионов долларов. К вечеру старик Морган пригласил в свою библиотеку мэра с городскими чиновниками и юристами.
После короткого обсуждения ситуации Джи Пи сел за стол и молча стал что-то писать. Прошло минут пятнадцать. Наконец он передал исписанные листы гостям.
Это был черновик договора. По его условиям, мистер Морган соглашался предоставить городу Нью-Йорку требуемые 30 миллионов долларов. Текст был настолько полным как по содержанию, так и по форме, что его сразу же подписали мэр и его юристы. К вечеру понедельника все городские долги были погашены банкирским домом J.P. Morgan & Со. Дом стал богаче ещё на миллион, а главный индустриальный город Америки ещё десятилетия ходил в должниках у этого «банкстера».
В 1908 году Генри Дэвисон как советник сенатора Нельсона Олдрича, главы Национальной Монетарной комиссия, ездил по миру, изучая, как утроены денежно-финансовые системы в других странах. Вернувшись, стал старшим партнёром в J.P. Morgan & Со, а в 1910-м участвовал в секретном совещании на острове Джекилл, Именно там, на острове, название которого переводится как «Я убью», за десять дней была создана концепция будущей Федеральной резервной системы.
Ведущие американские банкиры провозгласили с острова, что ФРС станет частным центральным банком с правом печатать деньги и кредитовать. Только вот кредиты эти в действительности никогда не будут погашены, потому что доллар, задавив франк и фунт, станет главной валютой мира – резервной, но эластичной. Это, скорее, даже не валюта, а долговая расписка. Все страны станут должниками Соединённых Штатов, долг самих США вырастет выше крыши, но это не должно никого волновать, потому что даже через сто лет долги не будут погашены. Надо только успеть поменять зелёные бумажки на жёлтый металл…
Два с лишним года банкирский дом Моргана проталкивал в Капитолии закон о ФРС. Инициатор новой финансовой системы в нетерпении звонил из Италии:
– Скажите новому президенту, что я своё слово сдержал, предвыборную кампанию его оплатил, теперь пусть и он поторопится!
Старик Джи Пи Морган умер в Риме, в мае 1913-го, вскоре после того, как ему сообщили, что закон о ФРС одобрен нижней палатой Конгресса.
А в следующем году грянула Великая война. Лондон и Вашингтон сразу заявили о своём нейтралитете, но Британия почему-то вдруг передумала и 4 августа вступила в войну. А в то время это была самая сильная, самая могущественная империя – и мир решил, что с Германией будет покончено быстро. Другие страны потянулись за англичанами, вот и вышло мировое побоище.
Война требует затрат, нейтралитет выгоднее. Соединённые Штаты это понимали. А Лондон уже к осени 1914-го стал нуждаться в дополнительных ресурсах, прежде всего финансовых. Согласовывать общий курс США и Великобритании отправился Генри Дэвисон, старший партнёр Моргана-мл. (наследник тоже был Джи Пи, но с приставкой «мл.» после фамилии). В ноябре 1914 года Генри провёл в Лондоне первые переговоры о финансировании заказов союзников в Америке. Они прошли успешно, но англичане настаивали на долговременных крупных займах без высоких процентов.
То, что предложил Дэвисон наследнику банкирского дома, казалось простым до гениальности. Кредитную ставку нужно снизить, а срок – увеличить. Это будут не живые деньги, а облигации со сроком погашения десять, двадцать и даже тридцать лет. На сумму займа Америка строит на своих верфях корабли для англичан, посылает на острова вооружение, амуницию, бензин, продовольствие – всё, что нужно для боевых действий. В залог Британия отправляет на хранение в США свой золотой запас. А гарантии со стороны Америки – персонифицированные, лично Джи Пи Морган-младший.
– Если вы согласны, мистер Морган, то прямо сейчас можете прыгать на пароход и предлагать это англичанам!
– Вы сами сейчас прыгайте на пароход, – парировал мистер Морган-мл. – Это ваша идея. Вы моя правая рука. Если ваших личных гарантий будет недостаточно, я приеду.
Имени Генри Дэвисона хватило для гарантий, но именно Моргана-мл. в январе 1915-го назначили коммерческим представителем Британии в США. А в мае того же года банкирский дом Моргана стал торговым представителем всех стран Антанты. Исключительные полномочия позволяли ему размещать огромные заказы среди подконтрольных компаний. Летом объём военных закупок доходил до 10 миллионов долларов в день. Соединённые Штаты богатели на глазах. К концу 1915 года американский доллар стал дороже французского франка и английского фунта стерлингов.
С Британских островов шли в Америку военные крейсера с грузом жёлтого металла. А осенью 1916 года Федеральная резервная система США порекомендовала банкам отказаться от покупки государственных облигаций стран Антанты. Фунт стерлингов рухнул. Спасая подмоченный авторитет, Британия согласилась спрятать в Нью-Йорке свой золотой запас.
По примеру англичан, слитки жёлтого драгметалла отправили на «надёжное хранение» в Америку десятки других стран. Там золото мира и осело. Где оно сейчас, никто не знает, потому что ревизии в хранилищах не проводились никогда.
Государственные расходы Великобритании за годы войны оказались выше её расходов за 225 лет, предшествовавших 1914-му. Полностью рассчитаться по 30-летним американским облигациям страна сможет только в 1945 году. Как и после Первой мировой, Соединённые Штаты объявят себя главными победителями, спасшими мир от фашизма.
Автор (из-за кулис): Генри Дэвисон проживёт недолгую жизнь. Он ещё проявит себя как организатор и первый руководитель Американского Красного Креста. Дети его никогда не бедствовали. Достаточно сказать, что старший сын станет директором ЦРУ, младший – директором журнала «Тайм», а дочери сменят фамилии, выйдя замуж: одна станет Гейтс, другая – Чейни. Ох, непрост был этот Генри Дэвисон!
Картина 2-я. «Да, теперь там пустыня…»
Действующие лица:
• Дженни Черчилль (1854–1921) – урожденная Дженнет Джером, дочь американского финансиста, супруга Рэндольфа Черчилля – младшего сына герцога Мальборо, мать «величайшего британца в истории».
• Эдуард VII (1841–1910) – король Соединённого королевства Великобритании и Ирландии с 1901 года.
• Уинстон Спенсер Черчилль (1874–1965) – «величайший британец в истории», премьер-министр Великобритании (в 1940–1945 и 1951–1955 гг.), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953).
• Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945) – министр финансов (с 1908 г.), затем министр вооружений, военный министр, а с декабря 1916-го – премьер-министр Великобритании.
• Эдвард Хауз (1858–1938) – американский политик, советник президента Вудро Вильсона; известен больше как «полковник Хауз».
• Вудро Вильсон (1856–1924) – 28-й президент Соединённых Штатов Америки (с 1913 г.), лауреат Нобелевской премии мира 1919 года.
Место действия – Британская империя, Соединённые Штаты (Техас).
Время действия – конец XIX – начало XX века.
Автор (из-за кулис): В баре канадского города Торонто сидели трое, по виду – лесорубы. Они неторопливо потягивали виски с пивом, глядя на озеро за окном. Видно, что в жизни им немало пришлось потрудиться. «Однажды я на спор за час сосну свалил», – протянул один. Другой усмехнулся: «За час я в Техасе и две мог осилить!» Третий, отхлебнув из кружки, промолвил: «А когда мы с Джоном валили лес в Сахаре…» Собеседники скривились: «Сахара – это пустыня!» Тот покорно согласился: «Да, теперь там пустыня».
ЭТА ИСТОРИЯ началась с искры мгновенной страсти. А закончилась гигантским пожаром, дымный шлейф от которого не давал дышать жителям Техаса несколько дней. В эту историю вовлечены несколько человек, имена которых ныне известны, одних больше, других – в меньшей степени. Вольно или невольно они оказались «связанные одной целью, скованные одной цепью», одним сюжетом. Хотя в своё время каждый из них порой даже не догадывался, что является марионеткой – игрушкой, ниточки от которой обитают в руках другого человека. А этот другой находится в полной власти третьего. И так по всей цепочке. Этот сюжет состоит из двух частей, на первый взгляд, не связанных между собой, но внимательный читатель увидит во второй части продолжение первой…
Первая часть сюжета началась 130 лет назад с искры мгновенной страсти у одной молодой красивой британки. О любовном романе леди Рэндольф Черчилль и принца Уэльского (будущего английского короля Эдуарда VII) написано, пожалуй, не меньше, чем о Жозефине Богарне и Наполеоне Бонапарте.
В апреле 1874 года 20-летняя американка Дженни Джером вышла замуж за молодого английского лорда Рэндольфа Черчилля, сына герцога Мальборо. Брак был счастливым и ярким. Муж, только что избранный депутатом, выступает в парламенте с пламенными речами, жена блистает на балах. Через семь с половиной месяцев у них родился пухленький рыжеволосый мальчик, будущий «величайший британец в истории».
По большому счёту, это был первый международный брак – американской красавицы с титулованным англичанином. Потом марьяжные отношения между Старым Светом и Новым станут частыми, «долларовые принцессы» пойдут нарасхват, принцип «деньги за титул» на свадебных столах получит самое главное место.
Молодые сняли новый дом. Посетить его считалось почётным. И однажды в гости к счастливой паре явились принц Уэльский с женой. Заметим в скобках, что принцев – на белом коне или без оного – на свете много, а титул «Уэльский» даётся исключительно престолонаследнику, будущему королю. Так что Дженни, она же леди Рэндольф Черчилль, в тот день была крайне озабочена:
– Ой, не знаю, как всё будет?!
Отчасти причина была в том, что принц Эдуард имел репутацию человека, мягко говоря, разгульного. Справедливости ради надо сказать, что любовниц своих он не выбрасывал, как старые перчатки, а старался как-то пристроить их. Однажды узнал, что его незамужнюю бывшую пассию «подобрал» брат Рэндольфа – так предложил Джорджу Черчиллю на выбор: дуэль либо женитьба на девушке.
– Так я же женат! – удивился брат Рэндольфа.
– А ты разведись! – потребовал принц Уэльский.
Короче, все Черчилли остались живы, но в опале. Прошло семь лет, и вдруг – такой почётный гость. К себе во дворец он приглашает по очереди каждую леди, причём сам составляет список и тщательно выбирает, кому с кем сидеть. А тут сам принял приглашение на ужин.
Дженни вызвала известного французского повара, который приготовил исключительный стол. Принц с супругой в знак уважения прибыли точно вовремя. Дженни склонилась перед ними в глубоком реверансе. Принцесса Уэльская обняла её и сказала: «Мне так хочется сыграть с вами Баха в четыре руки!» Дженни не успела ей ничего ответить, потому что её жаром обдал взгляд Эдуарда – быстрая, оценивающая, испепеляющая искра. Женщины так не смотрят…
Ужин имел огромный успех. Благодаря ему леди и лорд Рэндольф Черчилли мгновенно восстановились в рядах самых высоких слоёв общества. Все стали искать их покровительства. У мужа пошёл карьерный рост, теснее стала его дружба с Натаном Ротшильдом. Принц Уэльский начал осыпать Дженни дорогими подарками. Искра первой встречи разгорелась в такой пожар, что вскоре она стала гостьей его знаменитых загородных вечеринок, не всегда в компании своего мужа. Начался её двухлетний роман с будущим королём Эдуардом VII. Берти – так он просил называть себя.
Когда лорд Рэндольф Черчилль умер, принц Уэльский не оставил Дженни. Хотя она всё чаще стала замечать, что он смотрит на неё – по-прежнему молодую и красивую – не так, как раньше, а как… женщина на женщину.
Берти было 59 лет, когда он наконец-то взошёл на престол. Он с головой ушёл в государственные дела. Стал тучным, и чтобы он не забыл дорогу к её дому, Дженни приказала построить специально для него лифт на четвёртый этаж. Тронутый такой заботой, Эдуард VII сказал:
– Я благословил ваш брак с лордом Черчиллем, когда все были против. Если бы не я, ваш сын не появился бы на свет. Я попросил сэра Ротшильда помочь вам материально. А теперь помогу Уинстону сделать карьеру…
Всё могут короли… В 26 лет Уинстон Черчилль стал членом Палаты общин. Первое заседание нового парламента, отложенное из-за кончины королевы Виктории, торжественно открылось в середине февраля 1901 года. Король Эдуард VII, восседая на троне, произнёс приветственную речь. Уинстону казалось, что король чаще останавливает на нём свой взгляд, когда смотрит в зал. Скорее всего, так и было…
В конце 1905 года Черчилль назначен заместителем министра по делам колоний, а через три года стал министром торговли и промышленности. Тогда же он женился на Клементине Хозиер, из графского рода. Среди свадебных подарков была трость от короля Эдуарда VII с золотой гравировкой: «Моему самому молодому министру».
В феврале 1910 года Черчилль занимает пост министра внутренних дел, а в мае король Эдуард VII умер. Он не успел закончить задуманную реорганизацию военно-морского флота, которая предполагала утилизацию устаревших кораблей и полное обновление стратегии внутренней обороны. Менялось руководство Адмиралтейства, но череда скоротечных назначений привело лишь к тому, что «владычица морей» незадолго до Великой войны подрастеряла своё превосходство.
Британская империя обладала четвёртой частью всей суши земного шара, в королевстве более четырёхсот миллионов подданных. Всего десять лет назад у неё был гигантский флот – семьсот вымпелов! А сейчас – в пять раз меньше. Соединённые Штаты, с одной стороны, и Германия, с другой, начинают догонять. Россия уже не в счёт: война с Японией сильно потрепала её эскадры…
Королевскому военно-морскому флоту Британии срочно нужна реорганизация. И новый руководитель. Первым лордом Адмиралтейства в октябре 1911 года был назначен Уинстон Черчилль.
Черчилль взялся за новое дело, засучив рукава. Адмиралы смотрели на первого лорда невзрачно и нагло: гражданских начальников не уважали на флоте никогда и нигде. Нет проблем. Недовольны? Свободны, господа! Поставим на ваше место других адмиралов, которые и дело знают, и согласны с главным посылом прямого потомка герцога Мальборо:
– Британия потеряет всё, если перестанет быть владычицей морей. Готовиться к войне сегодня надо так, как если бы она началась завтра.
После русско-японской войны флот Российской империи никто в расчёт не брал. На море начиналась борьба между двумя другими империями – Британской и Германской. Начиналась чудовищная гонка вооружения…
– Через год мы станем намного сильнее, – писал Черчилль жене с адмиральской яхты, которая стала его офисом и домом. – Жаль, что у меня нет девяти жизней, как у кошки, чтобы глубоко вникать в каждую область. Приходится многое передоверять другим, хотя я уверен, что сам мог бы сделать лучше…
Отказ от угля на флоте требовал много сырой нефти. Ему твердят:
– Нефть не растёт в Британии!
Уинстон очень быстро находит место, где она «растёт», и танкеры из Персии косяком отправляются в Англию.
На верфях строятся новые современные корабли и подводные лодки, полным ходом идёт перевооружение морской артиллерии. Требуется больше денег.
Первый лорд Адмиралтейства выступает перед депутатами больше двух часов. Потом кто-то из верхней палаты скажет:
– Все были против новых ассигнований! Это же не доклад, а какая-то психическая атака! Он перепрограммировал наши мозги в свою пользу и, похоже, получит то, что хотел!
Правительство приняло его бюджет.
– При другом министре финансов смета была бы урезана на миллионы, – заметил один из лейбористов.
– Тогда был бы и другой первый лорд Адмиралтейства, – немедленно откликнулся Черчилль.
…Из программы, составленной за три дня с адмиралом Фишером, далеко не самым простым оказался четвёртый пункт – создание морской разведки. Но и это решилось очень быстро – как только Германия начала войну с Россией.
Четвёртого августа 1914 года король Георг V объявил своему кузену Вильгельму II, что Британская империя находится в состоянии войны с Германией. Некий английский деятель заявил: «Мы будем воевать на стороне России, но пока русские думают, что мы союзники, у них нет шансов на победу, только пусть они подольше так думают». Тс-с-с! Данная позиция Великобритании – большой секрет на много лет. Правда, лишь для тех, кто не всё понимает.
Британская империя вышла на первое место в мире, к началу Великой войны её флот вдвое превосходил германский и почти втрое – французский. Но к 1915 году немцы догнали англичан по подводным лодкам, построив двадцать новых субмарин. Они-то и начали безжалостно топить всё, что появлялось в Северном море и проливе Ла-Манш. Нередко за день «головастики» кайзера отправляли на дно по два-три судна, в основном под английским флагом.
Доставалось и американцам: 7 мая 1915-го их океанский лайнер «Лузитанию» потопила торпеда немецкой подлодки, погибли более тысячи человек. В августе того же года союзники потеряли более 120 судов, в два раза больше, чем в мае. А в 1916 году Германская империя ввела в строй ещё 108 субмарин. Началась грандиозная «Битва за Атлантику».
Дальше – вторая часть нашей истории.
Британский флот потерпел поражение в проливе Дарданеллы. На этой операции настаивал Уинстон Черчилль, и он подал в отставку с поста первого лорда Адмиралтейства. Но с его уходом проблемы Королевского флота стали только ярче и острее.
Главная проблема заключалась в том, что Соединённые Штаты так и не вступили в войну и спокойно наживались на неудачах своих союзников. США торговали со всеми, им уже не хватало транспортных судов, которые возили в Европу всё, что подкармливало воюющие стороны. Для англичан это была реально растущая угроза: если американцы начнут обгонять их в строительстве кораблей, Великобритании никогда больше не бывать «владычицей морей».
Об этой опасности перед смертью предупреждал британского монарха Георга V главный королевский банкир Натан Ротшильд. Эта угроза ещё больше усилилась, когда в начале апреля 1917-го Соединённые Штаты вступили в войну против Германии и тут же приняли объёмную кораблестроительную программу. В ней предусматривалось всё: новые верфи, боевые линкоры и эсминцы, подводные лодки, транспортные и вспомогательные суда, корабельная артиллерия и морская авиация. Денег было выделено в три раза больше обычного.
Как Британии остановить Штаты? Недавно утверждённый премьер-министром старый друг Черчилля и его постоянный партнёр по гольфу Дэвид Ллойд Джордж ломал голову над этим вопросом. Нет, без Уинстона ответа не найти, тот как раз вернулся с фронта, покомандовал батальоном – хватит. Премьер вызвал Уинстона к себе.
– Согласия даже не спрашиваю – будете министром боеприпасов. Что думаете? Как остановить Америку? Снова морские каникулы предложить?
– Нет, эта идея устарела, – подполковник Черчилль, ещё не снявший военную форму, попыхивал сигарой, уютно устроившись в кресле. – Ни переговоры, ни меморандумы здесь тоже не помогут…
Для них не было секретом, что специальный посланник американского президента Эдвард Хауз и британский министр иностранных дел Эдвард Грей разработали меморандум, в котором оговаривалась вероятность подключения США к войне на стороне Антанты и совместные шаги союзников по пути к справедливому миру.
– Мы мечтаем как-то помешать их кораблестроительной программе, а, на мой взгляд, эффективнее было бы Америке помочь в этом, – раздумчиво протянул Черчилль. – Помочь советом. Желательно бесполезным…
– Что вы имеете в виду, дорогой мой Уинстон? – удивился последней фразе премьер.
– В юности я служил в кавалерии, – Черчилль отпил солидную порцию виски. – Денег катастрофически не хватало, и я позволил себе попросить соверен у матери. Ответ её запомнил на всю жизнь: «Я не собираюсь читать тебе лекцию, потому что у меня нет на это времени, но я должна сказать, что ты тратишь слишком много денег – и ты это знаешь. Ты должен мне два фунта и хочешь ещё. Ты не должен так поступать»…
Они понимающе улыбнулись друг другу, и Черчилль продолжил:
– Американцы не примут наш совет. Их бесит, когда кто-то им что-то советует. А вот если предложить им коммерческий проект с выгодой «всё и сразу» – это президента Вильсона наверняка заинтересует: деньги, выделенные на программу кораблестроения, насколько я знаю, уже истрачены, а результата не видно…
– Что за проект? Это любопытно!
– Я как раз читаю только что вышедшую книгу молодого инженера Харви Эстепа. Это подробная инструкция, как строить деревянные корабли. Неважно, какого тоннажа и назначения. Любой обойдётся в десять раз дешевле такого же железного, а если строить сразу серию, то через месяц на воду можно спустить сотню кораблей. Металла у США не хватает, а лесов полно.
– Кстати, полковник Хауз, как он себя любит величать, – ставленник банкиров лондонского Сити, – понизив голос, выдал тайну Ллойд Джордж. – В том числе и лорда Ротшильда И он всё сумеет правильно передать американскому президенту Вудро Вильсону. Пришлёте эту книгу?
– Конечно!..
Вскоре полковник Хауз сообщал в письме президенту США Вильсону:
«Дорогой босс! Деревянные корабли – интересный вариант. Намного интереснее железобетонных. Да, деревянные не вечны, но транспорты в Европу нам нужны как можно скорее. Понятно, что необходимый тоннаж не может быть создан целиком из дерева, да в стране и нет пока достаточных объёмов. Но богатые леса Техаса способны удовлетворить потребности. Канадские лесорубы готовы поучаствовать. Согласие на льготный кредит получено. Если срочно увеличить число верфей и стапелей, мы будем через два-три месяца иметь тысячу новых судов».
Всё завертелось, когда экономисты подсчитали, что один рейс такого корабля через Атлантику окупает затраты на его строительство. Изначально речь и шла о тысяче судов. Под них были модернизированы десятки верфей, построено четыре новых с общим числом в сто стапелей. Туда пришли работать триста тысяч человек. Американские верфи ждали леса, много соснового леса.
В штат Техас со своими трелёвочными тракторами пришли тысячи канадских лесорубов. Для них начинались «золотые деньки». А после них оставались лишь гигантские проплешины с торчащими зубьями пеньков. Большая часть лесных угодий этого американского штата была уничтожена именно тогда.
Первое деревянное 90-метровое судно сошло на воду в начале декабря 1917-го. Одиннадцатого ноября следующего года во Франции было подписано перемирие, а на стапелях в Соединённых Штатах находилось почти три сотни деревянных пароходов и ещё сотня – полностью оснащённых, с паровыми двигателями. Ни одно из них так ни разу и не пересекло Атлантику.
Каждая посудина обошлась в четыре раза дороже, чем планировалось. Пятьдесят миллионов долларов, взятых в кредит, были выброшены на ветер. Деревянный флот устарел за одну ночь. Но запущенная правительством программа продолжала работать, и ещё целый год строились никому не нужные деревянные суда.
– Это один из самых провальных проектов в истории нашей страны! – с горечью признали в Белом доме.
Оставалось определить судьбу тех сотен посудин, что занимали место на верфях, белея своими некрашеными корпусами среди стальных гигантов. Штук пятьдесят удалось продать оптом – ради металлолома. Но его выковыривать из деревянных корпусов не просто, и фирма, которая суда купила, решила ускорить процесс – сразу несколько деревянных корпусов сжечь на мелководье. Но восстали местные фермеры, и фирме пришлось выкупать землю в безлюдном месте и по реке перетащить туда свою дешёвую добычу.
Поздней осенью 1925 года были одновременно подожжены более тридцати деревянных судов. Дымный шлейф от гигантского пожара не давал дышать жителям Техаса несколько дней. Небо было чёрным, в море тонула печаль. Потом всё кончилось…
Автор (из-за кулис): Большинство деревянных кораблей были затоплены. Оставшиеся многие годы ещё догнивали, превратившись в вотчину самогонщиков, в дешёвые ночлежки и бордели… Несмотря на убытки с этим проектом, после Первой мировой войны крупнейшие страны Европы оказались должниками США, «по крайней мере, на два поколения». А идею с одноразовыми судами американцы по полной использовали во Второй мировой войне, построив 2710 кораблей типа «Либерти». За них Советский Союз платил золотом.
Россия: «Четвёртые сутки пылают станицы…»
«За последние три дня, как только наша дивизия выдвинулась в границе, у нас сразу же во всех полках оказались разъезды, которые встретились с неприятелем… Приношу от лица службы горячую благодарность всем господам офицерам и нижним чинам, бывшим в разъездах и эскадронах, за удалые их действия, за товарищескую поддержку, которую они подавали друг другу, и за решительность в окопах. Рад, что вижу в настоящих делах против действительного врага то, чему мы учились на манёврах в мирное время – удаль и взаимовыручку. Все мы братья, все мы должны выручать один другого, хотя бы это стоило нам жизни. Всем поступать так: не ожидая приказания, бить врага там, где он попадается, не справляясь, сколько его. Во всех бывших стычках оказалось, что хотя врагов было гораздо больше, но потери наши очень невелики сравнительно с врагом. А почему? Да только потому, что наши бросались смело, а враг отбивался! За всё это время убито врагов около пятидесяти, а у нас потери всего пять человек. Из них – четыре легкораненых и один без вести пропавший казак, который, даст Бог, ещё к нам вернётся. Сердечное спасибо всем молодцам, бывшим в боях и показавшим пример, как надо бить врагов Отечества! Всех наиболее отличившихся предписываю представить сейчас же к наградам».
Из приказа командира 10-й кавалерийской дивизии графа Фёдора Келлера, лето 1914 года
Картина 3-я. Граф Келлер – «золотая шашка России»
Действующие лица:
• Фёдор Келлер (1857–1918) – потомственный граф, генерал от кавалерии, кавалер ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней и других орденов, убеждённый монархист.
• Михаил Скобелев (1843–1882) – русский военачальник, генерал от инфантерии, освободитель Болгарии от турецкого ига.
• Густав Маннергейм (1867–1951) – русский и финский государственный и военный деятель шведского происхождения, генерал от кавалерии (1918), фельдмаршал (1933), президент Финляндии (1944–1946).
• Симон Петлюра (1879–1926) – главный атаман Украинской народной республики, председатель Директории (1919–1920), идейный вдохновитель и фактический организатор еврейских погромов и геноцида русскоязычного населения в Малороссии.
Место действия – Российская империя.
Время действия – конец XIX – начало XX века.
Автор (из-за кулис): Немец Фёдор Келлер был русским по жизни больше, чем некоторые россияне по рождению. Его дед появился в Санкт-Петербурге в ранге посланника прусского короля, отец стал основателем русской ветви этого графского рода и дослужился до генерала. Кем станет внук, появившийся на свет в Курске, ни у кого сомнений не возникало: только военным. В девятнадцать лет Фёдор Келлер принял присягу на верность царю и Отечеству и до конца жизни остался верен ей.
НЕЗАДОЛГО до обеда по всем учебным классам Николаевского кавалерийского училища пошли воспитатели, экстренно собирая будущих гвардейских юнкеров на общее построение. Ровными рядами стояли дворянские сыновья в бальном зале, ожидая чего-то важного. Наконец двери распахнулись, и, позвякивая шпорами, появился начальник школы в окружении свиты. Горнисты пропели сигнал «Слушайте все!»
– Исчерпав до конца миролюбие наше, мы вынуждены высокомерным упорством Порты приступить к действиям более решительным, – генерал зачитывал императорский манифест. – Турция своим отказом ставит нас в необходимость обратиться к силе оружия. Глубоко проникнутые убеждением в правоте нашего дела, мы в смиренном уповании на помощь и милосердие Всевышнего объявляем всем нашим верноподданным, что наступило время, предусмотренное в тех словах наших, на которые единодушно отозвалась вся Россия…
Выдохнув и оглядев зал, генерал поправил аксельбант и закончил:
– Ныне, призывая благословение на доблестные войска наши, мы, император всея Руси Александр Второй, повелели им вступить в пределы Турции…
Шеренги не шелохнулись, не прокричали «ура!». Складывалось впечатление, что прикажи им сейчас маршировать на фронт – так и пойдут молчаливыми рядами. И впечатление не обмануло.
– Приказом по училищу объявляется досрочный вы пуск, желающие могут записаться добровольцами в действующую армию!
Генерал вышел, свита за ним. В зал внесли столы, началась запись волонтёров. Для таких, как Фёдор Келлер, – отдельный столик. Они же пансионеры-подготовишки, даже не кадеты ещё. Так что пошёл он воевать с турками вольноопределяющимся, с нижнего чина повёл список военных заслуг молоденький граф. Родителям о своём решении Фёдор сообщил лишь с дороги на фронт.
Лейб-драгунский полк, к которому приписался «вольнопер», попал в армию генерала Скобелева, известного своей удалью и скандалами. Началась служба Келлера с шагистики, жёсткой солдатской шинели, короткого сна и длинных переходов по долинам и взгорьям Балкан. Лошадь дали обозную, вместо винтовки и сабли – «подай-принеси», «доставить в штаб донесение немедленно». Но и здесь он отличился: офицеры доложили генералу, что этот высокий юноша ни от какой работы не отлынивает, вражеским пулям не кланяется.
Однажды ночью пошёл полк в наступление, пытаясь выбить османов из болгарского села. «Конная пехота» залегла под их огнём. Послали с приказом «вольнопера» Келлера, а тот в темноте сбился с пути да прямо в окоп турецкий и свалился. Слышат драгуны: стрельба завязалась, вопят что-то турки – и мигом «скобелевцы» поднялись в атаку.
Оказалось, молодой граф саблей чужой завладел и начал врагов крушить направо-налево, с оттягом да припечаткой. Турки пытались стрелять, но в своих же и попадали. Тут и наша помощь подоспела, смяли драгуны боевое охранение, выбили османов из села.
Скобелев лично прикрепил солдатского «Георгия» к гимнастёрке «вольнопера», пригласил к самовару.
– Благодарю за службу! Не посрамил батюшку своего и братца! – нахваливал он Фёдора, поглаживая окладистую бороду. – Уверен, ты и сам станешь генералом. Османов разобьём, но придёт новая война: между славянами и тевтонами. Ты сделал правильный выбор. Всегда показывай пример и береги нижние чины, в них вся сила России-матушки. Верь им, и они тебе поверят. Детей и солдат обманывать нельзя…
В конце войны Фёдор снова отличился. Турки подожгли мост, вот-вот брёвна рухнут в пропасть, а «вольнопер» решил показать пример – помчался сквозь огонь, за ним и весь эскадрон проскочил. Османов погнали дальше, а Келлера вторым «Георгием» наградили.
Весной 1878-го турки капитулировали, Фёдор мог вернуться в училище, но приказ о присвоении ему первого офицерского звания пришёл раньше. Через два года Келлер уже командовал эскадроном, ещё через пять лет стал ротмистром. Новый император Александр III врагов не боялся, и на Россию идти при нём никто не решался. Пушки молчали, страна отдыхала от боёв, жизнь армейская текла согласно уставу, чины следовали не так быстро, как на войне. Одних офицеров это не устраивало – они уходили со службы, другие в службу уходили с головой.
Граф Келлер был как раз из других. Его немецкие корни требовали порядка и дисциплины, слава образцового службиста бежала впереди его лошади, солдаты любили его искренно. Помня наказ генерала Скобелева, он верил нижним чинам и берёг их, а те – горой стояли за своего отца-командира.
«Делай, как я!» – и полковник Келлер показывал «весьма искусно» джигитовку, рубку и стрельбу, брал призы за верховую езду, на спор отбивался пикой от окруживших всадников. Начальство перекидывало его из одного полка в другой: подтянет дисциплину и показатели у драгун – его ставят командиром полка казаков-крымчаков. А там уже ждут терские казаки и лейб-гвардейцы – везде нужен, всеми любим этот воин с головы до пят. Высокий, стройный, всегда подтянут, смотрит по-доброму, взгляд серых глаз прямо в душу проникает.
Царь-миротворец Александр III скоропостижно умер, а с ним ушла в прошлое и размеренная жизнь. Поражение флота в войне с японцами, баррикады на улицах, забастовки и демонстрации от столиц до самых окраин Российской империи – всё это повылезало откуда-то в тот непонятный 1905 год.
Смута и революционные настроения породили модное словечко «террор». Полыхали от массовых погромов шляхетские земли Польши, переведённой на военное положение. Усмирять панов и подстрекателей отправился и полк Келлера, а сам он стал временным генерал-губернатором в городе Калуше. И тут же местные террористы его приговорили к смертной казни. За что? За то, что порядок наводил железной рукой и к «бессмысленным и беспощадным» бунтовщикам не имел милосердия.
Настоящую охоту объявили боевики-эсеры на губернаторов и прочих государственных чиновников Российской империи. Сотни терактов, тысячи убитых – и длилось это месяцами, даже после учреждения военно-полевых судов. Они появились «для суждения по законам военного времени», как подчеркнул в своём указе Николай II.
Первого бомбиста успел увидеть краем глаза, поймал руками адский свёрток, спокойно положил его на мостовую и бросился за убегавшим преступником. Жаль, не догнал, тот скрылся во дворах.
В другой раз временный генерал-губернатор Фёдор Келлер возвращался с полевых учений. Окружённый своими офицерами, он что-то спокойно им объяснял, когда из проезжавшей мимо пролётки в них полетела бомба. Она взорвалась прямо у ног графа. Адъютант успел повалить любимого командира, сам погиб, приняв на себя град осколков, но и у графа одна нога превратилась в решето.
– Отрезать не смей! – пригрозил он хирургу, когда оставшиеся в живых офицеры привезли тяжело контуженного Келлера в госпиталь.
Одна операция за другой. Сначала доставали большие осколки, затем средние, потом маленькие. Полковник уже начал вставать, когда на день рождения ему сделали подарок: сорок девятый осколок – по числу прожитых лет.
Кусая губы до крови, ходил по госпитальному коридору сначала на костылях, потом с палочкой. Раненые и больные солдаты жались по стенам, удивлённо глядя на высокого усатого начальника, который шёл сквозь молчаливый строй с гордо поднятой головой.
Через два месяца он выйдет на больничное крыльцо, ему подведут коня, граф легко запрыгнет в седло и, размахнувшись, закинет в кусты палочку. Хромота останется на всю жизнь, Фёдор Артурович будет ещё дважды ранен, но жалоб от него никто никогда не услышит.
После окончания первой русской революции пятидесятилетний граф был произведён в генерал-майоры и зачислен в свиту Его Величества. И снова – медленный, но верный рост по службе. Перед началом мировой войны генерал-лейтенант Келлер императорским указом утверждён в должности начальника 10-й кавалерийской дивизии.
Собрав на первое совещание полковых командиров, он представился так:
– Я работаю с восьми утра и до восьми вечера. Потом небольшой перерыв, и снова на службу – с восьми вечера до восьми утра. Надеюсь, все вы будете работать так же!..
Тогда было в новинку, чтобы строевой командир занимался теорией военного дела и публиковал методички. И потому брошюры, которые издал в столице граф Келлер, пользовались у офицеров огромной популярностью. А там новый комдив подробно описывал, как оценивать силы противника и наносить ему побеждающие удары, как воспитывать бойцов и ценить солдатскую смекалку. Рекомендовал занятия проводить не в манеже, а в поле, на пересечённой местности. И новую тактику в бою – атаку лавой – предлагал кавалеристам.
Ох, как всё это пригодилось в начале августа 1914-го! Уже четвёртые сутки пылали станицы, подожжённые австрияками, когда в предгорьях Карпат встретились две кавалерийские дивизии. Силы в тот день оказались явно не равные: наших конников в два раза меньше, чем австро-венгерских гусар. Фёдор Келлер не знал об этом – впрочем, вражье превосходство в численности его бы не остановило…
Утро восьмого августа выдалось ясным, тихим. Местность открытая, холмы с пологими скатами, заросшие лощины. Солнце светило нашим в спину, ослепляя эскадроны противника. Чёрно-голубые ряды австрийских улан в парадной форме явственно виднелись на противоположном холме.
– Небо нам знак подаёт! – сказал начальник дивизии граф Келлер штабным офицерам. – Нападать, а не обороняться! Через два часа, когда начнётся солнечное затмение, враг должен быть разбит!
Из ближней рощицы ударила австрийская артиллерия. Тут же трубачи сыграли «К бою!», и длинная колонна 10-й кавдивизии начала ровняться по фронту, строя линию для атаки «келлеровской» лавой.
В центре пошли драгуны, выставив свои длинные пики. Земля затряслась от топота сотен лошадиных копыт. Конники лихо поднимались на вражеский холм, несмотря на яростный огонь пулемётов. На гребне обе стороны сошлись, схлестнулись в страшной сече. Началось невиданное доселе побоище: две с половиной тысячи всадников в рукопашном бою калечили друг друга. Редкие выстрелы пушек и пулемётные очереди не могли заглушить адского стона человеческих глоток и ржания порубанных коней.
От места, где расположился штаб 10-й дивизии, было хорошо видно, как забурлила людская река: тёмная с одного берега – от австрийских мундиров, и посветлее с другого – от выгоревших гимнастёрок русских казаков. Сотни сабельных клинков вспыхивают солнечными бликами и тут же гаснут, унося бессчётно человеческие жизни.
Теснота в этой каше такая, что нет свободы для нормального замаха. Тычут противники друг в друга острыми шашками, словно пиками, и снопами валятся на землю, под копыта взбесившихся коней.
Видит граф Келлер, как фланги его дивизии стали загибаться вовнутрь, уже за холмом круша артиллерийские позиции врага и его резервы. И тут же дрогнул центр 10-й дивизии, теснимый мощным тёмным потоком. Казалось, ещё немного – и покатятся назад новгородские драгуны. Минуты решали судьбу сражения.
– Конвой и штаб – в атаку! За мной! – граф пришпорил коня.
Казаки-оренбуржцы из охраны, ординарцы и несколько офицеров помчались за ним в самую гущу, с лёту смяв свежий эскадрон австрияков. Завидев своего командира, одетого перед боем в парадный мундир, новгородцы с новой силой кинулись на врага. Те попятились, а сзади – одесские гусары, уже покрошившие артиллерийскую прислугу, ждут, встречают огнём. И фронт посыпался, заметались с криком предсмертным чёрно-голубые тени, словно птицы в высоком небе.
В полдень на землю опустился жёлтый туман. Солнце покрывалось непрозрачным диском, окаймлённым сиянием. Начиналось полное солнечное затмение.
– Управились с Божьей помощью! – граф Келлер перекрестился и с небольшой группой штабных офицеров, оставшейся возле него после атаки, поскакал через лощину. По склонам холма носились обезумевшие от страха и потерявшие всадников кони.
Русская кавалерия ещё долго преследовала утекающие остатки вражеских эскадронов…
Это масштабное чисто лобовое кавалерийское столкновение войдёт в военную историю как последнее конное сражение Первой мировой войны. И – как первая победа русских на Восточном фронте. Потери врага убитыми и ранеными составили около тысячи человек, «келлеровской» же дивизии – в несколько раз меньше. Были захвачены сотни пленных, восемь орудий, пулемёты и штабная документация. За геройские действия в том сражении Фёдор Артурович Келлер был награждён орденом Святого Георгия четвёртой степени.
А через несколько дней в Восточной Галиции началась грандиозная битва. Русские войска перешли в наступление по всему фронту, взяли Львов, Галич, вплотную приблизились к Кракову, осадили Перемышль. Австрийцы потеряли 400 тысяч солдат и офицеров – почти половину своей полевой армии, свыше 600 артиллерийских орудий, а также 100 тысяч пленными и обоз, растянувшийся колонной на десять вёрст. После прорыва австрийского фронта «келлеровская» дивизия была придана армии Брусилова для преследования неприятеля, отходившего за Карпаты.
Императрица Александра Фёдоровна так отозвалась о генерале: «Граф Келлер творит что-то невероятное. Со своей дивизией он уже перешёл Карпаты. Государь его просит быть осторожнее, но он лишь отвечает ему: „Иду вперёд“. Большой молодец…»
В знак особой признательности Николай II решил подарить графу шашку. Да не простую, а золотую. Такую же, что вручают георгиевским кавалерам за храбрость, да не совсем такую. Специально для Келлера государь приказал шашку сделать длиннее обычной – под стать двухметровому графу.
Поцеловал Фёдор Артурович клинок – и снова в бой поскакал. Шёл 1916-й год. Он уже был дважды ранен. И командовал уже кавалерийским корпусом, в который входило до десяти дивизий. А полки в атаку, несмотря на свои годы, предпочитал водить лично, при полном параде. На груди – два солдатских «Георгия», два ордена Святого Георгия, орден Анны первой степени с мечами. На голове – мохнатая шапка как знак почётного казака Оренбургского войска. А в правой руке – золотая шашка.
В том же году Федор Артурович был произведён в генералы от кавалерии. Символично, что один из немногих русских военачальников, до конца сохранивших верность императору, граф Келлер, стал последним, произведённым в полные генералы самим Николаем II.
Как говорится, чин следовал ему, но накатил девятьсот семнадцатый. И в конце февраля бывший Верховный главнокомандующий, перепуганный донельзя, телеграфирует императору: «Считаю необходимым, по долгу присяги коленопреклонённо молить Ваше величество спасти Россию и Вашего наследника. Осенив себя крестным знамением, передайте ему Ваше наследство. Другого выхода нет. Великий князь Николай Николаевич».
М-да, не зря император записал в своём дневнике краткую фразу: «Кругом измена, трусость и обман». Вот и всё, конец пришёл династии Романовых.
Прощально взывал к армии и царь:
– В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мной войска, – писал Николай II (текст обращения Временное правительство постаралось скрыть). – Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Отечества, его предатель. Знаю, что каждый честный воин согласен со мной. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестно нашу великую Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников, помните, что всякое послабление дисциплины только на руку врагу…
У графа Келлера не было сомнений, что царя принудили к отречению. Фёдор Артурович собрал представителей от каждого эскадрона своего корпуса, сказал им:
– Я получил депешу об отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Я, ваш старый командир, деливший с вами и лишения, и горести, и радости, не верю, чтобы Государь в такой момент мог добровольно бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал в Ставку: «Третий конный корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно отрёкся от престола. Прикажи – придём и защитим Тебя».
Троекратное «ура!» было ответом.
Но телеграмма к царю не попала, не дали ей ходу где-то в верхах. Не прошло и трёх дней, как в штабном вагончике графа Келлера появился генерал-лейтенант Густав Маннергейм. Он прибыл не верхом, а в коляске, по-цивильному, в касторовой шляпе, словно только что от своей пассии – русской балерины. Барон Маннергейм привёз текст новой присяги.
Они были знакомы давно, ещё с Николаевского училища. Келлер старше барона на десять лет и выше по званию и должности, но оба считались лучшими кавалеристами в российской армии, наверное, поэтому новая власть и доверила Маннергейму такую миссию.
– Фёдор Артурович, надо переприсягнуть Временному правительству, – начал с порога будущий правитель независимой Финляндии.
Но граф резко оборвал его.
– Нет такого слова в русском языке! И не должно быть! Это нонсенс! Дважды не присягают!
– Я прошу вас как старшего друга, как боевого командира, прозванного в армии «первой шашкой России», – поступитесь своими личными политическими убеждениями для блага армии.
– Оставьте, барон! Вам меня не понять. Я христианин, и считаю величайшим грехом менять присягу! Мне всегда казалось отвратительным и достойным презрения, когда люди – ради личного блага, наживы или безопасности – меняли свои убеждения…
– Но, ваше сиятельство, речь идёт не о политике, а о судьбе нашей великой державы…
– Присяга для военного человека – это не политическая, а нравственная категория. Вы забыли святое правило: «Душу – Богу, жизнь – Государю, сердце – даме, честь – никому». Так что больше не задерживаю вас. Честь имею!..
Посланник Временного правительства уехал ни с чем. А на следующий день нарочный привёз срочный приказ от командующего фронтом: под угрозой объявления бунтовщиком Келлеру предписывалось сдать конный корпус.
Под звуки народного гимна «Боже, Царя храни!» старый генерал прощался со своими полками. Драгуны и гусары, казаки и пушкари провожали его со слезами на глазах.
Уволенный со службы граф Фёдор Келлер отправился в Харьков долечивать свои раны. Всё лето с семьёй – наконец-то! Купались в Лопани, ходили на охоту, вечера просиживали у самовара на открытой веранде…
Из Петрограда и с фронта шли новости одна тревожнее другой. Куда-то всё катилось, куда-то неслась Русь, словно гоголевская птица-тройка. Двенадцатого октября, когда отмечали шестидесятилетие графа Келлера, кто-то провозгласил тост:
– Чтобы скорей закончилась эта непонятная власть с пустым престолом!
Никто даже подумать не мог, что через две недели эта временная власть действительно закончится. Но престол – так и останется пустым…
На затихшем фронте – братание с германцем, у кайзера дальше воевать нет сил, а у русских – желания. Да и нет уже её, армии: нет дисциплины, с офицеров срывают погоны, какая уж тут армия? У кого сила, власть у кого? Не разбери поймёшь…
В Киеве сложился нелюбовный треугольник. Центральная Рада бьёт большевиков, объявляет самостийность Украины. Большевики этому не рады и поднимают мятеж против Рады. А поредевшие батальоны военного округа сохраняют верность уже низложенному Временному правительству и пуляют по тем и другим.
Власть менялась неоднократно. Месяц – самостийники, месяц – большевики. Освободившееся место в треугольнике заняли… немцы. Центральная Рада, спешно убегая, заключила с ними союз, и Германия стальным штыком вытеснила из столицы всех оппонентов. Короче, «немцы в городе, власть меняется».
А в Харькове, где живёт граф Келлер с семейством, уже прочно осели большевики. Пятого мая, в первый день Пасхи, денщик вдруг доложил генералу:
– Целый эскадрон к дому приближается! Похоже, красные…
Не стал Фёдор Артурович домашних беспокоить и прощаться. Хотят арестовать – пусть. Накинул полушубок, папаху надел, вышел. А перед крыльцом – действительно, целый полуэскадрон. И тут вахмистр неожиданно командует своим всадникам:
– Смиррр-на!
И, не спешиваясь, руку к виску тянет:
– Ваше сиятельство! Мы служили под вашим командованием в третьем конном корпусе. Разрешите поздравить вас с праздником.
Растроганный граф виду не подал, ответил спокойно:
– Спасибо, братцы! Жаль, что не имею вина вас угостить, в другой раз приезжайте…
Красные больше не тревожили, а вот от белых вестовые были. Первым звал к себе на службу ещё верховный главнокомандующий Временного правительства Лавр Корнилов. Но с ним граф Келлер не хотел иметь дела: не мог простить, что тот участвовал в аресте царской семьи. О гибели Корнилова как раз перед Пасхой написал графу Антон Деникин:
– Неприятельская граната попала в дом, именно в ту комнату, где он находился, убила только его одного. Просто мистика какая-то, рок…
Генерал Деникин и предложил Фёдору Артуровичу создавать Северную армию – такую же, как Добровольческая на Дону. Огонь Гражданской войны разгорался повсюду. Пылают станицы, зверствуют сменяющиеся друг друга власти, брат идёт на брата. Царь с семьёй расстрелян в Екатеринбурге. По всей Руси – хаос и беспредел, мрак и вихорь.
Келлер согласился наводить воинский порядок, начал собирать штаб будущей армии, издал в типографии обращение к своим боевым товарищам:
– Настала пора, когда я вновь зову вас за собою. За Веру, Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы – настало время исполнить свой долг… Вспомните и прочтите молитву перед боем, ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с Божьей помощью вперёд за Веру, за Царя, за неделимую нашу Россию!
Граф Фёдор Келлер едет в Киев, собирает вокруг себя офицеров. Под знамёна его будущей армии хотят встать многие. Иметь армию, возглавляемую талантливейшим полководцем, мечтают тоже многие: деникинцы, красновцы, петлюровцы и даже германцы. Победил в этом споре Пётр Скоропадский, когда-то служивший адъютантом у отца Фёдора Келлера, а ныне – только что провозглашённый гетман «незалежной» Украинской державы.
Скоропадский тут же назначает Келлера главнокомандующим всеми вооружёнными силами, действующими на территории Украины. Такая срочность объясняется просто: на столицу прут дикие орды Симона Петлюры. Его армия не отличается стойкостью и отвагой в боях, зато в разбое, грабежах и пытках ей нет равных.
«Батька Симон» приказывал убивать всех, кто не согласен воевать за «украинскую идею», брал под крыло отпетых уголовников, убийц и насильников. Но их много, и наспех обученные и необстрелянные «земгусары» Скоропадского уступают им, всё ближе отходя к Киеву.
Всего несколько часов потребовалось графу Келлеру, чтобы разобраться в обстановке, остановить пятившиеся батальоны и отдать приказ на наступление. В первом же бою «державники» отбросили петлюровцев, захватив четыре артиллерийских орудия. Фёдор Артурович лично поднял гетманцев в атаку. И не верхом, как привык, а пешим, прихрамывая и опираясь на палку. Но шёл в парадном мундире, с золотой шашкой у пояса – это всенепременно!
Всего неделю пробыл граф Келлер главнокомандующим, Скоропадский сместил его с должности за превышение власти: не понравились гетману, что граф поднимает в бой людей «за веру, царя и неделимую Россию». А ближе к Новому году власть опять поменялась. Немцы признали своё поражение в длившейся четыре года войне – и ушли из Киева. Отрёкшийся «державник» Скоропадский сбежал вместе с ними. В город вошли петлюровцы.
Генерал от кавалерии граф Келлер дал им бой. Но силы были явно неравные. Небольшой отряд добровольцев, в основном штабных офицеров несостоявшейся армии, с потерями отступил и был вынужден укрыться за стенами Михайловского монастыря.
– Вот и всё, братцы! – сказал старый граф сотоварищам. – Слушайте мой последний приказ. Как стемнеет, пробирайтесь по одному – кому как повезёт – на юг, к Дону. Благодарю за службу!
Двое наотрез отказать покидать своего командира: полковник Пантелеев и ротмистр Иванов. Остальные ушли. А через час, перед рассветом, к оставшимся в монастырской келье пробрался немецкий майор с тремя солдатами в остроконечных касках.
– Ваше сиятельство, – обратился он к графу. – Кайзер лично обеспокоен вашей судьбой, он уважает вас как блестящего полководца. Ещё есть возможность уйти из Киева с нашей комендантской ротой. Прошу вас следовать за мной.
– Без моих людей я никуда не пойду! – отказался Фёдор Артурович.
Пришлось немцу согласиться ещё двоих взять. Они уже дошли до монастырской ограды, когда майор остановил графа:
– Надо снять шашку и ордена, они демаскируют! Фёдор Артурович тут же сбросил с плеч накинутую на него германскую шинель, гневно заявив:
– Я эти награды получил за то, что с вами воевал! И побеждал вас в боях. Мне их стыдиться нечего, я горжусь ими! Они мне дороже жизни!
Повернулся и ушёл обратно в тесную келью, адъютанты – за ним…
Холодным ранним утром 8 декабря 1918 года в монастырь явился целый отряд петлюровцев – половина верхом, половина пеших. Ночью выпал снег, и они кутались в бабьи кацавейки и платки. Сказали, что все трое арестованы и переводятся в тюрьму. Сапоги надеть разрешили, но потом навалились, шашку у графа отобрали, ордена и погоны сорвали.
Их вели по центру города. Улицы были пустынны. Потом кто-то скажет, что Петлюра из-за угля наблюдал за процессией, восседая на белом коне.
В самом центре Софийской площади, похожей на замёрзший пруд, у памятника Богдану Хмельницкому, воссоединившему Украину с Россией, генерал от кавалерии Фёдор Келлер и его адъютанты были убиты выстрелами в спину. В графа стреляли – кто-то сосчитал – одиннадцать раз.
Золотую шашку героического русского генерала подобострастные «самостийники» поднесут Симону Петлюре, и тот захочет покрасоваться этим именным георгиевским оружием. Атаман был ниже Келлера на две головы, так что шашка убитого генерала смотрелась на нём весьма комично. Попытался «батька Симон» вытащить её из ножен, да сил не хватило. Махнул театрально ручонкой – дескать, не больно-то хотелось – и злобно дал шенкелей покорному коню.
Автор (из-за кулис): Деникина много позже перезахоронят с почестями на Донском кладбище в центре Москвы. Скоропадского в апреле 1945 года убьёт в Берлине бомба, сброшенная с американского самолёта. Петлюра в XXI веке станет народным героем русофобской Украины. А исконно русский генерал Фёдор Келлер будет похоронен на киевском кладбище под чужим именем, и сегодня о нём уже мало кто помнит. Это очень несправедливо…
Картина 4-я. «Штурман, идём на абордаж!»
Действующие лица:
• Михаил Сергеев (1891–1974) – русский военно-морской офицер, лётчик, участник трёх войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной. Кавалер царских и советских военных орденов.
• Феликс Тур (1889–1953) – штурман гидросамолёта, унтер-офицер.
Место действия – Российская империя.
Время действия – весна 1917 года.
Автор (из-за кулис): Конца войне ещё не было видно. Российская империя зашлась в погибельной разрухе. В феврале 1917-го в стране грянула революция. Царь отрёкся от престола, власть перешла к Временному правительству. Однако хаоса в многострадальной России не стало меньше. Армия бузила, не желая больше воевать. Лишь флот ещё держал фасон и дисциплину, сохраняя какой-никакой порядок. На кораблях традиционно несли вахту, береговая охрана охраняла берега, черноморская авиация с рассветом поднимала в воздух свои летательные аппараты и бомбила германского союзника – распадающуюся Османскую империю…
В ТОТ ДЕНЬ, 12 марта 1917 года, с Севастопольской базы вышли специальные корабли с размещёнными на палубах гидропланами. Одна группа российских летунов должна была разбомбить на Босфоре насосную станцию, расположенную недалеко от вражеской столицы. Цель другой группы – аэрофотосъёмка турецких артиллерийских батарей. Обе задачи были выполнены. Отбомбились удачно, практически уничтожив главный источник питьевой воды. Турки, конечно, стреляли с земли, но домой авиаотряд вернулся почти без потерь.
«Почти» – это значит, что ещё в воздухе не досчитались одного аэроплана. На земле ждали до вечера. Утром экипаж гидросамолёта в составе лейтенанта флота Сергеева и унтер-офицера Тура был объявлен пропавшим без вести. Хотя все прекрасно понимали: когда топливо кончается, морские волны не оставляют ни шансов, ни следов.
И кто мог подумать? Ведь всего лишь сутки назад ещё ничто не предвещало…
– С Богом! – штурман Феликс Тур, он же наблюдатель и бомбардир, привычно перекрестился, когда корабельный кран снял с палубы их летающую лодку «М-9». Крюк подъёмника ушёл вверх, и «девятка» закачалась на морской воде. Чем хороша эта новая машина – взлетает легко и садится аккуратно, словно гость в незнакомое кресло. Лишь бы стропальщики на спецкорабле не подкачали, а уж пилот – флотский лейтенант Сергеев – дело своё знает.
Они сидели в тесной кабине рядом, плечо к плечу. Оба молодые, почти ровесники. Оба из семей священнослужителей. Летают вместе недавно, но что сразу подружились – нельзя сказать. Оба субординацию держат, она мужскому уважению не помеха.
– Штурман, сколько до цели?
Берег турецкий виден уже. Гористый, лесом покрытый. Оттуда, с вершин холмов, и открыли по ним огонь пулемёты. Совсем рядом, справа и слева, рвутся зенитные снаряды, от осколков жалобно трещит фанера плоскостей.
– Снимай! – кричит пилот Сергеев своему подчинённому. – И крепче держись, сейчас вправо возьму!
Послушная машина пикирует, уходит с разворота в ущелье, поплавками шасси почти касаясь верхушек сосен. Позиции турецких артиллеристов – как на ладони. Наблюдатель Тур не успевает менять пластины на фотоаппарате. Ещё один разворот, снизу снова стреляют, от крыльев летят мелкие щепки, но это не страшно.
Страшнее, что течёт топливный бак и перебиты рулевые тяги. Хорошо ещё, что Сергеев успел набрать высоту к тому моменту и сейчас, перевалив через вершину горы, уводит самолёт в открытое море.
Плюхнулись на воду совсем не аккуратно. Вылезли оба из тесной кабины.
– Штурман, к бензобаку! Заделать дыры! А я займусь рулями…
Берег совсем рядом, практически на виду у врага чинят летуны свой подбитый самолёт. И без бинокля видно, как от причала отвалила шхуна береговой охраны, на палубе – полтора десятка человек в красных фесках, в плен хотят взять русских. Шхуна парусная, приближается быстро.
– Командир, дыры заделаны, можно заводить!
– Штурман, трави трос потихоньку! – командует Сергеев унтер-офицеру, залезая в кабину. – Как мотор схватится, отпускай – и рванём! Авось, оторвёмся!
Не подкачала «девятка», словно лебедь или какая другая водоплавающая птица, оставляя за собой усатый след, гидроплан оторвался от морской глади – счастье, что штиль был! – и стал тяжело набирать высоту.
А сзади внизу – шхуна с кричащими турками, они стреляют из винтовок, кулаками трясут, злые. Чихает, кашляет мотор раненого аэроплана. Нет, не уйти летунам. Уже и берега не видно, а всё равно не дотянуть до своих, придётся опять садиться.
– Что там, штурман?
– Всё! Почти сухой бак!
Приплыли. Летающая лодка покачивается на морской волне, белые паруса турецкой шхуны всё ближе – шансов у русских никаких.
– Штурман, к пулемёту!
Сергеев попытался завести мотор, и – о, чудо! – пропеллер крутанулся. «Девятка», дымно стреляя остатками вонючего топлива, поползла по воде. Да всё быстрее, быстрее. И не от турецкого берега, а наоборот, навстречу вражеской шхуне.
Турки уже близко, целятся с палубы из винтовок.
– Давай, штурман, поверх голов!
Две короткие очереди, потом ещё одна. Османов – как корова языком слизала. Они с противоположного борта пытаются спасательную шлюпку спустить.
– Штурман, идём на абордаж!
Как раз и мотор заглох, когда гидроплан ткнулся носом о чужой борт. Русский лётчик успел выскочить на крыло. С револьвером в руке, крича и ругаясь, перебрался на палубу судна.
– Прикрывай, штурман!
Пулемёт штурмана дырявил паруса, лётчик редкими выстрелами гонял кричащих турок. Вид его был, наверно, ужасен, раз прыгали в воду враги, не оказывая сопротивления. Винтовки, правда, они не бросали. Переполненная шлюпка, подбирая своих товарищей, отвалила от борта, пошла на вёслах прочь. Османам вслед наши летуны не стреляли, патроны берегли…
Два русских воина молча стояли на палубе. Они только что пошли на таран и в коротком бою победили, захватив вражеское судно. Вдвоём против полутора десятка вооружённых турок. Немыслимо.
– Мы словно пираты прошлого века, с кортиком в зубах, берём врага на абордаж, – тихо сказал Феликс Тур.
– Тогда не было гидропланов, – усмехнулся Михаил Сергеев. – Наш, кстати, придётся затопить и на парусах уходить с этого места. Они вернутся на катерах – тогда в плен попадём. Надо всё, что только можно, скорей переносить на борт.
Они быстро перетаскали с гидроплана на шхуну пулемёт, фотоаппарат с пластинами, компас, документы и карты. Посмотрели, как уходит на дно родная «девятка», и взяли курс на Севастополь.
– Всё! – выдохнул Сергеев. – Отдаёмся на волю попутного ветра и волн. Вы, Феликс Варламович, спуститесь вниз и посмотрите, не осталось ли там кого, есть ли продукты, вода, тёплая одежда. И поищите оружие, а то у меня в револьвере осталось всего два патрона. А я пока за штурвалом постою и с парусами разберусь…
Интересно, что на земле они общались на «вы» и по имени-отчеству, а в воздухе, в боевой обстановке Сергеев был с подчинённым на «ты» и называл его исключительно «штурман». Так повелось в их экипаже: не дружили, но по-мужски искренне уважали друг друга.
Примерно через час Феликс поднялся наверх. За это время почти ничего не изменилось: никто их не преследовал, море было бескрайним и спокойным, ни дымка, ни точечки на ровном горизонте. Только паруса издавали не шаркающие звуки, как раньше, а какой-то тихий шелест. Они безвольно провисли – штиль. Шхуна мирно дрейфовала под закатным солнцем. Уже без турецкого флага на мачте.
– Каков улов? – устало поинтересовался Сергеев.
– Армейская фляжка с водой, початая бутылка вина, кусок сыра и сухарь. Оружия нет. Полно подушек и одеял.
– Негусто.
– Как думаете, Михаил Михайлович, надолго мы встали?
– Полагаю, что нет. Зыбь свежая, а такое бывает при смене ветра. Если паруса начнут хлопать, к утру, возможно, поймаем ветер. Остаётся ждать и надеяться. Всё равно нам с вами придётся всю ночь в четыре глаза смотреть, нет ли погони. Так что несите одеяла и подушки прямо сюда, на мостик…
Только что было светло, но в одно мгновение темень накрыла весь окружающий мир, словно свет погасили в маленькой комнате. И совсем не мартовский холод заставил обоих закутаться в толстые одеяла из верблюжьей шерсти, прижаться спинами и вести долгий разговор, чтобы не уснуть.
– Вы и корабельное дело знаете, Михаил Михайлович?
– Так я же морской кадетский корпус окончил, до мичмана дослужился. А как первый раз полетел пассажиром на аэроплане, так и заболел небом. Первый в России военлёт Сева Абрамович меня учил летать. Вы же тоже не случайно в корабельном отряде оказались, Феликс Варламович?
– Отнюдь. Я сын приходского священника, и сам готовился служить Богу. Но вот призвали и приставили к гидропланам. Хочешь – не хочешь, а летать пришлось.
– Ой, что же это я! Давай-ка, штурман, принимайся за дело! Вот тебе карта, компас, хронометр! Вот тебе Полярная звезда. А эта штука называется лаг – определяй по ней скорость шхуны и рисуй, где мы находимся. А то, не дай Бог, к туркам нас за ночь отнесёт…
Штурман ушёл в рубку прокладывать курс на карте. Вернулся, когда уже светало.
– Дрейфуем точно на Крым. Скорость – две мили в час.
– Молодец, штурман! Стало быть, до родного Севастополя осталась ровно тысяча морских миль. Это пустяки, ведь дорога домой всегда короче. Благодарю за службу, кормчий!
– Рад стараться, да только еды-то у нас совсем нет…
– Кормчий – не от слова «кормить», а от слова «корма». А на корме у нас что находится? Правильно – штурвал. Кормчий – это и есть штурман, рулевой, специалист по навигации. А тот, кто кормит, это – кок. Вопросы есть, кормчий?
– Никак нет! Хотя… Можно спросить про Севастополь? Почему он для вас родной?
– Так он для всех, наверное, родной. Город русской славы. Город ста одного имени.
– Как это?
– Ну, Сева-сто-Поль. Когда мой инструктор Сева Абрамович погиб, я сказал себе, что сына назову в его честь, а если дочь – то Полиной. И сам проживу сто один год…
Солнце показало свой улыбающийся глаз. Стало теплее. Сергеев расписал вахты по четыре часа и отправил штурмана вниз – нормально поспать в кубрике. Сам ещё раз обошёл всё судно, проверил такелаж, в грузовой трюм спустился. Хотел половить рыбы, но не нашёл снастей – шхуна явно не промысловая была.
Когда Феликс пришёл его сменять, лётчик чистил тряпкой свой наган.
– Вот, порядок, – крутанув барабан офицерского револьвера, он хмыкнул. – Два обязательных патрона осталось.
– Почему обязательных?
– Потому что из пулемёта никак не застрелишься. Или у тебя мечта о плене есть, штурман? Приказываю и тебе следить за пулемётом!
– В нём тоже патронов на одну очередь осталось.
– Тем более. Беречь для последней схватки!..
Всё съестное разделили на несколько частей – каждому досталось на день по крошке сухаря и по три глотка воды.
– Пока силы есть, можно и потерпеть. Больше лежать надо, Феликс Варламович, скоро поймаем ветер, – командир знал, что и как приказать подчинённому.
Вторая ночь прошла так же. Ни огонька вокруг на горизонте, лишь звёзды в вышине перемигиваются. Менялись вахты, внизу было намного теплее, сон в кроватном гамаке являлся сразу. Обоим снились дом, друзья, родные…
Днём они очень надеялись, что увидят гидроплан – должны же их искать, должны же летать к турецким берегам их боевые товарищи, война же идёт. Но никто не летал.
Очередная безветренная ночь тянулась уныло. Шли четвёртые сутки их дрейфа. У штурвала бодрствовал Феликс Тур. Он и заметил, что привычный тихий шелест парусов исчез, они вдруг захлопали, затрепетали. Шхуна закачалась с боку на бок. Тут же поднялся из кубрика Сергеев.
– Похоже, ветер поймали, господин лейтенант! – улыбаясь, доложил вахтенный.
– Рано радуешься, кормчий! На небе звёзд не видно – значит, шторм идёт. Всё, что может с палубы смыть, срочно вниз! И задраить иллюминаторы!
Потом они, привязав себя к рубке, оба молились, чтобы судёнышко выдержало звериный напор стихии, чтобы очередная гигантская волна не опрокинула, не перевернула шхуну. Измождённые, промокшие насквозь, смотрели, как рвутся неубранные паруса, и молились.
Наутро шторм стал стихать. А пополудни Тур, снова стоявший на вахте, увидел корабль.
– Это же наш! Михаил Михайлович, это же русские! Сергеев разрешил дать в небо очередь из пулемёта.
Но на корабле, похоже, посчитали парусник вражеским, выстрелили из орудия и быстро удалились, как их и не было.
– Зато мы знаем теперь, что идём правильным курсом! За дело, штурман!
И целый день они, как могли, чинили паруса. Чем лучше это получалось, тем быстрее шла шхуна. Шла домой, в родной Севастополь…
На седьмые сутки у западного побережья Крыма катер российской погранслужбы обнаружил странную шхуну без опознавательных знаков. Такелаж её был в плачевном состоянии, судно рыскало на волне. Пограничники решили, что экипаж давно покинул корабль, но когда поднялись на борт, увидели двух человек в лётной форме. Они были крайне истощены и слабы, но один из них держал в руке револьвер. Он назвался лейтенантом Сергеевым из корабельного отряда.
Уже к вечеру отпоенные куриным бульоном летуны оказались среди своих. Вычеркнутый из всех списков, но воскресший из мёртвых экипаж гидроплана привёл себя в порядок и доложил о выполнении приказа в штабе. Полковник выслушал подробный рапорт, а фотопластины, бегло просмотрев, бросил в корзину.
– Это теперь не имеет ценности. У России больше нет царя, а у нас нет России. И турецкий Константинополь улыбнулся нам. Впрочем, господа авиаторы, ваш подвиг будет отмечен высокими наградами. Свободны!
Награды вручал лично командующий Черноморским флотом вице-адмирал Колчак.
– На линкоре «Георгий Победоносец» нас провели в каюту командующего. Я увидел перед собой низкого роста брюнета с орлиным носом, короткой стрижкой, с очень энергичными и волевыми чертами лица, – вспоминал поз же Михаил Сергеев. – Он поздравил с выполнением задания и заставил подробно рассказать о таране и пленении вражеской шхуны. Он сказал тогда: «Молодцы, не опозорили русский флот!» Интересно, что впоследствии, во время Гражданской войны, мне пришлось сражаться против адмирала Колчака на Восточном фронте…
Лейтенант Сергеев был награждён золотым Георгиевским оружием, а унтер-офицер Тур – Георгиевским крестом 4-й степени. Таран русским аэропланом вражеского судна так и остался в истории мировой авиации единственным подобным случаем.
Автор (из-за кулис): Исполнится всё, о чём мечтали на захваченной шхуне русские авиаторы. Феликс Тур станет священником и всю жизнь прослужит Богу. Михаил Сергеев пойдёт добровольцем в Красную армию и через десять лет, уже в генеральском звании, дорастёт до заместителя командующего всей авиацией РККА. Он обещал прожить 101 год, и это у него почти получилось…
Болгария: «Только слепому не было очевидно…»
«По Лондонскому мирному договору 1913 года Османская империя, проигравшая войну Болгарии, Сербии, Черногории и Греции, теряла все свои европейские владения, кроме Константинополя и небольшой части Восточной Фракии. Однако поделить территории, отторгнутые у Турции, страны, входившие в Балканскую коалицию, должны были сами, что оказалось крайне проблематичным, так как каждая из сторон желала получить как можно больше. По итогам этого дележа Болгария, почувствовала себя обделённой Сербией, претендовавшей на Македонию, и меньше через месяц после подписания мира, вспыхнула Вторая Балканская война, в ходе которой православные Сербия, Черногория и Греция сцепились с православной Болгарией…
Поражение Болгарии в этой войне неизбежно способствовало её дальнейшему сближению с австро-германским блоком (при помощи которого болгары рассчитывали на реванш), так как российская дипломатия сделала свой выбор в пользу Сербии. „Болгарское поведение объясняется не одними кознями Фердинанда, – писала в 1915 году газета „Колокол“. – После братоубийственной бойни 1913 г. нам предстояло выбрать или Болгарию, или Сербию; здесь компромисса не найти, и Австрия знала это. Дипломатия наша встала на сторону Белграда – это диктовали интересы России; с того момента Болгария выступила против нас, сначала тайно, ныне же и явно“».
Андрей Иванов, доктор исторических наук, портал «Русская народная линия», 21.10.2015
Картина 5-я. Качели царя Болгарии по прозванию «Лис»
Действующие лица:
• Фердинанд I (1861–1948) – князь Болгарии (с 1887), затем – царь Болгарии (основатель Третьего Болгарского царства, с 1908-го по 1918 г.), представитель Саксен-Кобург-Готской династии. В дипломатических кругах имел прозвище «Лис».
• Александр II (1818–1881) – российский император (1855–1881), в русской и болгарской историографии удостоен эпитета «Освободитель».
• Александр III (1845–1894) – российский император с 1881 г. За все годы его правления Россия не участвовала в войнах, за это он получил негласный титул «Миротворец».
• Николай II (1868–1918) – последний российский император. Получил прозвище «Страстотерпец».
Место действия – Болгария.
Время действия – первая половина XX века.
Автор (из-за кулис): Царств у болгар было три. Первое существовало с VII по XI век. Спустя триста лет после образования булгарскими, славянскими и фракийскими племенами охватывало оно большую часть Балканского полуострова. Но потом государство разделилось на две части и вскоре было завоёвано Византийской империей. Второе Болгарское царство просуществовало двести лет – с 1185-го до 1396 года – и попало под долгое владычество турок. Третье Болгарское царство было провозглашено в 1908 году, когда князь болгар Фердинанд I принял титул царя и объявил полную независимость от Османской империи.
В 1879 ГОДУ первым князем Болгарского княжества стал 22-летний сын Гессен-Дармштадтского принца. Звали этого представителя немецкого рода Александр фон Баттенберг, он приходился племянником супруге российского императора Александра II. Болгарское княжество в ту пору официально оставалось в составе Османской империи.
Русский царь благоволил племяннику своей супружницы. Дал ему генеральский чин, приблизил в себе во время русско-турецкой кампании, орденом Святого Георгия наградил. Тогда турок и с перевала Шипки сбросили, и Плевну взяли, и автономию болгарам принесли согласно договору. «Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань, княжество, – говорилось в том договоре. – Оттоманские войска не будут более находиться в Болгарии».
– Пусть племянник начинает княжить, – сказал жене Александр II Освободитель. – Молод? Это у всех бывает, да быстро проходит…
Но в конечном счёте всё получилось не в пользу русских. На Берлинском конгрессе европейские державы по-своему перекроили итоги той войны. Богатые земли Балканского полуострова отошли – кому что. А коли император России хочет на Болгарию своего человека поставить – так пусть его, границы уже передвинуты, всё утверждено и подписано.
Вот так молодой немец стал первым князем Болгарского княжества.
Начал Александр Баттенбергский круто. За два года неоднократно менял правительство, а когда его покровитель Александр II умер, решился на переворот. Кризис власти в стране разрастался. Император Александр III, «мужчина вельми суровый и властный», был крайне недоволен.
– Принц Александр Баттенбергский – враг России, и покуда он будет там царствовать, его влияние всегда будет для нас враждебно, – заявил царь. – Его прогонят непременно рано или поздно. Поддерживать его в достижении объединения Болгарии под его скипетром… значило бы награждать его за все его поступки, которые заслуживают не поощрения, а наказания. Впрочем, интересы России в настоящее время требуют, чтобы мы воздержались от вмешательства в дела Балканского полуострова, покуда там не возникает вопросов, более прямо нас касающихся…
С каждым днём всё сильнее князь Болгарии стремился выйти из-под влияния Дома Романовых. В собственном доме тоже начались проблемы. Дело дошло до вооружённых конфликтов, и Александр Баттенбергский был свергнут. Ему просто продиктовали текст отречения, повезли на пароход и высадили на берег в Бессарабии: «Иди куда хошь, ты свободен».
Князь отправился в Вену, но по дороге получил от оставшихся своих сторонников приглашение вернуться. Ступив на болгарскую землю, первым делом отбил в Санкт-Петербург телеграмму: так, мол, и так, я всё понял, разрешите… Ответ Александра III Миротворца был мгновенным: «Ничего, кроме порицания». Пришлось ему вторично, уже добровольно, отречься от княжеского венца. В прощальном воззвании к болгарскому народу от 8 (20) сентября 1886 года Александр Баттенберг выражал надежду, что его отъезд из страны поможет восстановить добрые отношения с Россией.
Весь следующий год болгары жили без верховного правителя. И тут-то на авансцене истории болгарского государства появляется ещё один молодой человек – ставленник Австро-Венгрии, 26-летний князь Фердинанд, представитель Саксен-Кобург-Готской династии. О нём и пойдёт ниже речь.
Фердинанд был сыном австрийского князя и французской принцессы. Среди дальних предков его были и цари Второго Болгарского царства, то есть как претендент на трон – кандидатура очень даже подходящая. А мнения Александра III Миротворца на этот раз никто и не спрашивал. Отказалась признавать и Великая Порта (Болгария по-прежнему считалась «условно-независимой»).
Фердинанд же мигом собрался в дорогу и, ступив на болгарскую землю, обратился к народу с пылким воззванием:
– Считаю, что протесты держав направлены не против моей личности, а лишь против формы избрания, а посему решил приехать в страну, надеясь, что ввиду совершившегося факта державы откажутся от своих возражений. А я обязуюсь посвятить свою жизнь благу болгарского народа.
И начал править. Первое время ещё ворчал: «Ну и дыра тут у вас!» Костерил придворных за нерасторопность, но немец есть немец – порядок превыше всего. И всё постепенно заработало. Страна начала строиться, преображаться. А Фердинанд всё чаще задумывался о полной независимости этой богатой земли и, разумеется, о своей полной власти в стране.
Думали об этом и его родители. Выбрали ему невесту – итальянскую принцессу Марию-Луизу Бурбон-Пармскую, и всё очень быстро решилось: первая встреча в день обручения, скорая свадьба и – рождение наследника ровно через девять месяцев.
Фердинанд искренне мечтал восстановить добрые отношения с Россией. Понимал, что без этого ему не стать сувереном. Соглашался даже перейти в православную веру, что выбешивало жену-католичку. И не было бы счастья, как говорится, да помогла немцу неожиданная кончина русского царя Александра Миротворца. Выждав траурный год, обратился он к новому царю Николаю II «с верноподданейшей просьбой стать крёстным отцом наследника – княжича Бориса».
Русский царь согласился, и это сильно не понравилось Европе. Зато стало для Фердинанда первой ступенькой в лестнице, ведущей вверх, к трону. К своему трону, разумеется, – болгарскому.
– Запад объявил мне анафему, – заявил князь Фердинанд своим министрам. – Но заря с Востока озаряет свои ми лучами мою династию и наше будущее!
14 февраля 1896 года, через несколько дней после крещения княжича, Болгария и Российская империя подписали мирный договор с установлением дипломатических сношений. А ещё две недели спустя легитимность Фердинанда I как князя Болгарии признали османы и все великие державы.
В конце января 1899 года, сразу после тяжёлых родов четвёртого ребёнка, скончалась супруга Фердинанда I. Князь поблагодарил русского царя за соболезнование, но особо – за приглашение участвовать в международной конференции мира в Гааге. Сам не поехал, но делегация Болгарии там поприсутствовала, вопреки несогласию Турции.
…Впереди было ещё много лет, всяких бед и маленьких побед. Путь к трону для Фердинанда I только начинался. Это был период, когда он, не обращая внимания на недовольство австро-германских сородичей, искусно, по-лисьему медлил, выжидая нужного момента. Он знал: пройдёт русско-японская война, закончится ничем революция, и о нём обязательно вспомнят в Санкт-Петербурге. Занимался внутренними государственными делами, Написал книгу об успехах своего княжения за двадцать лет, послал её в Россию.
В ответ Николай II наградил болгарского князя орденом Андрея Первозванного – высшей наградой Российской империи. На открытии в Софии памятника Александру II Освободителю бриллиантовые знаки этого ордена вручил Фердинанду великий князь Владимир Александрович. Его в поездке на Балканы сопровождала супруга – великая княгиня Мария Павловна. Стоит ли удивляться, что всего через полгода князь Фердинанд обвенчается с её родственницей – принцессой германского княжества Рейсс-Кёстриц?