Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза
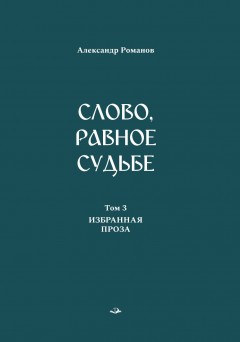
Издание осуществлено благодаря государственному гранту Вологодской области в сфере культуры
© Романов А. А., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
18.06.1930 —05.05.1999
«Через слово – жизнь!»
«Дивлюсь мудрости жизни, для большинства живущих не понятной вовсе. Да и мне открылась она, наверно, лишь потому, что никогда я не опережал «самого себя», то есть не нёсся в житейском потоке сломя голову. Я жил и живу так, как думал и думаю: мысль моя возникала как удивление каждодневной новизной мира. Ничего не повторялось и ничего не терялось – вот диво-то! – и становилось совестью…»
Это, на мой взгляд, одно из самых глубоких размышлений А. А. Романова. Он «дивился мудрости жизни», а нам впору удивиться мудрой прозорливости самого писателя-философа, который кратко, несколькими словами – «всё становилось совестью» – объял судьбу всечеловеческую, прозрел высший нравственный смысл всех радостей и скорбей быта и бытия человека. Это уже какая-то иная, метафизическая, небесная высота мысли… И, чтобы подняться на эту высоту, понадобилась вся его земная жизнь, его земные радости и скорби…
Писатель родился в далёкой деревне Петряево 18 июня 1930-го, «переломного»[1] года, а ушёл из жизни в Вологде 5 мая 1999 года, когда, после развала огромной страны Советов, уже сама Россия вплотную подошла к черте, за которой мог начаться ещё более великий «перелом» всей её государственности.
Он, безусловно, очень сильно переживал, вспоминая те, давние, «грозовые» и предчувствуя надвигающиеся роковые события в будущем: «Русский народ – судьба моя! – выстоит ли он в ХХI веке?..»
- Дожить бы до двухтысячного года
- И с высоты веков взглянуть на Русь!
- – Душа болит: разлад среди народа.
- Я разнопутья нашего боюсь…
Писатель не дожил до этого срока ровно один год, ушёл, не застав время нача́ла возрождения своей любимой Родины. Но сделал самое главное: за свою трудную и счастливую жизнь, он, «удивляясь каждодневной новизне мира», создал более 20 полноценных художественно-философских книг стихов и прозы.
Он много сделал в советской и российской журналистике. Изъездил с командировками чуть ли не полстраны. Стал лауреатом Премии имени А. Яшина, был награждён Орденом «Знак Почёта». Много лет, переняв в своё время эстафету из рук А. Яшина и С. Викулова, работал ответственным секретарём Вологодской писательской организации, подняв её – вместе с друзьями и творцами-единомышленниками – на очень высокий художественный уровень, что привело к появлению в советской литературе такого мощного самобытного феномена, как «вологодская школа»[2]. Сейчас трудно сказать точно – есть она, эта «школа», или её нет, но одно было ясно: «…И по миру катится молва, / Что за вологодскими лесами / Вырастают спелые слова…» Так, восхищаясь глубиной родного языка, утверждал А. Романов.
Долгое время он был активным участником редколлегии журнала «Север», членом Ревизионной и Приёмной комиссий Союза писателей СССР. Дал дружеское напутствие многим современным российским поэтам, прозаикам и журналистам, детально, с подробными пояснениями разобрав их «пробы пера».
И всё же главным было его литературное творчество, страстное желание мудрым русским Словом утвердить Жизнь. И учителя-наставники, и друзья – поэты, музыканты, художники, и читатели из разных уголков России высоко оценили это творческое устремление автора, почувствовав в его лучших художественных произведениях щедрое тепло его души и свет утверждающей мысли.
Вот как сам писатель, прислушиваясь к себе, объяснял возникновение этого загадочного и всеохватного предощущения творчества:
«…Лишь в душе, лишь в ней одной, да и то как-то в тайне, невыразимо, тлеет всё же грустный обогрев надеждой… И когда занимаешься поэзией, когда вдруг почувствуешь ещё не словом, а каким-то тайным и немым веяньем её приближение к моей душе – вот тогда озаряешься наитием, что есть, есть, есть сила для радости и надежд не только в твоей исповеди, а и вообще в самом вечном круговороте жизни. Может быть, поэтому и в стихах у меня так много света…»
- …И почувствую, что сам
- Переполнен весь любовью
- К людям,
- к миру,
- к небесам.
Именно это, идущее из детства, светлое и доброе чувство, несмотря на все жизненные тяготы и потери, целиком охватило его, стало его глубинным «внутренним зрением» и определило сущность всего творчества. «Я, – признавался писатель, – из сугубой прозы жизни, окружавшей меня, стремился извлечь и закрепить в слове лишь самое её сияние, ибо и в тяжести дней, и в горе, даже в смерти самой всегда таится свет исхода, свет смысла, как самое последнее утешение, именуемое Поэзией…»
- …На себя взгляну иначе,
- Подведу в душе черту:
- Всё, что важно, обозначу,
- Что не важно – отмету…
Самое главное, оказывается, извлечь и закрепить в художественном слове само «сияние жизни»! Но не означало ли это некое «искажение» действительности, состоящей, конечно, не только из «сияния»? Изображение лишь светлой стороны жизни не показывало ли определённую выборочную «однобокость» взгляда писателя?
Думается, что – нет. А. Романов признавался: «Меня слишком крепко держит неисчерпаемый материал моей деревни, то есть самая что ни на есть реальность. Если бы этого материала не было, я быстрее бы пришёл к воображению как к художественному методу».
Как же так: он не «сочинял» русскую действительность, не «воображал» её, а – его творчество переполнено светом и теплом души?.. Писатель, рождённый в русской деревне и знавший её не понаслышке, глядел в самый корень народной жизни, где, конечно, были не только весёлые праздники и шумные хороводы. Однажды его землячка, Нина С., спела частушку (откуда только и вытащила?), смысл которой потряс его:
- Не всё горе переплакать,
- Не всё – перетужить:
- Половину надо горюшка
- На радость положить.
В сущности, с какого-то момента творчество писателя и стало представлять собой не «стилизацию» (под фольклор), не «лубочное», «в картинках» выдумывание крестьянской, деревенской жизни, не «воображение», а «переложение» народного горя на радость… Глубинное стремление «извлечь и закрепить в художественном слове лишь самое сияние жизни…»
Черпая в прошлом утешение и деля свою радость с читателями, писатель, собственно, продолжал выполнять и великий пушкинский завет: «лирой» пробуждать «чувства добрые»… И то, что в памяти его держался неизжитый, неисчерпаемый (без преувеличения!) «деревенский материал», привело в итоге к тому, что «деревня» писателя часто разрасталась до масштабов всей России, а её огромная география начинала «вплетаться» в сложную многовековую историю русского народа: «Вот что такое Русь: сколько деревень в ширь земли – столько родов в глубь времён».
Поэтому в своём творчестве А. Романов сознательно «отметал» всё наносное, мельтешащее, вскипающее «на злобу дня» и с любовью и тревогой вёл, начиная с военных лет, свою более чем полувековую «лирическую летопись» Родины, ткал – по слову, по строчке, по образу – удивительный художественный холст. Летописец-романтик, ещё в юности покрыв ткань этого холста скромными северными красками, взрослея, «то дальше, то ближе двигая свет», в самую сердцевину его поместил «одно на свете чудо» – родной, многовековой, многоликий и разноголосый Русский Север!
И – ожили, заходили, заокали земляки-северяне, застучали их острые топоры, запели деревянные дроги… На художественном полотне – щедростью душевного тепла автора – возник лик иконописца Дионисия, стали проступать лица и дела даровитых его земляков – мастеров, сельских и городских учителей-«подвижников», врачей-«фершалов», художников, поэтов, артистов, монахов и даже «божьих людей»…
В основании холста возник, укоренился и вырос образ далёкого и легендарного деревенского «предка», от хмельной, неистовой работы которого «брызгали испуганные щепки, / Шлёпались в озёра и моря…» Безымянный предок-лесоруб творил чудо – доставал рубленый, пиленый, колотый и струганый «клад», а за его спиной открывалась дорога к свету: «И где стыли сумерки сырые, / Как подвалы вековые, там / Синь и солнце хлынули впервые / По его размашистым следам»!
Откуда-то, видимо, из маминых рассказов, на холсте возник и никогда не унывавший петряевский плотник-философ Еня с его мудрой присказкой: «А жить-то, робята, не худо! / Добро, что родились на свет!»
Стали проступать строгие лица и удивительные судьбы совершенно, казалось бы, не знаменитых, «простых» русских людей – скромных и верных матерей-вдов, трудолюбивых устроителей-пахарей и суровых воинов-ратоборцев…
- …И есть чему дивиться —
- Как из былых веков
- Возникли смутно лица
- Солдат и мужиков.
- Суровы, бородаты,
- Ни знаков, ни наград,
- Ни имени, ни даты —
- Как вечные глядят…
Автор-летописец, дыша полной грудью, «умывался туманами Севера»… И Вологда становилась уже не просто «точкой на карте», а, как и полагается, «Северной Фиваидой» – «Воротами Севера», за которыми – Русь истинная!
Он, любуясь, живописал самую обычную, казалось бы, реку Сухону, а по ней издалека, из сырого, клочковатого тумана медленно надвигаясь, появлялись паруса атамана Дежнёва… И возникала «истории русской строка»!
Он вглядывался в одинокую фигуру П. Засодимского на высоком берегу родной Двиницы, и уже современный читатель начинал задавать себе тот же вечный русский вопрос, тревоживший обоих писателей: «…Как на путях разрух, / Не растерять в развитии России / Народный облик и народный дух…»?
Тут же, исторически близко, на холсте возникали тревожные и мощные, уходящие в вечность судьбы А. Яшина и С. Орлова, Н. Клюева и А. Ганина, а ещё ближе, рукой подать, – набирающее силу русское жизнетворчество Н. Рубцова и С. Чухина, О. Фокиной и В. Белова, В. Юровских и В. Коротаева…
И все эти неповторимые образы, судьбы, лица и лики творцов-устроителей Русского Севера и Руси, множась, откликаясь и перекликаясь друг с другом, оживали в творчестве автора-летописца…
- …Я – искатель своих родословий
- И туда сквозь века проберусь,
- Где на пашне Микула весёлый
- Обнимал краснощёкую Русь…
Однако, по мере продвижения в глубь русской истории и культуры, писатель всё больше начинал ощущать сложность полноценного воссоздания жизни словом. Так, его очень тревожила «полуправда» – неверные, неточные, «приблизительные» оценки и характеристики судеб его знаменитых современников. «Потрясающий факт, – восклицал он, – великие люди, ушедшие от нас, Твардовский, Яшин, Шукшин, Рубцов и другие, в нынешнем общественном мнении, после них, совсем не такие, какими они были в жизни на самом деле… Яшин был не только резок, но и нежен; Твардовский – не только патриотичен, но, прежде всего, трагичен; Шукшин – не только социален, а философски взрывчат; Рубцов – не только классически свеж, но и жутко одинок и бездомен.
…А ведь с годами эти истинные черты великих людей всё больше и больше станут ускользать в небытие (не будет очевидцев), и на десятилетия, столетия, может, останутся вот эти искажённые временем и общественным мнением великие горькие характеры и судьбы»[3].
То же тревожило его и в судьбах «простых» людей: он стремился «успеть записать о 20–30-х годах всё, что возможно, непосредственно от самих очевидцев: матерей, бабушек, дедушек. Этот материал надо получить из первых рук и составить объективную, насколько это можно, картину жизни тех лет. Через какой-то десяток годов это всё уйдёт из рук, и боюсь, что всякие несуразности и приукрашивания станут выдаваться за подлинное и оспорить будет нечем… Вот поэтому сейчас так привлекают меня мемуары деревенских пенсионеров. Пусть они безграмотны с литературной точки зрения, но дух, атмосферу, детали, даже живые голоса «оттуда» можно почувствовать и услышать, и это всё меня очень волнует…»
Вдобавок к тому, утверждаясь в своём творчестве, писатель всё более ощущал на себе сильное воздействие двух очень разных и мощных потоков – «внешнего», «городского», «книжного» и «внутреннего», «просторечного», «народного».
«Лишь подопру голову ладонью да прикрою глаза на какие-то минуты, как перед внутренним взором оживут в лицах минувшие годы. Они словно этих минут и ждут, чтоб возникнуть из забвения и жаркой явью вновь пронестись в моём сознании. И вот уже два потока жизни – внешний, несущий раздумья, и внутренний, обнажающий память, – сталкиваются во мне и надолго лишают душевного покоя…»
Да, он много учился. Восхищался удивительным, захватывающим дух, «космическим» мироощущением С. Орлова[4], а мудрому совету А. Яшина – создавать свою «лирическую философию»[5] в стихах и прозе – следовал всю жизнь. И, уже определившись в главном направлении в своём творчестве, он особо подчеркнёт глубочайшую внутреннюю близость к Н. Клюеву и С. Есенину[6], а затем – к А. Твардовскому.
Да, он очень много читал, вчитывался в «древние страницы», постигал «книжную премудрость», много занимался самообразованием, собрал хорошую библиотеку, оставив её детям и внукам. И всё же, признавался, «книги – отблеск жизни, но жизни чужой, а не твоей. Легко и любопытно читать чужую жизнь, но трудно и заманчиво делать свою – единственную и неповторимую»
Поэтому подлинную «летописную» силу обретал лишь на родной земле! И, восклицая: «Стихи в деревне я пишу, / А прозу… в городе!», в родную деревню приезжал, как образно говорила его мама, «что прежняя старуха с куде́лей[7], чтоб лишний моток напресть [напрясть]». На родине он, и в самом деле, «прял» в своих записных книжках целые и цельные «мотки» деревенских разговоров, былей и небылиц, головой и сердцем уходя в прошлое:
- …Я – писец опустевшей деревни,
- Но лари моих дней не пусты:
- Чем древнее слова, тем согревней,
- И стихи ткутся, будто холсты…
А в «ларях» и «коробах» этих чего только не было: и сбивчивые, полушёпотом, рассказы мамы о прошлом, и живая и образная устная речь земляков, красноречивой родни, общительных соседей, и житейские наставления, обычаи и нравы… Целый и цельный мир древних духовных традиций, деревенских легенд, народных примет, крепких трудовых и семейных устоев, замечательного корбангского «говорка», русского фольклора как «самоистины»!
- Всё мне дали эти дали —
- Ширь ума и жар души.
- Провожая, наказали:
- Только мудрое пиши.
Так этот сильнейший «внутренний поток», эти «дней минувших человечьи лица», весь этот шумный трудовой деревенский мир с его многовековым и мудрым житейским и нравственным укладом завладел писателем целиком. Он, душой «проживая» это прошлое вновь и вновь и чутко слушая себя в эти минуты, приходил иногда к совершенно удивительным мыслям: «Пережитое – для поэта неизжитое. Оно всегда в нём и с ним… Гулы минувшего лишь усиливают сегодняшние откровения поэзии и обостряют предчувствия будущих»[8].
Так, прошлое – в его жизнетворчестве – стало определять настоящее и даже грядущее. Вот – один из его ответов на вопросы корреспондентов областной газеты: «Да, мы верим в своё победное будущее, но зачем же его представлять так сказочно? Вот ребята, подрастая, и ждут, когда такая жизнь наступит. Им долго невдомёк, что будущее – это сегодняшний упорный труд»[9].
Так многообразное, многоликое и многоголосое прошлое Родины стало для него высшим, непререкаемым судьёй. «…И деревенские люди тех лет, встающие в памяти, – писал он, – смотрят на меня, теперешнего, строго и взыскательно. Будто говорят они: «Ищи слово, равное своей судьбе. Только таким словом сможешь рассказать и о нас!»[10]
И сначала робко, а затем всё увереннее сильные народные характеры, удивительные жизненные пути и лица «обычных» и знаменитых людей, сохранённые лишь в памяти старожилов яркие образы и меткие «словечки», выразительные приметы родного края или пропущенные по лености, по нашей забывчивости страницы истории большой страны, и вправду, начинали словно бы оживать…
Вот, например, какая удивительная запись сохранилась в блокнотике писателя:
«Павла, возвращаясь с покоса, остановилась передо мной и вскинула огнетённое усталостью лицо, и я увидел её глубокий, чистый и умный взгляд. Телом остарела, а взгляд какой родниковый!.. Трагическая мудрость – в нём!
Боже мой, на каждом шагу – такие черты и краски жизни, что хоть не отрывайся от блокнота – пиши, пиши! Сама жизнь так и вламывается в глаза и душу. Сколько всего нового!..»
И вопрос «о чём писать?» уже в юности для него исчез сам собой, а его жизнетворчество стало постоянным поиском настоящих «спелых слов», «слов-зёрен», стремлением увидеть «сокровенные завязи» русского языка, припасть к «корневым глубинам родного слова» и желанием отвязаться от идущей с юности журналистской привычки быстро, «сверху» подбирать к любой информации подходящий «штамп» или «стёртую метафору» (с этой болезнью беспощадно боролся, выкорчёвывал из себя!)[11]. Найти же подобное слово – как чистой ришо́нки[12] испить…[13]
Самого себя А. Романов определял, прежде всего, как поэта, «не знавшего зависти» и «никому не подражавшего». К этим двум очень откровенным самохарактеристикам надо добавить ещё одну, также раскрывающую суть его мировоззрения:
«Я… обнаруживаю в себе то широкую распахнутость „на миру“ отцовского характера, то молчаливую материнскую замкнутость „в своём углу“». И полагаю, что из этих двух противоположных начал и сложился мой характер.
Но тут возникает весёлый вопрос: неужели я как человеческий индивидуум «составлен» лишь из одних родительских черт? Ведь должно же во мне быть нечто и своё, принадлежащее исключительно мне и делающее меня личностью, в чём-то уже не похожею ни на отца, ни на мать. Короче: есть ли во мне черты, так сказать, родовой новизны, уже своего нача́ла? Думаю, что такие черты есть, правда, незначительные. Они выражаются лишь в моей повышенной грамотности, ином образе жизни, профессиональной принадлежности и множестве неведомых ни отцу, ни матери привычек, нередко дурных.
Из вековечного крестьянского сословия (отец, несмотря на свое учительство, был чисто деревенским тружеником) я первый в нашем роду «оторвался от земли» и стал, как говорится, «интеллигентом». Правильно это или ошибочно, сказать трудно. Душа моя рвётся в деревню, а ум – в город»[14].
Да, эти разнонаправленные и разновременные «потоки», и в самом деле, «рвали» его. Но, в конечном итоге, в чём всё-таки сказалась сила таланта писателя?
Думаю, что она – в его глубинном, идущим из детства-отрочества желании запомнить, осмыслить, «охватить» и выразить в своём творчестве обе эти удивительные «грани», интуитивно не «сползая» к постоянным упрёкам к городу и не «оплакивая» бесконечно «уходящую Русь». И дело здесь, видимо, не только в «повышенной грамотности» или «профессиональной принадлежности» писателя. «Грамотность» (в широком смысле) давала ему возможность увидеть разные культурно-исторические эпохи и горизонты, оценить различные жизненные выси и дали, сравнить, скажем, развитие Вологодской и Тверской областей, посмотреть на жизнь в ГДР и, например, в Карелии или в Сибири (на родине В. Астафьева). Более того, «городское образование» давало возможность узнать творчество уж совсем не «деревенских» гениев – Гёте, Диккенса, Голсуорси, Фолкнера, Брэдбери… Образование и постоянное самообразование давали ему удивительную возможность высокого творческого роста.
Но вот – поди ж ты:
- Меня дивили мощью города
- И синевой окатывали дали,
- И древности, забывшие года,
- Высоким светом сердце зажигали.
- А вот щемит печалью звон шмеля,
- А за шмелём – пастушечья избушка,
- А за избушкой – тихие поля,
- А за полями – громкая кукушка.
Ну что тут скажешь?.. Нам, успокоенным мирной жизнью и привыкшим к уже почти постоянной «холодной войне», видимо, не дано до конца понять его, уже тогда, с того самого «переломного» года, разорванного на все эти мощные культурно-исторические и житейские «вихри», «потоки» и «грани» и сумевшего всё-таки глубоко прочувствовать, осмыслить и художественно претворить их в «самое сияние жизни»…
«Поэзия – что же это за энергия духа? Она – не просто и не только стихи! Она нечто, похожее на сияние великого тепла и смысла, проступающего сквозь слова, стоящие в определённом порядке. И вовсе не обязательно рифмованные…»
Это ещё одно откровение А. Романова раскрывает очень сложный и интересный период в его жизни – желание попробовать свои силы в прозе. Пусть читатель сам оценит прозаическую работу писателя, представленную в III томе настоящего издания: поэт «вдруг» решил перейти на прозу. А здесь приведём лишь один пример, показывающий, что за внешней простотой этой «нерифмованной» прозаической речи скрывается сложнейшая интеллектуальная работа именно поэта:
«На спуске к реке, в густой осоке затаился ключик. Раздвинешь траву – а он дышит, мерцает, клонит к себе. Бьётся и не устаёт, будто сердечко земляной глуби…»
Здесь – ни одного чужого, инородного или «придуманного» слова: автор-летописец будто «настраивается» на многовековой народно-речевой лад, «прививается» к нему, и – вот диво-то! – в создаваемом тексте проявляется, кажется, главное условие для возникновения желанного «сияния тепла и смысла» – живой художественный образ мерцающего, дышащего «ключика-сердечка»…
В миропонимании писателя, истина должна обязательно «дышать», а художественный образ – нести в себе мудрый народный опыт или авторское, личностное откровение-прозрение… Настоящая истина должна явиться «в сиянии тепла и смысла»!
Так, постепенно, набирая творческую силу, автор-летописец приходил к выводу, что писать нужно «многомерными» словами, «в которых сквозь современные смыслы исходили бы смыслы древности. Лишь только так можно добиться значительности и устойчивости своего слова – когда в нём задеты сокрытые глубины уже пережитых до нас страданий и откровений. Поэтическое слово – это искра вечности, энергия времени. И современный смысл, выражаемый нами в слове, – лишь мелкая зыбь мысли и чувства на океанской глуби…».
Так определилась главная художественно-философская задача писателя:
«Чем же я занимаюсь? Я восстанавливаю жизнь и людские судьбы, уже унесённые из наших дней в молчаливую вечность»
Воссоздать в художественном слове (словом) былую жизнь и людские судьбы – вот цель и смысл творчества! «Через Слово воскресает вновь… ушедшая Жизнь. Через Слово – Жизнь…»
Итогом многолетних творческих поисков и трудов писателя стало появление на свет в 1990 году «самой корневой книги судьбы и жизни» – «Избранного» А. Романова, «энциклопедии нашей родины, северной земли»[15].
А уже в наши дни составители и издатели представляемого трёхтомного собрания сочинений писателя «Слово, равное судьбе», взяв за основу ту, лучшую его книгу, значительно расширили содержание его творчества. Ведь после издания того, очень любимого автором «Избранного», А. Романов жил и творил почти целое десятилетие! В очень тяжёлых условиях (развал страны, распад Союза писателей, уход из жизни близких и дорогих людей, безденежье, совершенная невозможность печататься!) он создал целый ряд очень глубоких лирических откровений и мудрых философских прозрений. В них писатель, видимо, уже предчувствуя сроки[16], определённо подводил итоги. Бо́льшая часть их вошла в I том настоящего издания.
И за эти годы очень многое сделала наша мама, Анастасия Александровна, прекрасный филолог и чуткий знаток русской и зарубежной литературы: она, собравшись с силами после ухода самого дорогого человека, систематизировала весь его богатый архив. Обладая удивительной памятью, она воспроизвела жизненный и творческий контекст многих произведений писателя, дала точный, хронологически выверенный комментарий ко всем его поэмам, которые и представлены во II томе.
А в III том вошли прозаические произведения писателя разных лет, частью – из «Искр памяти», частью – из других книг, самим автором оценённые как «недостаточно сильные» или «несовременные», однако, на мой взгляд, нисколько не утративших своё значение и в наши дни.
А. Романов-мл.10 июля 2024 г.
Дионисий в Ферапонтове
«…И написаша чудно вельми»
(глас летописи XV века)
Дионисий! Уже более двадцати поколений русских людей прошло-протекло в тихой радости его икон и фресок. Благочестие обретало в них силу подвига, невежество отрешалось от смятения духа, а безверие задумывалось, изумлённое красотой христианской веры. И по сию пору в имени и творениях Дионисия светится эта чарующая неотразимость. Синодики не упоминают ни года, ни места его рождения и кончины, словно бы даруя ему изначальную вечность. Лишь древние летописи, да редкие иконы, да ещё стены собора Рождества Богородицы в Ферапонтове, чудом уцелевшие от погибели в большевистское безвременье, хранят деяния великого художника. Да в Кирилло-Белозерском художественном заповеднике есть ещё туманный синодик, из которого ясно лишь одно, что Дионисий был знатного происхождения.
У каждого человека, радеющего за Россию, своя встреча с Дионисием. Каждый волен представить и понять его по-своему. Я же впервые пришёл в Ферапонтово ранней весной лет тридцать назад, и храм открыл мне тяжёлым амбарным ключом инвалид Отечественной войны Валентин Иванович Вьюшин. Надо поклониться памяти этого сурового подвижника, жившего на нищенской зарплате, но спасшего храм от окончательного разора. В его смуглой худобе, в огненности тёмного взора, в стуке деревянной ноги по камням монастырского двора – во всём непреклонном облике Вьюшина просквозили для меня благородные мужицкие черты из времён Дионисиевых. И он открыл туда тяжёлые врата.
Лишь ступил я под своды, как храм объял меня со всех сторон такими живыми взорами, что я смутился от прямоты и близости их. И дивным показалось, что и опустошённый храм не был пуст: в нём длилось безмолвное таинство и моление скорбящего Духа. Вглядываясь в лики святых, я присмиревшей душой осознавал, что вот и я, пришелец из безбожного мира, не чужд им, и на меня нисходит их тихое благословение. И было необъяснимо радостно оттого, что в холодном этом храме от Дионисиевых росписей исходили золотистые веяния, ощущаемые мною как прикосновение тепла. Откуда же бралось это тепло, если стены – лишь тронь – были так студёны? Но эти чуть уловимые токи, возникавшие словно бы от незримых крыл, и впрямь касались моих надбровий, когда я вглядывался в проливной свет летевших надо мной ликов.
Я вскинул взгляд в надвратное пространство алтаря и замер на месте от пронзившего меня взора Богородицы. Огромные глаза, таившие счастье и муку материнства, казалось, вопрошали с высоты, понимаю ли я жертвенную благодать жизни? И неотступно ширясь передо мной и во мне, эти глаза видели всю мою потайную сущность, и я, может, впервые так тревожно оцепенел, стоя перед неотвратимым ясновидением. Право же, в тот миг я вовсе позабыл, что это – всего лишь огромная фреска, творение рук человеческих, а не развёрстые божественной силой небеса.
И белые блики, всё более и более сиявшие из глубины тёмных зрачков, и задумчивая молитвенность лица, обрамлённого лиловым хитоном и склонённого с живым участием ко мне, как и к любому, входящему в храм – вся озарённость Богоматери с младенцем Иисусом на руках была прямо-таки пронизана каким-то таинственным магнетизмом, который я ощущал как тёплые круги восходившей во мне радости. И давнее, первоначальное это видение Богоматери потом уже постоянно всплывало во мне в минуты горьких житейских неурядиц. И много раз возвращался я в Ферапонтово, чтобы прикоснуться к этой живописной тайне Дионисия.
Подобное же впечатление живой яви исходило на меня и от образа Николая Чудотворца. Я с детства помнил его, старичка с белой бородкой, затрапезно жившего у нас в кухонном уголку, на тусклой иконке. А здесь, в храме, он возник в золотистом нимбе и глянул в меня оберегающе, и повеяло в душу покоем, а белизна седин его коснулась ресниц моих ласковой святостью. И сразу вспомнилось мне своё детство, и увидел я там, как дед с бабушкой жарко крестятся перед кухонной иконкой и просят заступничества у него, святого Николая-угодника.
Моление на Руси – очистительное таинство человеческого духа. Оно не только испрошение помощи у Бога, покаяние перед ним или благодарение его, а первей всего собирание в себе личных сил, всей моготы своей перед трудным делом или опасной дорогой. Это и светлое напряжение собственного ума-разума, и беспощадное осуждение в себе дурных слабостей, и жаркое – в слезах – поименное поминание умерших или убиенных на войнах родных чуть ли не до третьего колена. Да, моление на Руси – это выявление в себе духовной жизнестойкости. Но народ наш не так-то прост, не зря же изрёк: «На бога надейся, да сам не плошай». Однако народом же и замечено, что даже самое тяжкое усилие всё же легче даётся верующему человеку, ибо оно, сопряжённое с молитвой, вдвойне и жарче, и плодотворней в своём свершении, нежели то же самое усилие для человека сугубо высокомерного, с выстуженным сознанием атеиста. Ведь атеизм – это наукообразный гололёд: редкие безумцы проходят по нему, не заморозив души или не свихнув головы. Но атеизм ещё и злобный оборотень: сживая со света православную религию, сам же и утверждается на место её как религия уже политических догм, а может, и ересей, сродственных с теми, какие яростно внедряла на Руси в XV веке тайная община еретиков во главе с неким Сахарием.
И Дионисию в ту пору была, конечно, ведома их пагуба, творимая в кругах Московского и Новгородского духовенства, их соблазны и искушения телесностью, питиём и златорадением при дворе царя Ивана III Великого и среди полоротых мирян. И не оттого ли он, Дионисий, самый именитый на Руси изограф, по первому же зову бывшего ростовского архиепископа Иосафа кинулся из развращённой Москвы в далёкую и безвестную Ферапонтову обитель, чтобы изукрасить в ней «чудно вельми» собор Рождества Богородицы. И укрепить душу и волю свою сокровенной близостью с теми старцами Кирилло-Белозерского монастыря, которые призывали мирян и братию к нравственному самоусовершенствованию и указывали им путь к нестяжательству и духовному самоочищению «через умное и сердечное делание».
Среди них мудрейшим был Нил Сорский. Он вталкивал в пошатнувшиеся от ересей умы, что «съсуди злати и сребрени и самые священные не подобает имети для алчбы, тако же и прочая украшениа излишня». И ушёл, непримиримый, из обогащавшегося землями и золотом монастыря, чтобы со своими единоверцами Гурием Тушиным и Вассианом Патрикеевым обустроить в двадцати верстах от Ферапонтовской обители на речке Соре свои «нестяжательские» скиты. Нил Сорский был терпеливым наставником людей в их слабостях и скорбях мирских. Он не видел греха в том, что если человеку не по силам указанный путь, то надо, как он советовал, «преложить помыслы на иную некую вещь Божественную или человеческую» и заключил: «но горе нам, яко не познаем душ наших, не уразумеем, в кое жительство звани быхом…»
Каким суровым упреком нам, и впрямь не разумеющим, «в какое жительство мы званы были», доносится из ХV века голос, увы, незнаемого нами по невежеству своему великого соотечественника. И неведомо нам, что когда-то на Руси жизнь людскую утверждали «через умное и сердечное делание». И не расписывали её по пятилеткам, а вседневно и всеучастливо вкладывали свои труды в неделимость времен и в будущее шли, как в подвиг. Вот Нил Сорский. Вот Дионисий… А мы-то, нынешние, до того испоганились, измельчали, предали своё великое прошлое, что ни о каком духовном самоусовершенствовании и думать не желаем. Лишь по рабской привычке опять надеемся, что жизнь на Руси наладится кем-то и без нашего «умного и сердечного делания»…
Вот пишу это и, право же, чувствую на себе чей-то пристально укоризненный взгляд, наплывающий издалека, из-за вологодских лесов, может, из времен Дионисьевых. И силюсь уловить и понять его, но исстаивает он, чтобы возникнуть заново с ещё большей тревогой. Уж не зов ли это в дорогу? Туда, опять туда, где Дионисий «со чадами», сыновьями Феодосием и Владимиром с 6 августа по 8 сентября 1502 года свершал главный свой подвиг – великопразднично расписал новый храм Рождества Богородицы. Он так озарил его своей кистью, привнес под каменные своды столько мягкого света, нежной лазури, ангельского простора, что новый храм в Ферапонтовской обители предстал перед прихожанами и монастырской братией воистину Собором Великого Материнства. И это деяние исполнено было за дивно короткий срок – всего за 34 вдохновенных дня. Вот взлёт гения!
И бродим мы здесь с художником Евгением Соколовым. Он здесь давножитель. В деревеньке Леушкино на Цыпиной горе гостеприимно гнездится в яблоневом саду дом его крепкий, старопрежний, а в доме холсты с зорями и закатами, с куполами и озёрами Ферапонтовской Руси. Он, кажется, первый из вологодских художников дерзнул испробовать Дионисиев опыт: писать местными красками. В его мастерской собрано тысячи камушек – и всяк со своим тоном и вызовом. Растирай да пробуй! Но дело это трудное, даётся не всякому. Евгений Соколов сумел его понять, освоить, и потому так свежо запечатлел на своих полотнах «Прощальная пора», «Бородаевское озеро», «Ферапонтово», «Ольгина роща» очарование тишиной и задумчивостью о минувшей жизни.
Николай Рубцов, любивший гостить у художников на Цыпиной горе, зримо и тонко выразил это духовное состояние природы.
- В потемневших лучах горизонта
- Я смотрел на окрестности те,
- Где узрела душа Ферапонта
- Что-то божье в земной красоте…
Цыпина гора, исхоженная в XV веке великим Дионисием – ныне задушевное пристанище вологодских художников, их потайной Олимп, скрытый в лесах от чёрного сглаза. Там на самом солнечном взъёме, в деревеньке Гора, у столетнего дуба, рассечённого молнией, но воспрявшего уже двумя стволами ввысь, притих дом другого художника – Владислава Сергеева. Он известен как тончайший график, заставляющий всякую свою линию светиться и петь. Его знаменитые листы «Воспоминание о Ферапонтове», «Озеро», «На качелях» овеяны летучей красотой и неизъяснимым трепетом русской жизни. Право же, в них что-то от фресок Дионисия – вот эта округлость и стремительность линий, таящая в себе энергию чуда…
Но чу! Из-за Ильинского озера, из-за Бородаевского, с Ферапонтова холма плывёт по всей округе колокольный звон. Люди выбегают из домов и затихают в радостном изумлении. Леса, поля, холмы древние и воды тростниковые – вся земля окрест внимает этому торжественному благовесту, случившемуся впервые за последние глухих полвека. И мы торопимся туда, в Ферапонтово.
И узнаём, что на звоннице Собора Богоматери установлены колокола, отлитые в Воронеже кооперативом, и завершены приготовления к пуску старинных церковных часов, изготовленных русскими кузнецами в 1635 году. Они старше Кремле́вских курантов и древнее их в России ныне уже нет. Восстановил же их талантливый инженер из института ядерной физики Юрий Петрович Платонов. Приехал он однажды в Ферапонтово, увидел на часовне полюбившегося ему Дионисьева Собора разбитые древние часы и загорелся упорством восстановить их. И восстановил, и связал их механизм с колоколами – и всё это сделал совестливо и бескорыстно. Вот оно, «умное и сердечное делание»!
Звон новых колоколов и ход старинных часов – это ли не радость Ферапонтова! Но она горько омрачена нравственной глухотой властей, отказавшим наотрез здешней общине верующих молиться хоть в какой-нибудь из четырёх ферапонтовских церквей. Будто монастырь этот строился и созидался на протяжении веков не для духовных служб и нравственного оздоровления народа, а лишь для музейного поглядения. И любые резоны в защиту «чистой» культуры и отчуждения верующих от этого искони церковского места святотатственны и противонародны.
Вот тут, пожалуй, и задумаешься о том, что Дионисий – великий художник не столько нашего прошлого, сколько нашего будущего, ибо его божественная светоносность может оказаться необходимей, чем прежде, в предстоящие годы для одичавшего в безверии и погибающего в нравственных язвах русского народа.
1995
«Дионисий» Валерия Дементьева
Бродил я не раз по холмистым берегам Бородаевского озера, силясь своим воображением заглянуть в год 1501. И уже мерещилось мне, будто и впрямь вижу самого Дионисия, остановившегося в раздумье на озёрном приплёске – только вот лицо его затенено вскинутой ладонью. Вот-вот сейчас он опустит руку, и лицо увижу… Но на месте этом оказывалась ёлочка в тёмном монашеском одеянии…
В человеке неодолимо живут два устремления – заглянуть в своё глубокое прошлое и своё близкое будущее, чтобы твёрже пройти свой путь и обрести душевное равновесие. Но то и другое – запертые золотые ларцы. Тем упорнее и мучительнее бьётся человеческая мысль, чтобы отыскать ключи к этим золотым ларцам, и если не открыть, то хотя бы полуоткрыть их и раздвинуть над своей дорогой глухую стену времени.
И когда я впервые прочитал повесть «Утешение Дионисия», то сразу почувствовал, с каким упорством искал этот ключ Валерий Дементьев в летописях, в древних письменах и в свидетельствах знатоков иконной живописи. И ему, к счастью, удалось найти этот ключ и полуоткрыть глубину веков. Радостно это чувство – ощутить себя свидетелем, как бы очевидцем столь далёких уже событий и лиц, будто стоишь у деревянной, рубленной в лапу монастырской ограды весной 1501 года или бредёшь по ромашковой тропе возле Бородаевского озера, на приплёсках которого ищет Дионисий охристые, янтарные и голубые камни.
Весенним светом высвечено усталое, белобородое лицо знатного иконника, сухим блеском полны его глаза. Он весь – в думе, властно охватившей его, о своих чадах-сыновьях («как бы не иссякла, не растворилась в мелочах их сила взыскующая, духовная»), о жизни («справедливости, благолепия и мира жаждут люди»), о ремесле своём («дабы потомки не променяли простых речей на краснейшие»). Не краски он клал на влажные стены собора – душу свою положил, думу долгую и мучительную, потому и горение такое в храме. И всё это не на византийский манер, а на свой, русский.
Крупно, зримо рисует Валерий Дементьев жизнь Ферапонтова монастыря в его драматическом моменте. Сталкиваются две разные силы: кликушество в образе юродивого Галактиона, усмотревшего в радостных фресках великого старца смешение божественного с мирским, и сам Дионисий «со чадами Феодосием и Владимиром», выражавшими в иконописи «зрелое национальное самосознание русских людей». Это извечное борение, мучительное и тяжкое, не минуло и Дионисия. Лишь одним утешением ему служила мысль о своей пользе для Руси.
В горькие минуты он обращался только к Ней… «Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, пил твоё парное молоко. Встречал людей многих – князей в златотканых одеждах, святителей в бархатных саккосах, служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых мужиков в сермягах да жёнок их в холстинковых сарафанах. Многолюдна ты, матушка – Русь!»
Дионисий в Ферапонтове. Грав. Г. и Н. Бурмагиных
Определённо можно сказать, что в нашей исторической литературе пока нет более значительного художественного изображения Дионисия и его времени, чем эта повесть Валерия Дементьева. А образ самого Дионисия в двух поворотах, созданный гениальным пером и резцом Генриетты и Николая Бурмагиных, – это истинное чудо.
1995
«В минуте грозы – на столетье беды…»
Эта поэма вскипела первыми строками, словно горячими бороздами, в 1917 году, когда по мятежной Руси прокатился наконец-то Декрет: «Земля – крестьянам!».
Алексей Ганин в ту пору только что вернулся из-под Питера, из прифронтового лазарета, в родное Присухонье. Он взахлёб дышал суровой мужицкой волей. И небывалые события, казалось, уже невозможно было выразить речью обыденной, что дедовская стружка – она хоть и запашиста, а выше верстака не вьётся. Требовалась речь прямо-таки поднебесная, озвученная эхом древнеславянских времён, когда Микула Селянинович впервые расчищал нашу землю своей богатырской сошкой. Вот так высоко Алексей Ганин ухватился за Декрет о земле! И в огромное поле своей поэзии гулко вывел внука Микулова для великого праздника – для свободного хлебопашества.
- …А в думе у парня:
- «Вспахать бы всё поле,
- Вспахать бы все горы,
- Доехать до края земли,
- Где синие рощи в туман
- прилегли,
- Где вольная воля
- И Лады кольцо золотое…»
Это вековечная дума не одного Микулова внука, а и самой Земли, уставшей от людских междоусобиц. Именно поэтому «Былинное поле» так широко распахнуто в космос, так яростно гудит противоборством вселенских сил добра и зла. Но Алексей Ганин, в отличие от пролетарских поэтов двадцатых годов, вздымавших молоты и маузеры до звёзд, свой космизм «выпахал» в поле русской мифологии, в том поле народных верований, по которому впереди него шли Сергей Есенин, Николай Клюев и Сергей Клычков.
Казалось бы, в образе былинного пахаря уже не таилось поэтической свежести, однако Алексей Ганин нашел её: он живописует не лик, а движение Микулова правнука. Под горизонтом, как под сводом времён, вырастает пахарь из земли. И всё ближе, всё крупнее, всё громогласнее движется к нам, сегодняшним. А сама поступь богатыря крупнит и всю сопутствующую ему жизнь. Вот откуда исходит свет поэзии – из трагизма движения. Может, потому и много в России поэзии, что горя в ней, терпеливой, много! Но разве в этом наша судьба?
Вот и правнук Микулы окликает с холмов захудавшее крестьянство:
- …Где вы, соседи, запечные люди,
- Древнюю ширь не пора ль расчищать?..
- Гей, одевайте рубахи багряные,
- Неба синей одевайте порты!..
- Сварба сегодня великая будет…
Сварба – значит свадьба, но у Ганина это слово искромётнее звучит именно в вологодском произношении. Сварба – красование любви на миру. Сварба – хмельное эхо счастья. Сварба – порыв к совместному труду жизни. Но кто же невеста у правнука Микулы? А невеста у него – Лада-Заря! Образ, понятно, символический, вроде бы в духе двадцатых годов, когда Россия, «кровью умытая», на каждом перекрёстке бинтовалась красной символикой. Но Алексей Ганин знал, что новая символика, яростно низвергавшая христианский крест, зажигала в себе тайные знаки, заимствованные в других землях. И в противовес остроугольности этих символов Ганин в своей поэме широко распахнул красоту русской поэтической традиции.
Верят простодушные мужики в скорую сварбу Микулова правнука и Лады-Зари, как в новую жизнь.
- …Сошками в земле ковыряются,
- Ладу на поля дожидаются,
- Чтобы высватать красоту за лапотника,
- А небо и землю взять в приданое…
Взять в приданое небо и землю – такой помысел мог возникнуть лишь в людях работных и мирных, не склонных к захребетной наживе, – ведь в думах у них не сундуки с золотом, а именно земля – для просторного труда, а небо – для высокого благовеста.
- …Кипит говорливая пахота
- Не от той ли силы немеренной,
- Что оставили деды на пахоте
- До поры, до урочного времени…
И продлись такое обнимание с землей, Россия, нищая от войн и революций, скоро обрела бы спасительный взъём жизни. Но вот тут-то на мужицкую волю и навалилась тайная воля тех, кто думал о России всего лишь как о запале для мировой революции.
Мужики ещё не видят, не чуют, что над мокрыми их вихрами уже запокачивались тучи ненависти.
- …Набежали из-за моря чёрные,
- Завели хороводы по заполю,
- Карманы с громами повыворотили,
- Нависли над сёлами – тяжельше гор,
- Гаркнули голосом во все стороны:
- – Гей вы, други-вихори, ветры буйные,
- С каких это пор
- Лапотники тучам не молятся?
- Али каждый лапоть боярином стал?
- Али пых из вас, выхори, выдохся?
- Вскиньте поле, как скатерть немытую
- Мужичье тут и само рассыплется,
- Будто крохи от хлеба вчерашнего…
Вот она, мстительная директива на погромы крестьянства! «Былинное поле» Алексея Ганина – трагическое прозрение великого обмана. Поэт недолго радовался Декрету о земле: тяжкие стоны присухонских деревень, обложенных непосильной продразверсткой, и волчьи налёты на них продотрядов вологодского губернского комиссара Элиавы, этих баскаков нового ига, – всё то, происходившее на глазах поэта, настолько обострило его видение, что за разорением крестьянства открывалась ему и более глубокая подноготная: лишение русского народа национальной самобытности и будущности.
Именно ради этой давно вожделенной цели сперва была пущена в ход теоретическая мысль об извечной мелкобуржуазности крестьянства, а затем спущена и директива о физическом уничтожении под видом «кулачества» его самых лучших, самых производительных слоев. Ни одно государство в мире при любых превратностях судьбы не уничтожало своего кормильца – крестьянство. Это сделано лишь в России для её самоуничтожения.
Но многие люди и поныне не догадываются об этом – вот насколько мы отупели умом и оскудели предчувствием, что даже вблизи не различаем того, что Алексей Ганин видел и понимал уже в 1917–1923 годах.
Но ведь не зря говорят, глупые в работе трижды святы. Ещё не ведают мужики, что Декрет – обман, что власть пролетарская – гибель крестьянская, ещё горят их руки от сошек, однако вокруг уже что-то переменилось.
- Поле древнее вдруг призадумалось
- По буграм, по морщинистой пахоте
- Прокатились, под горками замерли
- Думы грустные – тени широкие.
Какой всеохватный образ! Это уже озноб беды. Уже рывок к схватке. И пахари дерзко ответствуют тучам: уж не захмелели ли они от кровавой испарины, уж не от пота ли мужичьего их распучило? Ох, русые головы, ещё верят, что вот-вот встретят свою надежду – Ладу-Зарю. И исполнится их мечтание о счастье.
Вот ещё когда – с самых первых лет революции – огромная страна, в основном деревенская, уже была опалена скрытой ненавистью к её верованиям и её народу. Так и не дали народу прийти к «трудолюбному завтрию», так и не сумели мы по сию пору наладить жизнь, «чтобы наши дороги не хлябали». Удивительно: каким предчувствием будущего обладал молодой поэт Алексей Ганин!
Так и не смогли пахари устоять на своей простодушной правде: тучи «выпили свет», заслонили им солнышко. Но страшней всего то, что тучи заточили их мечтание о счастье – Ладу-Зарю – в тёмную клетку (догадывайся: в тюремную!), а вокруг неё поставили чёрных свах да глазастых сов.
И небо поэмы озаряется воображаемой сказкой: вот Месяц на серебряном лосе, вот тучи – свахи с кринками золота и терем ночи, в котором Лада-Заря прядёт взаперти лучистый лён и тоскует о своём суженом. А вот и сам правнук Микулы летит на своём Сивке-Бурке к Солнцу-прадеду на поклон, чтобы вызволить Ладу-Зарю из полона. И песня его о сварбе, как о всеземельном празднике, раскатится в небе поэмы:
- …Сварбу мы справили у синего бора,
- Косы твои – золотые озёра
- Я – а не ветер – тебе заплету,
- Дам тебе ленты – межи в цвету.
- Дам тебе реки – звенящий бурнус,
- Чтоб в красном веселье воспрянула Русь…
И вдруг – обрыв всему: и песне Микулыча, и сказке неба! Разверзлась пропасть обмана, и ухнула в неё крестьянская вера. Злодейство выползло поперёк всех мужицких надежд. Россия почернела.
- …Ой, да не тучи, только тучами
- Нечисть хапучая прикинулась,
- К древнему полю надвинулась…
- Теснится с востока, теснится с заката,
- За правнуком Микулы гоняется,
- Огненные плети раскидывает…
Страшен образ врага, явленный Алексеем Ганиным! Поэт разглядел ещё в зародыше то, чего не сумели понять многие и по сию пору. Зоркость прямо-таки провидческая, а мужество – отчаянное!
- …Тут разбойные вихри присвистнули,
- Кинулись к пахарям в запыхе злом:
- Гей, сиволапые, шапки долой!
- Кинулись к Микулычу:
- Гей, берегись!
- Много задумал – не рано ли?
- Кости да погосты – приданое
- Будет тебе с этими харями…
Вот вам, мужики, и Декрет о земле… Кладбищенской! Поэма раскаляется от чёрных сил. Подзуживается ими, выползла и вся нежить лесная, рогатая, подводная, болотная, сухорукая, что от века завистью давилась, а теперь эта неработь красной морокой заплавала.
А вот и второй секрет, как овладеть крестьянской силой: сперва потрафить простодушию и думе о мирском счастье, а потом скрутить в бараний рог. Даже по прошествии более шестидесяти лет, как написана поэма, даже при нашей уже затяжной бесчувственности и поныне стужей чудовищной демагогии дует от такого Декрета.
- …В думах мужичьих просторно, как в поле:
- Гуляй, кому надо, что хочешь топчи,
- Только про счастье мужичье шепчи
- Да жалобней вякай про горькую долю,
- Будут покорны тогда силачи.
- Красные речи замажутся сажей,
- Сами друг другу могилу укажут,
- Сами себе панихиду споют…
Вообще, даже безотносительно к ганинской поэме, лишь поглубже задумаешься о доле нашего крестьянства, то, ей-богу, можешь свихнуться от сатанинской толчеи и несуразности, при которых в страшном притеснении и разграблении пребывала у нас именно эта сила, кормящая державу. За какой аграрный факт ни ухватись – всякий щетинится против крестьянства! И Декрет о земле всего через год уже заменился декретом о её социализации.
Голая политика так ознобила нашу жизнь, что не только закоченела вся мудрость хозяйствования, но и Россия уже перестала существовать как государство. И нас называют всего лишь русским населением, а не народом.
Алексей Ганин и раскрыл в своём «Былинном поле» именно эту зловещую «премудрость» раскрестьянивания. Вот и затянули мужиков в хомуты красных речей. И погасили в них думы о сварбе великой Микулича с Ладой-Зарей, как пустую сказку. В том и состоит третий секрет такой политики.
- Думы погаснут – бессилен Микулич,
- Ладу забудут – погибнет и конь.
А в покорности дальше своего шага не видно:
- …Загукал пенёк о пенёк:
- «Эй, паренёк,
- Кумачовый умок,
- Где ж твоя Лада,
- Ситцы и сахар?»
- Сами без хлеба, сохи скрипят,
- Потом промокло всё поле —
- Вот вам и красная воля!..
Безбоязненность поэта поразительна. Предчувствие борьбы безошибочно. Поэтому и вспыхивает в поэме, как афоризм, пророческое двустишие:
- Грозу да напасть
- не столетьем считать,
- Да в минуте грозы —
- на столетье беды.
Искрами сыплются эти слова в прожитые нами годовщины. Да, уж к веку подбивает, как борозды наши ползут вкривь да вкось, как спутался с толку народ, как злобой да ленью загажено Древнее поле.
…Да, скоро запрягали, да не туда правили! Теперь-то это хорошо видно, но как из 1923 года ещё не сбывшееся можно было увидеть? И не ошибиться в предсказаниях? И не устрашиться за себя от такой отваги? Вот что значительно для нас в поэте Алексее Ганине!
«К тебе пришёл я, край родимый…»
Алексей Ганин! Вот произнёс я это имя, и печаль охватила душу: забываем мы его. А ведь к нему в Вологду и в деревню Коншино приезжал Сергей Есенин. Значит, сродственна была рязанскому гению та распахнутая талантливость, та тревога за мужицкую Русь, которая кипела в Алексее Ганине – в истинном поэте и правдолюбце. Уже одного этого свидетельства их дружбы, пожалуй, достаточно, чтобы оглянуться нам на имя и поэзию Алексея Ганина с запоздалым, но гордым уважением.
Ныне его Коншина уже нету. За Соколом, где горюнится купол Архангельской церкви, пасутся в поле лишь две-три черёмухи да белая берёза, под которой покоится памятный камень с именем Алексея Ганина. Вот всё, что осталось от его деревни.
Но тогда, в 1918 году, Коншино крепко держалось за землю. Семья Алексея Степановича и Евлампии Семеновны Ганиных была многодетной и староукладной. И смерть деда Степана – большака их крестьянского рода – не то чтобы потрясла семью, а как бы пролила задумчивый свет в притихшие души.
Чудо поэмы «Памяти деда» именно в утверждении того, что смерть крестьянина – вовсе не кончина, а лишь всепрощающий переход в иное бытие, измеряемое отныне долготой людской памяти и оставленных на земле добрых дел. И тайна этого движения души в «вечное безветрие» передана так тонко, что, читая, замираешь от удивления.
- Сквозь голубые глаза
- и небу,
- и высокому Солнцу,
- и каждой былинке,
- и птахе
- тысячи дней улыбалось
- Дедово сердце…
- А сегодня, на грех, задремал на широкой скамье
- под божницей
- и чует, что всё уже проснулось,
- а сам приподняться не может…
- Хочет глаза распахнуть
- и, будто созревшая рожь,
- заплелися ресницы.
- Вязнет в забвение душа,
- как олень златорогий в трясине.
- Хочется деду внучонка позвать
- и не родится слово…
- А день широко разгулялся
- под небом глубоким и синим,
- и Сивку впрягли уж другие
- распахивать вешние нови.
- Всё на селе, как и прежде,
- лишь по-новому гвозди,
- чуется, где-то вбивают
- и пилят сосновые доски…
- Кому-то неладное ладят…
- А рядом ворчливые куры кудахчут,
- что бабы опять
- обокрали все гнёзда…
- И по-новому Солнышко
- сидит у окна
- и ласково Дедову бороду гладит.
Как щемяще бережно сказано о тяжело прожитой мужицкой жизни: «у всех на губах красовита!» И какая в поэме густота и ярь красок!
Её любил читать и сам поэт, выступая в Москве вместе с Сергеем Есениным на разных литературных вечерах.
Но недолго радовались они своей дружбой. 12 декабря 1923 года в газете «Правда» появилось сообщение.
«Суд над поэтами»
«В понедельник, 10 декабря, в Доме печати под председательством тов. Новицкого состоялся товарищеский суд по делу четырёх поэтов: С. Есенина, П. Орешина, С. Клычкова и А. Ганина, обвиненных тов. Сосновским в черносотенных и антисемитских выходках.
В составе суда были тт. Новицкий, Аросев, Керженцев, Нарбут, Касаткин, Иванов-Грамен и Плетнев».
А в начале 1925 года в Москве, в Бутырках, тридцатидвухлетнего Алексея Ганина расстреляли. За что? А за любовь к Родине. Ведь в те годы хлынувшие к власти тёмные силы лишили Россию даже имени своего – называли просто Республикой. Вот в каком унижении оказалось достоинство русского народа. Мог ли Алексей Ганин вытерпеть такое? Нет! И расстреляли его, без могилы оставили, имя затоптали кровавыми сапогами…
А в конце этого же, 1925 года, в Ленинграде, в гостинице «Англетер», был убит, а затем повешен Сергей Есенин. Позднее расстреляли Николая Клюева, Сергея Клычкова и Петра Орешина. Так сталинско-троцкистские насильники расправились с лучшими поэтами России…
Алексей Ганин и Сергей Есенин в Вологде в августе 1917 г. Годы коротких жизней: Ганин 18.07.1893 – 30.03.1925, Есенин 3.10.1895 – 28.12.1925
Юбилейный вечер поэта в Воробьёво. 18 июня 1990 г. Александр Романов с подаренными портретами поэтов-земляков Н. А. Клюева и А. А. Ганина, …расстрелянных за любовь к Родине…
Но истинную Поэзию расстрелять невозможно. И подтверждением тому – поэтическое наследие мучеников большевистской диктатуры. В этом наследии святое место занимает и лучшая поэма Алексея Ганина «Былинное поле».
1995
Уроки Александра Яшина
Когда слышишь имя Александра Яшина, перед глазами распахивается в зелёной, хвойной необозримости весь Русский Север. Горизонт выпилен ельниками, просёлки светятся берёзами, болота краснеют клюквой. И на тысячи вёрст по берегам рек и озёр – деревни и села, вековые, теплостенные, осенённые красотой былого узорочья. И старинные города, сгрудившиеся у белых соборов и похожие на Никольск, родной для Яшина. Долгими зимами эти огромные пространства до неба завалены снегом, а от Белого моря, от Архангельска, от самого полюса свистят ветра.
Однако с годами в этом первоначальном образе яшинского имени проступили другие черты – мужественности до редкой самоотверженности, озабоченности до глубокой боли. И на это были известные причины. Круто менявшаяся послевоенная жизнь, всяческие перестройки, не только на Севере – во всей России, заставили поэта многое передумать и пересмотреть, обострили его взгляд, углубили перо до самой сути народного бытия. И теперь – и уже навсегда – в имени Александра Яшина – выстраданный, резкий, исцеляющий свет выдающегося таланта, рождённого Севером.
Когда думаешь о его книгах, мысли теснят и торопят друг друга, озаряя сознание сложностью нашего времени. Будто стоишь на высоком угоре, и над тобою не порознь, а в тревожной слитности летят и солнечные облака, и грозовые тучи. И душа твоя в этом просторе отзывается то краткой радостью, то долгой горечью, и ты незаметно для себя начинаешь думать о судьбе множества близких и неблизких тебе людей, которых знал или знаешь, а также и о собственной судьбе. В этом строгом раздумье чувствуешь, как в тебе обостряется внутреннее око, называемое совестью, и хочется самому в полную меру сил жить и работать, и творить добро.
Когда размышляешь о своеобразии слова Александра Яшина, о строе и красках его строки, слышишь народ. Сам народ – не придуманную какую-то ярмарку. Слышишь тороватых, бойких девок и баб, их сердечные признания, печальные сетования, жаркую удаль их запевок. Слышишь озабоченных мужиков, их раздумья о жизни, всегда прозорливые и острые, с крепкими гвоздями красных слов. И бывальщины, и сказки, и пересказы, и мудрые наставления – всё явлено, как было и как есть. Да не просто явлено со слуха, а отобрано умом и сердцем. Удивительный дар! Кто не знает, скажем, вот этого знаменитого зачина:
- Ты проедешь волок, ещё волок да
- Ещё волок – будет город Вологда…
Таких строк у Яшина – россыпи. Александр Яковлевич, родившийся в Никольской деревне Блудново, с первого своего шага окунулся в тепло народной речи. Она была для него что младенческая зыбка. А потом – что улица в солнечных лужайках. А затем – что величавый ржаной проселок. Этот проселок впоследствии и вывел талантливого крестьянского сына в советскую литературу, к её высотам.
Александр Яшин рано и счастливо понял, что именно в глубинах родного языка – и жизнь, и характер, и сама стать народа. А Север, наш благословенный Север – это океан-море речевой поэзии. Черпай – не вычерпаешь! И Яшин черпал из него смело и неустанно самобытное богатство.
Разумеется, в годы тридцатые – начало сороковых в здешних краях было немало других талантливых людей, взявшихся за перо. Создавались литературные кружки, объединения, первые писательские союзы. Имена комсомольского поэта Ивана Молчанова, прекрасного сказочника Степана Писахова, отличного прозаика Александра Тарасова, серьёзного исследователя культуры Севера и беллетриста Ивана Евдокимова, умелого бытописателя, а впоследствии автора исторических повествований Константина Коничева – этот ряд можно продолжить – и поныне окружены читательским уважением. Однако со стихами Яшина в большую советскую литературу ворвались свежие ветры Севера. Север заговорил, заокал в ней его голосом. Это было уже то широкое признание, которое становится поэтической судьбой.
В понятии «судьба» – не только жизненная предопределённость, предначертанность, предназначенность, но в не меньшей степени и неизвестность предстоящих поворотов твоего пути. Лишь поверхностный человек может облегчённо вздохнуть: раз судьба, значит, дело само пойдёт.
Александр Яшин вернулся с Отечественной войны, из-под огненных стен Ленинграда и Сталинграда, победно мобилизованный на такую радость и на такую любовь к жизни, о какой и думать не мог в юности. «Война все наши чувства обострила», – говорил он, и об этом гремели, этим дышали все стихи, принесённые им из окопов. Он выпускал книгу за книгой, крупно печатался в журналах. Поэма «Алёна Фомина» была удостоена Государственной премии. Александр Яшин стал всесоюзно известным поэтом.
Тогда он (да только ли он!) не сознавал ещё, что характерный для той поры подход, вернее, подлёт писателей к жизни сверху, пусть и с благими, но умозрительными поисками положительного героя, желаемых жизненных ситуаций и заранее предопределённых выводов, непременно обернётся в скором времени горькими разочарованиями, и его, как человека совестливого, резко толкнёт в самую глубину народной жизни, чтобы уже оттуда, из жизни, подойти к подлинным художественным открытиям. Но это будет потом.
А пока, в эти послевоенные годы, Север вновь набирается сил, чтобы серьёзно и заметно работать в советской литературе. В Архангельске и Вологде забурлили молодые творческие объединения. И Яшин, ещё до войны стоявший у истоков этого движения, не мог остаться в стороне – не такой характер, чтоб отстраниться от земляков. Он стал часто приезжать из Москвы, подолгу бывать в Вологде.
Те, кто знали его лично (а круг знакомств у него был огромный), запомнили Александра Яковлевича Яшина навсегда. Представим на миг, что мы никогда не видели фотоснимков Блока, Маяковского, Есенина, Твардовского… Перед нами только их стихи. И всё равно мы в своём воображении нарисуем их безошибочно, какими были они в действительности. Поэзия – высочайшая подлинность человеческого существа.
То же самое и с Александром Яшиным. В облике его, как в его стихах, – северная корневая крепкость и открытость на людскую чистоту, солнечность. Он был из той зимостойкой крестьянской породы, которую выковали невзгоды, труд и короткие радости. Он являл собою сильного человека, точнее, был таким дарован миру этой сильной работящей породой. Вдобавок к сказанному, Яшин был человеком широких, даже редких знаний, огромной начитанности, зоркого понимания людей. Вот эта-то его зоркость иной раз и смущала некоторых, даже отпугивала от него, но что поделаешь – он оставался самим собой.
Мои встречи с Александром Яковлевичем не просто перед глазами, а в живой боли сердца. Только он один умел быть таким проницательным, заботливым, обогревным и обязательным сказанному при встрече своему слову. Я всегда смущался: сколько у него своих забот, до наших ли ему литературных начинаний или каких-то житейских неустройств. Так нет, не просишь, а всё равно – вот тебе сильная, решительная рука на дружбу и помощь. И так со всеми, в ком замечал, как он выражался, божью искру. Не только повезёт в Москву понравившиеся ему стихи и добьётся публикации, но может пойти в издательство, чтоб о первой книжке договориться, может ринуться в Союз писателей, в Приёмную комиссию, чтоб не провалили там, не отклонили нового автора. Туда напишет, сюда позвонит, чтоб с жильём помогли, с работой, с учёбой… Такого бескорыстия, такой душевной щедрости мне больше видеть не доводилось.
Вот привычная нам картина. В Вологде проводится очередное областное совещание молодых авторов. Александр Яковлевич уже торопится из Москвы. Встречаем его на вокзале. Поезд ещё не остановился, а он уже в открытых дверях вагона – такой высокий, могучий, заслонивший весь проход, что проводница, стоящая перед ним, кажется девочкой-подростком. Он машет через её голову рукой, улыбается. И первые слова у вагона: «Ну, как жизнь, как стихи?» Брови вскинуты, а в глазах, на тонких губах – чуть лукавая, но такая знакомая добрая усмешка. Всем становится хорошо, все опять вокруг него.
А на совещании Яшин вместе с другими руководителями сидит за столом, орлино вглядывается в зал, где молодые авторы, съехавшиеся изо всех вологодских районов, и глуховато, словно простуженно, спрашивает: «Нет ли тут никольских?» Если оказываются, очень доволен, если нет, как бы с укором замечает: «Должны, должны быть». И слушает стихи, рассказы и всякие другие литературные опыты, в которых и жанра-то никакого не нащупаешь. День, другой слушает и не устаёт, и не смотрит, как знаменитый поэт, свысока, снисходительно.
Вот кто мог сквозь косноязычие и всякие словесные огрехи точно уловить талантливый стук молодого сердца. И денег за это никаких не получал, и благами никакими не пользовался. Сегодня это звучит даже как-то странно… Но именно так на протяжении многих лет Александр Яковлевич Яшин закладывал основы нынешней Вологодской писательской организации.
Табунясь возле него, мы видели в нём истинного поэта и вовсе не предполагали, что он занимается также прозой. Сам же Яшин об этом ничего не говорил. Лишь теперь, перебирая в памяти те встречи, я вспомнил, как он однажды, ни к кому не обращаясь, а так, про себя, с грустью молвил: «Стихами всё-таки трудно чего добиться». Помню, с каким недоумением я взглянул на него: как так? А он сам разве не добился? Теперь-то я понимаю, о чём сокрушался Александр Яковлевич – о конкретной, о практической работе художественного слова в переустройстве жизни. Был уже разгромлен партией культ личности, в стране многое менялось, литература отходила от теории бесконфликтности. Но в то же время крепли в государственных и хозяйственных звеньях признаки волевого руководства. Было о чём подумать…
И вот появляется рассказ Яшина «Рычаги», затем «Вологодская свадьба». Будто стронулся снег с крыши, вокруг автора – шум, крикливые голоса… Понадобилось полтора-два десятилетия, чтобы жизнь протёрла глаза тем, кто упрекал писателя в очернительстве, и они сами увидели теперь, что он всё-таки прав. Перечитывая ныне эти горячие страницы, ещё раз убеждаешься в зоркости и точности яшинского взгляда на жизнь, на её болевые точки. И с грустью размышляешь: сколько ещё слепоты вокруг произведений и книг, написанных с жаром сердца, с глубоким знанием жизни, для нашего же собственного блага, но вызывающих лишь раздражение у иных ценителей, вот-вот готовых привесить к ним какой-нибудь ярлык. Ужели опять, как с Яшиным, потребуются годы и годы, чтоб узрели они уже ныне очевидные истины?
Помню, как в Вологде проходило организованное обсуждение, вернее, осуждение «Вологодской свадьбы». Мне там довелось выступать в защиту её. Какие кипели страсти! Иные ораторы начисто отвергали сам подход Яшина к изображаемой жизни, им по привычке хотелось только благолепных картин. Иные впрямь не понимали, как это можно о своей родине, о своих земляках писать столь открыто. Это было для них так неожиданно и столь неприемлемо, что они не знали, как и выразить свой гнев. Разве можно выносить сор из избы?.. Что скажут где-то там?..
А, собственно, что показал в «Вологодской свадьбе» Александр Яшин, в чём он – не без боли – честно признался? Он показал, что русская деревня переживает коренные потрясения: молодое поколение бросает землю, уезжает на производство, а в вековых, уже пошатнувшихся избах остается одинокая старость. Посмотрите, с каким трогательным сочувствием выписан образ матери невесты Марии Герасимовны, да и сама невеста Галя. Мать и дочь из тех великих тружениц, на которых держался деревенский дом от века, и вот – не просто разлука, а решительный поворот в судьбе той и другой, отход от прежней жизни и приближение к новой, пока ещё во многом не определившейся.
И противопоставленный скудной нынешней регистрации старинный свадебный обряд, уже полузабытый, скомканный, но всё ещё таящий в себе ту весёлую, игровую красоту, по которой тоскует молодое сердце, волнует, печалит, смешит и автора, и читателя и тоже заставляет задуматься о чём-то утраченном и пока не найденном…
И три брата-правдоискателя, приехавшие гостями на свадьбу, вызывают грустное сочувствие в их бесконечных, порой до нелепости смешных поисках правды-матки – они взяты автором прямо из жизни и посажены за стол.
Кроме того, в «Вологодской свадьбе», может быть, впервые в литературе тех лет (исключая серьёзный очерк Федора Абрамова «Вокруг да около») задеты прямо и резко те наболевшие проблемы, о которых ныне вовсю идут жаркие дискуссии, пишут журналы и газеты. Это – о неумелом руководстве, о пагубности очковтирательства, о личном скоте в деревне, о необходимости сенокосных площадей для него, о пьянстве, о сельском бездорожье…
Послушаем голос самого Александра Яшина из удивительно яркого, нежного и грустного рассказа «Угощаю рябиной», опубликованного спустя три года после «Вологодской свадьбы».
Вот что он говорит, как бы с укором отвечая своим несправедливым критикам: «…жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам – и мне трудно. Хорошо у них идут дела – и мне легко, и пишется. Меня касается всё, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил, на полях, которые ещё плугом пахал, на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.
Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не всё равно, чем засеют её в нынешнем году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму коровы кормами, а люди – хлебом. Не могу я не думать изо дня в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин, или всё ещё они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда же, наконец, будет поступать запчастей для них столько, сколько нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого…»
Какие заботы, тревоги и надежды слышатся в этих словах! Мы нередко всуе краснобайствуем о связи писателей с народной жизнью. Вот пример её – жилами своими, нервами чувствовать тепло и холод отеческого поля.
- Что кому,
- А для меня Россия —
- Эти вот родимые места.
Недаром эти строки крупно, гордо печатают ныне на кумаче молодые земляки поэта, когда едут на Бобришный угор, к его домику, или многотысячно собираются в Никольске, в зелёном привольном парке на ежегодных праздниках яшинской поэзии. Колосьями прорастают честные, сердечные слова, а время вяжет их для потомков в золотые снопы.
Земля отцов и дедов, так любимая Яшиным… При жизни его она ещё не называлась Нечерноземьем или второй целиной. Она была просто родиной. Поэтому состояние её по-сыновьи волновало писателя. Он давно уже видел и чувствовал, как нуждается эта земля в большой государственной помощи. Ещё задолго до нынешних исторических директив по подъёму российского Нечерноземья Александр Яшин в числе немногих писателей прямо сказал обо всём этом. Сказал смело, как коммунист, памятуя о том, что партия всегда призывает мастеров слова быть правдивыми и всесторонними исследователями жизни. И в этом его зоркость, мужество и большая гражданская заслуга.
Но не все верно его поняли. Трудно было Яшину. Выручала упорная, до изнеможения работа. Кроме стихов, он очень много писал прозы. Теперь, листая это богатое, лишь в малой части опубликованное наследие, с изумлением узнаёшь, что, помимо рассказов, в 1957 году им была написана повесть «В гостях у сына», в 1960 – закончен первый вариант повести «Баба-яга», в 1961 – две повести «Сирота» и «Выскочка», в 1962 – «Вологодская свадьба», в 1965 – «Открывать здесь!», «Угощаю рябиной», «Подруженьки». Работа огромного размаха!
И через все эти вещи, при разности изображаемых в них характеров и событий, нервной молнией встаёт яшинское неприятие бюрократического, расчётливого, лукавого отношения к людям труда, неприятие всего фальшивого и закостенелого, что мешает пробиться в жизнь свежим порывам ищущего ума и сердца. Талант Александра Яшина, остро социальный по своей природе, обрёл в прозе и сатирическую отточенность, и публицистический блеск. Конечно, не всё в своей прозе он успел и смог довести до высокого художественного закала – времени не хватило, – но в лучших вещах предстал перед читателем как сильный писатель.
В повести «Сирота», одобрительно встреченной критикой, решается один из коренных вопросов нашего бытия: откуда берётся социальное иждивенчество и к чему оно приводит в людских судьбах… Два брата Мамыкины – Павел и Шурка, оставшиеся после войны без отца и матери на воспитании бабки Анисьи, идут в жизнь противоположными путями. Павел, подталкиваемый доброй, простодушной Анисьей, расчётливым председателем колхоза Прокофием Кузьмичом, приспособленцем Бобковым и многими другими, идет в ученье, «в люди» и скоро начинает понимать бедным умом своим, как важно ему для успеха иметь не столько знания, сколько «общественное сознание», то есть умение держаться на виду, быть напористым, говорить без зазрения совести высокие слова. И пользуясь той общественной добротой, которая заложена в существе Советской власти, он добивается для себя высоких благ и житейских удобств, но разрушается нравственно. Психологическое исследование этой проблемы проведено Александром Яшиным в современной литературе, кажется, впервые. Образ Павла Мамыкина, написанный точным пером, злободневен своей сутью и причинностью. Он словно знак, предостерегающий общество от опасности.
Шурка в отличие от Павла – здоровый, нравственно богатый характер. Писатель и тут задается вопросом: на чём же основывается эта цельность, порядочность и душевная отзывчивость. И, художественно раскрывая характер Шурки, отвечает: на уважении к тому миропорядку, который завещан отцами и матерями, на ответственности за свои поступки, на привязанности к труду. Образ Шурки, хотя и очерченный бегло, привлекателен своей жизненной надёжностью. В один ряд с ним встаёт Нюрка Молчунья, истинно деревенская, трогательно милая, работящая девушка, в чём-то напоминающая Галю из «Вологодской свадьбы».
В следующей повести «Выскочка» одной из главных героинь является тоже Нюрка – старшая свинарка, но уже не молчунья, а огневая спорщица, воительница, верная товарка Евлампии и Пелагеи, женщин, тянущих тяжёлый воз вместе с ней. В этой повести поставлен уже другой не менее острый вопрос нашего хозяйствования: как усилиями местных властей создаются так называемые «маяки» производства и зачем это делается вопреки действительному экономическому положению. Образ такой героини Елены Ивановны Смолкиной – совершенно новый в литературе. Несмотря на торопливость в обрисовке его, он убеждает своей правдивостью, вызывает и неприязнь и сочувствие, наталкивает на размышления о моральной и нравственной стороне дела. Заставляет задуматься и сам тезис, который лежит на председательском столе: «Какой же ты руководитель, если ни одной знаменитости не вырастил?»
Есть у Яшина до конца не отточенная, но настолько значительная по смысловой ёмкости повесть, что не упомянуть о ней просто нельзя – это «Баба-яга». Величавый образ старухи Устиньи, в одиночестве доживающей свой век в опустевшей на острове деревне, полон трагической мудрости. Председатель колхоза Парфён Иванович, представитель новых служебных веяний, всячески старается «перевезти» старуху на центральную усадьбу, а она с острова, где родилась, радостно и тяжело жила, никуда не едет, удивляя людей житейской стойкостью. И председатель отступается от неё. Это было написано – обратите внимание – в 1960 году. Слышите знакомое громкое эхо, прозвучавшее в литературе последних лет? Невозможно ещё раз не подивиться яшинской прозорливости, точности его пред-чувствования того, что непременно должно быть в жизни.
Не терпя душевной скользкости, Александр Яшин своей прозой призывал к просторной, честной, совестливой работе на земле, как того требуют наши высокие идеалы. И верил в силу своего слова, потому что взято оно было из-под самого сердца. В одном пленительно тонком рассказе «Журавли» он, вспоминая детство, с улыбкой поведал, как при отлёте журавлей кричали они, мальчишки, заговорные слова, то расстраивая птичий клин, то снова сбивая его в должный порядок. Та же вера в слово владела им до конца.
Проза требовала, что лён осенью, долгой вылежки. А стихи подступали, не давали покоя. Именно в эти последние годы свои Яшин создал три книги стихов – «Совесть», «Босиком по земле», «День творенья», ставшие ярким явлением в советской поэзии, вершиной его творчества и мастерства. Праздничные, цветастые краски, полыхавшие в ранних сборниках поэта, уступили место могучей, суровой простоте, беспощадно сверенной с самой правдой жизни.
- В несметном нашем богатстве
- Слова драгоценные есть:
- Отечество,
- Верность,
- Братство.
- А есть ещё:
- Совесть,
- Честь…
- Ах, если бы все понимали,
- Что это не просто слова,
- Каких бы мы бед избежали.
- И это не просто слова!
Часто живя на родине, Александр Яшин построил для работы дом «в получасе шаганья» от своей деревни Блудново, на высоком берегу Юг-реки, в величавом хвойном бору, где поднебесный шум навевает думы и речная прохлада освежает сердце. Стихи рождались вместе с травами, цветами, листопадом, дождями, снегами – с той же самой естественностью, как и явления природы, оттого теперь их и время не пошатне́т, а только жарче год от года будет опламенять своим дуновением, выявляя скрытый в них огонь чувства и мысли.
Творческая командировка писателей в аэропорту. Третий справа А. Яшин, левее А. Романов, В. Коротаев, В. Белов, Л. Беляев, сидят Б. Чулков, С. Чухин
Как горько, что недолго здесь довелось ему поработать. Шумят над его могилой на Бобришном угоре три берёзы, памятные всем, в ком крепнет обострённое чувство Родины. И теперь, когда на древних российских землях начались преобразования, о которых так долго тосковало яшинское сердце, парни, подобные Шурке Мамыкину из повести «Сирота», разворачивают трактора, автомашины и комбайны, а деревни ждут девушек, похожих на Нюрку, чтоб возвратить им в домах утрачённое «красное место». Ведь молодой человек в деревне без семьи – какой же он крестьянин? И без зелёного сада-огорода, без крепкого двора, обогретого сеном и коровьим дыханием, – какой же он радетель родного поля? И без тепла души – какой же он хозяин родной стороны? Не зря сказано: «Начинай устройство поля с устройства собственной души».
Обо всём этом думал-передумал Александр Яшин. Он давно понял, что только так можно поднять свежий ветер обновления родной земли. И его завет «Спешите делать добрые дела» будет услышан многими поколениями.
1980
Думы о Сергее Орлове
Облик
Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли…
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли.
Эти строки я впервые не прочитал, а услышал и сразу запомнил лет тридцать тому назад. Услышал их от самого автора. И с той поры в душе у меня жив его негромкий, чуть торопливый, без ораторских нажимов, буднично убеждённый голос. Это была самая первая встреча с Сергеем Орловым. В тот год, осенью, когда от белого Софийского собора мела в реку Вологду берёзовая позёмка, он приехал в наш пединститут. Собственно, он приехал к своим товарищам, тоже фронтовикам, Сергею Викулову и Валерию Дементьеву, но поскольку они в институте «возжигали» среди студенчества первый после войны литературный костёр, и состоялся тот памятный поэтический вечер.
Обстановка в институте в те годы была яркой: наполовину фронтовики, наполовину мы, ребята и девчонки, только что окончившие школу. Разница в возрасте с фронтовиками была всего в несколько лет, но эти военные годы разделили нас на два берега – один высокий, другой низкий. Нам со своего берега не дано было взойти на их берег, а они всё могли: и вступить на наш берег, и навести переправы в будущее. Мы на них, ходивших ещё в гимнастерках, смотрели с тихим восторгом. И когда они вводили нас в свой дружеский круг, это было честью и приобщением к тому времени, грозные меты которого остались у них в походке, на руках и лицах.
Продолговатый актовый зал переполнен. Вологда, всегда чуткая и отзывчивая на имена своих земляков, уже слышала о Сергее Орлове. В Ленинграде у него только что вышли первые книги. И вот он сам. Что-то необычное, огневое было в его облике: рыжеватая, словно опалённая борода, пепельное буйство волос, горящий взгляд. Молодой, подтянутый, по-студенчески распахнутый, стоял он на сцене.
После нескольких слов привета, сказанных смущённо, но душевно, стал читать стихи. И не все сразу поняли, что это уже стихи, потому что читал просто, словно разговаривал. Даже рифмы угадывались не всегда. Читал он без жестов, лишь руку вскидывал, чтобы откинуть со лба волосы. Читал как исповедовался в делах своих на войне. И эта негромкость и простота постепенно становились обжигающими: длинный зал до самых последних рядов замер не дыша.
Вот тогда-то я и услышал многие ныне ставшие знаменитыми его стихи о солдатском подвиге на Великой Отечественной войне, запомнил и солдатский облик дважды горевшего в танке самого Сергея Орлова. Духовная озарённость, огромная мыслительная работа, цельность натуры чувствовались в нём.
В разные годы вплоть до самых последних его дней у меня было немало встреч с Сергеем Орловым, но та, первая, так запала в сердце, что всегда я видел поэта таким, как в тот раз, далёкой вологодской осенью.
«Кто говорит о песнях недопетых?» Мы все говорим, горестно и беспомощно сетуя на невосполнимые утраты. Говорим, жалеем, а надо бы молча и тревожно задуматься, насколько коротка человеческая жизнь и как надо уметь прожить её в полную меру для людей, Родины, будущего. Сергей Орлов это понял ещё совсем юным, на войне, когда хоронил друзей, своих одногодков, и сам много раз умирал.
Он понимал это и тогда, когда в кромешном аду торопливо записал в блокноте:
- Нам не страшно умирать,
- Только мало сделано,
- Только жаль старушку мать
- Да берёзку белую!..
И тогда, когда чеканил бронзовые строки: «Его зарыли в шар земной…»
Но поэзия возвращала его к жизни. И он всю жизнь, всю без остатка, вложил в поэзию.
Поэтическая фреска
В одно жаркое лето в пятидесятых годах Сергей Орлов и Михаил Дудин приехали в Вологду. Мы встретили их на вокзале и вместе поехали в гостиницу «Северная». Гостиница эта в центре города, на площади, как высокий узорный торт на блюде. Она старая, ещё купеческая и прежде называлась «Золотым якорем». Помню, Орлов, щурясь от солнечной красоты здания, остановился на площади и сказал: «Ну, какая же она «Северная», она точно – «Золотой якорь». Да, умели строить!..»
Раскрыв большие жёлтые, в ремнях портфели, бывшие в то время новинкой и опахнувшие нас ленинградским, праздничным духом, гости отдыхали в прохладе номера и не спеша, по-свойски разговаривали с нами, тогда молодыми журналистами из комсомольской газеты. А потом, когда спала жара, мы вместе пошли гулять по городу. Любовались – уже в который раз – Софийским собором, чётко и легко взметнувшимся в закатное небо, тихой гладью реки, где у берега с плота женщины полоскали бельё, а по другую сторону, словно опрокинутые в воду, отражались старинные церкви.
И эта милая незатейливость будничного женского дела, и вековой узор отражённых куполов овевали нас вечерней поэзией.
Затем миновали мы Каменный мост, многолюдную площадь и остановились в парке у одинокой церкви Иоанна Предтечи. С виду она обычная, зато внутри расписана такими жаркими, сочными фресками, что по окончании работ в семнадцатом веке тогдашний вологодский владыка долго не осмеливался освятить её, посчитав роспись кощунственной и даже срамной. Смятение владыки тем более усилилось, что на ту пору прибыл в Вологду молодой и грозный государь Пётр Первый. Легенда рассказывает, что владыка в страхе всячески отводил царя от церкви, но тот пожелал её видеть. И вот Пётр, кидая в трепет местное священство своим ликом, ростом, силой и пуще того табачным дымом, встал, расставив ноги посреди церкви, зорко оглядел красочные стены и расхохотался. Роспись ему так приглянулась, что он тут же заставил владыку освятить новый храм…
Всё это мы поведали нашим гостям. Помню, Сергей Орлов, оживился необычайно, шёл, оглядываясь на церковь, и долго улыбался, не вступая уже в другой наш разговор. А потом сказал, что надо сходить к Петровскому домику. Такой домик, каменный, узорный, в котором когда-то жила вдова голландского купца Гутмана и где, по легендам, в свои приезды в Вологду останавливался Пётр, и поныне белеет на высоком речном берегу (в нём филиал краеведческого музея). И мы пошли туда. Он был открыт.
В Петровском домике немного вещей, но зато есть подлинные: камзол и кубок. Сводчатый потолок, низенькие окна на реку – всё это давало толчок для воображения. Недолго мы были здесь, каких-то полчаса, но на другой день Сергей Орлов написал яркое и густое стихотворение «Пётр Великий в Вологде». Оно похоже по полнокровной манере на одну из буйных по своим краскам фресок на стенах церкви Иоанна Предтечи.
- Как колокольня ростом длинен,
- Сажень в плечах, глазаст, усат,
- Царь прибыл в город по причине
- Совсем не царской, говорят.
- В ботфортах, сшитых саморучно,
- С дубиной, струганной ножом,
- На складах пристанских, как крючник,
- Царь околачивался днём…
Малое стихотворное пространство, всего в сорок четыре строки, вырывает из далёкого времени, приближает, ставит перед изумлённым взором в солнечной освещённости, предметности, подвижности самую ту жизнь, зримые людские лики, размашистый, будничный образ государя, которому за речкою Вологдой видятся не леса да поля, а море, флаги, корабли – российский флот! И тут же теснятся лёгкие, живописные очертания той далёкой, минутной для Петра женщины:
- Ах, либе Анна, либе Анна,
- Вдова голландского купца,
- Добра, вальяжна и желанна,
- Хотя и девочка с лица…
- И Анне в горнице не спится,
- Опять на дереве в окно
- Поёт томительная птица
- И жжёт в постели полотно.
Речь тут не о летописной точности, а поэтическом чувстве историзма и о силе талантливого слова. Всем этим Сергей Орлов был наделён щедро.
Урок
Приехал однажды я в Ленинград в ту пору, когда Сергей Орлов вёл отдел поэзии в журнале «Нева». Отыскал на Невском редакцию, сдерживая волнение, вошёл в большую комнату, напоминавшую старинную гостиную, и увидел земляка в кругу не знакомых мне людей. Табачный дым клубился над их кудлатыми головами. Орлов не сразу заметил мой приход, но, когда я подошёл поближе, он вскочил и обнял меня. Всё такой же, только усталый. Отвёл в сторону и сразу же спросил, привёз ли я стихи. Стихи, конечно, лежали в портфеле, но было так неловко, страшновато их отдавать, что я замялся.
– Давай, давай, показывай, – торопил Орлов, – сейчас же и отберём для журнала…
Пришлось стихи показывать. Сергей Сергеевич закурил сигарету, достал из кармана сточенный – в мизинец – карандашик и стал пробегать строчки прищуренными глазами. Я отошёл к высокому окну и замер. Шумел, кипел за окном Невский, но я ничего не видел.
– Вот это, это и это, – сказал Орлов, удивив меня быстротой чтения и решительностью отбора стихов. – А эти затянуты, – и его карандашик пролетел по моим страницам. – Надо писать короче! – Он повернулся ко мне, с улыбкой пощипывая свою бороду. – Скажи, эти длинные стихи ты писал за столом, а вот эти – на ногах… Не так ли?
Я опять удивился: это, действительно, было так.
– Вот то-то, – он остался доволен своей догадкой. – Знаешь, я почти всегда пишу на ногах. Не пишу, конечно, а складываю и запоминаю. Записываю лишь потом, и задерживаются на бумаге только стоящие строчки. Вот ты вернёшься домой, положи эти стихи в стол, а сам уйди в лес. Поброди, а потом вслух, по памяти восстанови и прочитай – половина строчек останется в лесу…
Я так и сделал. С той поры много-много моих строчек, никому не известных, зацепились за кусты да хвойные ветки и навсегда там остались.
Холодные цветы из Пекина
В другой раз, в начале шестидесятых годов, приехали мы в Ленинград с Сергеем Викуловым. И сразу же к Орлову. Он встретил, как всегда, распахнуто. Но сам внутренне был чем-то угнетён. Это замечалось и по задумчивым его паузам, и по не такому острому, как обычно, вниманию к деревенским делам, о которых мы рассказывали с жаром.
Мы сидели в кабинете его большой ленинградской квартиры, где много книг, особенно поэтических, и возле окна письменный стол, без единого на нём листка. Потерев нервно виски, Орлов неожиданно сказал:
– А я только что из Пекина…
Не помню, как Викулов, а я ничего тревожного тогда не знал о Китае и только тут впервые услышал.
Орлов с горечью поведал о многом. Он был в Китае в составе узкой писательской делегации как раз в пору начинавшегося враждебного курса Мао Цзэдуна. Был уже закрыт свободный доступ ко многим местам, интересовавшим писателей, стеснено общение с рядовыми китайцами, и узкий металлический взгляд на каждом шагу упирался в спины русских.
…Уже после кончины поэта во втором номере журнала «Наш современник» за 1978 год читатели увидели его стихи той поры:
- Пусто в городе Пекине,
- Все дома темным-темны,
- Только звёзды в небе синем
- Над Пекином зажжены.
- Два китайские солдата
- Повстречались нам впотьмах,
- Два знакомых автомата
- Дулом книзу на ремнях.
- Ни машин, ни пешеходов,
- Ни китайских фонарей,
- Молчаливо спят у входов
- Морды каменных зверей.
- В магазине на витрине
- Только лозунги видны.
- Пусто в городе Пекине,
- Но у каменной стены…
- Два китайские солдата
- Повстречались нам впотьмах,
- Два знакомых автомата
- Дулом книзу на ремнях…
Картина мрачная и холодная. Ещё не зная многого из того, что мы узнали о Китае через пять – семь лет, поэт, только соприкоснувшись с «каменной стеной», сразу почувствовал людское отчуждение, и холод пробежал по его строкам. «Два знакомых автомата» – ему ли, Орлову, не узнать было отечественного оружия, по-дружески переданного нами и вдруг зловеще представшего в пекинском сумраке. Можно понять, какая суровая тревога коснулась сердца поэта, столько пережившего на недавней мировой войне, и какая горечь полыхнула в нём, когда в Мукдене увидел он в полном запустении памятник своим побратимам, советским танкистам, освобождавшим Азию от японских захватчиков и погибшим там.
- Камешку в Мукдене
- Двадцать пять годов.
- На его ступенях
- Никаких цветов.
- В городе Мукдене
- Камень в сто пудов.
До Сергея Орлова в нашей поэзии ещё не было таких стихов. Их продиктовало чуткое, мужественное сердце поэта.
…И в тот далёкий ленинградский вечер живые детали, самые малые приметы увиденного и почувствованного Орловым во время поездки в Китай глубоко взволновали нас.
В кабинете появились Виолетта Степановна, жена поэта, и его мать Екатерина Яковлевна, и Сергей Сергеевич, задёрнув на окне штору, стал показывать нам снятую им в Китае любительскую цветную киноленту.
– Вот всё, что разрешили нам снять, – сказал он, настраивая в темноте проектор.
На стене вспыхнули дивные краски, заколыхались цветы, цветы, цветы… Их было много, самых разных, редких, причудливых. Но они не радовали нас. Они казались нам холодными, словно в инее на белой стене.
Белые сквозняки
Занятый журнальными делами в Ленинграде, а потом секретарскими – в Москве, в Союзе писателей РСФСР, Сергей Орлов душой часто рвался в синеву Белозерья, но приезды его на родину были редки. Командировочные задания уводили его совсем в другие места: и по нашей стране, и по многим странам Запада и Востока. В сутолоке вокзалов, в громе аэродромов он тосковал по прохладной тишине родного Севера.
- Всюду с рёвом города
- На земле зимой и летом
- Низвергались в никуда,
- Словно водопады света.
- Не было ни зим, ни лет,
- Были тропики и холод,
- Снег и пальмы. Белый свет
- Мчался, как волчок весёлый.
- Но однажды на краю
- Взлётной полосы, на пашне,
- Вдруг припомнил жизнь свою
- Разом всю, как день вчерашний…
- Вспомнил молодость свою,
- Как горящую ракету
- В том бою, году, краю,
- И ушёл, и сдал билеты.
Много ныне по-туристски странствующих поэтов. Пестрота пейзажей и городов – это приставленная к глазам разноцветность игрушечного калейдоскопа: стёклышки крутятся, выстраиваясь на миг то одним, то другим узором, и зажигают глаза – тоже на миг – усталым удивлением. Такое видение не задевает сердца, не будит мысль, а только тешит тщеславие.
Поездки же Сергея Орлова были граждански заострёнными. Его вело желание ощутить космический ветер времени, примерить правду, выстраданную им и его Родиной, к жизни иных народов и земель. И всегда в нём по-фронтовому горело чувство защитника и вестника этой правды.
Родина для человека, духовно не связанного с её историей и культурой, всего лишь паспортное обозначение. Такой человек не живёт, а проживает, словно очутился по воле случая на временной пристани. Дунет непогожий ветер – и унесут его волны бог знает куда… Устойчивость человека покоится на чувстве Родины. Родное видится и вширь, и вдаль, и вглубь любящему сердцу.
Сергей Орлов тревожно любил Россию. Вся его огневая поэзия – признание в этом.
- Россия – Родина моя,
- Холмы, дубравы и долины,
- Грома морей и плеск ручья,
- Прими, Россия, слово сына!
- Ты стала всем в моей судьбе,
- А мне за жизнь свою, признаться,
- Как матери, в любви к тебе
- Не доводилось объясняться…
- Россия – Родина моя!
- Цвет знамени, цвет ржи, цвет неба —
- В них слава древняя твоя
- Взлетает с новою на гребень.
И видел он, видел, когда складывал эти строки, синеву родного древнего Белозерья точно так, как Александр Яшин, создавая многие свои книги, видел сосновые гривы и ржаные озера отеческого угла за Никольском-городком. А Николай Рубцов – болотные, клюквенные, глухие просторы за Тотьмой. В этой смотровой направленности не узость, не ограниченность взгляда, а прикосновение к тайному огню поэзии – родине.
- Светлый Север, лес дремучий
- В узорочье, в серебре…
- Как медведи, в небе тучи
- Чёрно-буры на заре.
- Ели – словно колокольни,
- Тишина, как спирт, хмельна,
- И из трав встаёт над полем
- Рыжим филином луна.
- Пенье вёсел, скрип уключин,
- Рокот журавлиных стай…
- Не скажу, что самый лучший,
- А милей всех сердцу край!
В последний раз мы встретились с Сергеем Орловым в Вологде за два месяца до его кончины. Он приехал вместе с художниками как член Комиссии по Государственным премиям для осмотра в здании драмтеатра прекрасно выполненного интерьера, выдвинутого на соискание премии. Встретились мы опять-таки в старом «Золотом якоре». В городе появились уже новые гостиницы, но Орлов всю жизнь был верен своим первым привязанностям – остановился там, где много раз останавливался прежде.
Пришли мы в номер с Леонидом Николаевичем Бурковым – другом юности Орлова по Белозерску, человеком военным, душевно любящим поэзию и поэтов. По-братски обнялись, расселись друг против друга, и так стало хорошо, тепло от взаимной близости. Никаких особых перемен в Сергее Сергеевиче мы не нашли, разве что след утомлённости да то, что он отказался курить («Бросил, братцы, бросил!»). Разговор вёлся разный, живой, переходил от одного к другому, как бывает, когда давно не встречались близкие люди. Потом Орлов на правах хозяина потащил нас в гостиничный буфет, где было в глиняных горшочках тёплое топлеёное, с коричневой пенкой молоко.
– Надо же, – восхищался он, – молоко-то какое! Ну, Вологда! Прямо как в детстве… А помнишь, Леня… – и, бережно держа горшочек, отпивал из него и, по-молодому радуясь, переговаривался с Бурковым.
Я тут вспомнил его давние запашистые, густые стихи «Кружка молока» и ещё раз ощутил нежность и солнечность его души.
Поздно вечером мы собрались на квартире Буркова. Жена Леонида Николаевича Ангелина была очень рада такому гостю, как Сергей Сергеевич. На столе появились свежие в сметане рыжики, разваристая картошка, пареная брусника, горячие блинчики с малиной, клубникой, черникой…
Автограф С. Орлова
Сергей Сергеевич, раздевшись по-домашнему, отдыхал, расспрашивал Буркова об общих знакомых, о белозерских местах, жалея, что на этот раз самому не добраться туда. Он ел бруснику, собранную на родине, неторопливо, ложечками, удивляясь её особому вкусу, хотя она была такая же, как и везде. А потом, как бы желая отблагодарить земляков, сказал, что он прочтёт стихи, которые посвятил Буркову в память об одной совместной, давней – лет пятнадцать назад – вылазке в Кирики Улиты, красивейшее местечко под Вологдой, где когда-то обвенчался Сергей Есенин с Зинаидой Райх.
– Вот только на днях закончил, – улыбнулся Орлов, – а столько лет собирался, столько лет в себе носил…
Это признание всех взволновало: вот стихотворение, писавшееся годами!
Иной слушатель или читатель в такое может и не поверить, он почему-то всегда думает, что стихи, тем более короткие, создаются в один росчерк пера, но мне-то было известно, что стихи возникают по-разному.
Сергей Сергеевич, как всегда, начал просто, лишь постепенно воодушевляясь, переносясь взглядом в минувшее:
- Церковь Кирики Улиты,
- Рыжий, красный березняк
- Почему-то не забыты,
- Не забудутся никак.
- Вспоминаются нежданно
- Без причины и тоски
- Небеса, в лесу поляны,
- Под ногами рыжики.
- А от церкви следу нету,
- Только этот березняк
- Льётся, льётся белым светом,
- Продувает, как сквозняк…
Осенней прохладой, лесом, листопадом веяло от слов, да и сами слова, что берёзовые листья, задумчиво и закатно плыли в застольной тишине, вызывая из глубины души грустную есенинскую строку «Отговорила роща золотая».
- Церковь Кирики Улиты…
- Всё рассыпано давно,
- И ищи ты не ищи ты —
- Не отыщешь… Всё равно.
- Почему-то не забыты,
- И звучат, плывут слова:
- Церковь Кирики Улиты —
- Словно в небе острова.
Стихи были прочитаны в минуту-две, а настроение наше, озарившись ими, до конца гостеванья было уже иным, как бы приподнятым над будничностью домашней обстановки. Никаких особых слов, кроме искреннего спасибо (да Орлов и не любил порывистых похвал, всегда смущался от них), мы не сказали, – лишь я попытался выразить свое восхищение образом «только этот березняк льётся, льётся белым светом, продувает, как сквозняк» да начал было что-то говорить о жизнетворящей и ёмкой силе поэтического слова вообще. Но Сергей Сергеевич задумчиво помолчал и очень мягко, душевно предложил тост – последний – за хозяйку дома.
Расставались хорошо, тепло, и теперь горько сознавать, что это расставание оказалось навеки.
Свет мужества и мысли
Настоящие стихи обладают двойным свечением: одним – при жизни поэта, другим – после него. То, что не замечалось в стихах при ощутимой близости их автора, сразу же и по-особому значительно замечается, когда автор уходит от нас и оставляет нас навсегда только со своими строками – уже ничего он не поправит, не добавит, не переделает. Даже те стихи, которые при жизни поэта представлялись не главными его стихами, а второго, а то и третьего плана, вдруг обретают не видимую ранее глубину, и внимательный читатель как бы уже иным, обострённым зрением улавливает в них далёкие и существенные связи во времени. Даже запятые и многоточия, порой даже корявости слога воспринимаются совершенно иначе: в них находится свой смысл.
Это похоже на то, когда в пору доброго, тёплого лета входит человек в широкошумный лес и, обрадованный буйством жизни, воспринимает природу крупными картинами: вон сверкают березняки, вот струятся осинники, вон лохмато и зелено дыбятся ельники. Но только дохнёт холодом осень – и каждое дерево горит наособицу. Становятся выделенными по-своему даже малые кустики, незаметные летом чащобные закоулки, разные полянки, бугорки и кочки… Осень сразу подчёркивает особенность каждого дерева и куста, выявляет их собственную мету в общем пламени… Так и стихи ушедшего от нас поэта сразу озаряются светом времени, точно и зримо выявляя заключённую в них меру пережитого, меру душевной правды.
Мера душевной правды в поэзии Сергея Орлова равна правде времени, им пережитого.
Мужество как непреложное действие, как сверка своих поступков с высоким патриотическим примером, всегда сурово в оценках. Для Орлова таким примером неизменно была фронтовая дружба, фронтовая молодость, заслонившая собой Отечество от смертельного удара.
- Приснилось мне жаркое лето,
- Хлеба в человеческий рост,
- И я восемнадцатилетний
- В кубанке овсяных волос…
В окопных потёмках глазами уже фронтовика, чудом оставшегося в живых, он видит себя в довоенной тишине, восемнадцатилетнего и беспечного, не подозревающего, что его скоро ждёт вражеский свинец. Ещё можно, ещё есть малый срок подсказать этому наивному мальчику, чтобы он повнимательней оглянулся вокруг себя, порадовался жизни, открыв ему, что ждёт впереди, но нет… «что положено кому, пусть каждый совершит». И идёт этот мальчик, восемнадцатилетний Серёжа Орлов, прямо в огонь, в смерть, и он же, уже Сергей Орлов, мужественно заключает стихотворение о самом себе такой потрясающей строкой:
- И я не окликнул его.
Молодость даётся человеку для запаса духовной крепости и чистоты на всю жизнь. Не зря сказано: «Береги честь смолоду». Расслабленность нравственная и физическая в эти годы – кривые дороги в будущее. У Сергея Орлова дорога жизни была прямой. И в самом начале её – фронтовые друзья, танкисты-побратимы, и сам он, лейтенант, среди чёрных снегов, с пистолетом в руке под вражеским огнём… Да, ему было на кого оглянуться, было по кому сверять свой житейский путь до последнего часа. И этот путь пламенем высвечен в его поэзии для нас и для потомков.
Я люблю перечитывать книги Сергея Орлова. И на примере его убеждаюсь, что сила настоящих стихов лучше всего проверяется в обстановке, контрастной с той, какая в них дышит.
Вот я дома, в своей деревеньке, зажатой со всех сторон белыми снегами и сизыми лесами. На стене фотография отца, тоже лейтенанта, тонувшего со своим взводом в волховских болотах и пробиравшегося, как Орлов, под сплошным огнём в сторону Мги, Ленинграда, Новгорода, трижды раненного и сложившего свою голову под Выборгом. В доме тишина, мать, уже старая, седая, заботливо хлопочет в кухне – родной деревенский уют. Я читаю Сергея Орлова – и душа моя, отзываясь на каждую строку, озаряется, скорбит, омрачается, возвышается, и нету для меня тишины, нет покоя.
Вот я в Крыму, в Коктебеле, где много раз бывал и Сергей Орлов. Слепит голубой волной Чёрное море. В распахнутую бухту, обрамлённую причудливыми утёсами Карадага, бегут с белыми гребнями, торопят друг друга тёплые волны. Неслышные вдали, они чем ближе, тем шумней катятся к каменистому берегу и в солнечных брызгах, в мгновенных радугах, в кружевном кипенье разлетаются по выгнутому, бронзовому от загара пляжу. Чудо лета!
Над пёстрым праздничным многолюдьем набережной, над курортной раздетостью зелёными фонтанами всплёскиваются в небо пирамидальные тополя, плывут купы белых акаций, радует глаз лёгкая и прохладная облачность ещё каких-то не знакомых мне деревьев и растений. Чудо мира!
А в книге Сергея Орлова, которую тут же, на пляже, читаю, грохочут бои, лязгают танки, горит Россия. И от дымной гари тех грозных дней горчит в горле, горчит на сердце даже в такой сказочной близости моря. Возникают из небытия живые лица людей, спасших этот мир, воочию встают военные годы, простираются дороги, по которым летела и поныне летит к грядущим дням вдохновенная мысль Сергея Орлова.
Дождинка на лице
Ночью был дождь. Липы потемнели, малина зарделась от капель. Я иду в пристройку деревенской баньки, где в затишье разложены мои бумаги, а сверху на них – книга стихов Сергея Орлова. И я вижу, что на обложке книги сверкает дождинка. Обложка – портрет поэта. И кажется, и мнится мне, что на его лице, столь знакомом и дорогом, живая капля неба. И крупное, прекрасное в раздумье лицо оживает от неё и светится доподлинно, во плоти – будто поэт раздвинул мокрые ветви и приветливо глядит в утреннее оконце.
- Без следа исчезну, только где-то
- На земле дождинка упадёт…
Эти строки из его посмертной книги «Костры». Она тут, передо мной. Я не стряхиваю с неё дождинку – смотрю на Сергея Орлова. «Без следа исчезну…» Как же он мог такое написать? По своей скромности? Нет, написал он грустные слова по своему космическому ощущению мира. Талант – это дума о великой тайне жизни и смерти, о сущности человека и соответствии его дел нравственному закону бытия. Поэзия Сергея Орлова – именно такая дума, мужественная по-солдатски.
Вчитываться, входить в неё надо неторопливо: она плотно насыщена временем, густотою красок жизни, огнём борьбы за Родину. В ней собран горьковатый мёд значительных истин. Даже сама форма орловского стиха – предельно краткая – высечена мудростью поэта.
Говорят, что ныне модно писать философские стихи. Надо же так извратить суть поэзии, чтобы к ней применять это узколобое слово «модно»!
Лишь наглые бездарности трясутся с ним и пыжатся соответствовать всякой моде, ибо не в силах постичь глубину противоречий нынешнего времени. Философия – ветвь жизни, мода – жалкие прививки на ней. И жалкие, вымученные «философские стихи» сразу же превращаются в паутину ложномыслия, если даже на миг сблизить их с поэзией, подобной орловской. Сергей Орлов весь подлинно философичен. Я уж не говорю о таких шедеврах, как «Его зарыли в шар земной», где трагизм века космичен, а подвиг советского солдата всечеловечен, – в любом стихотворении, хоть раскрывайте наугад, у Сергея Орлова – своя сокровенная мысль, своё звучание души. С его поэзией человеку надёжнее жить в грозном мире.
Толкуют, что ныне в литературе маловато так называемых положительных героев, что ученики средних школ затрудняются при работе над сочинениями в поисках образа современника. С грустью слушаю я такие разговоры и думаю: а разве в поэзии, скажем, Сергея Орлова не создан, не исследован, не запечатлён мощью и красотой лирики широкий, могучий характер русского человека на войне и в мирных буднях? Да талантливейший поэт жизнь свою положил, чтобы остался в его поэзии, а значит, и в памяти новых поколений, благородный образ молодого их соотечественника – защитника и строителя Родины, озабоченного, как ведётся на Руси, судьбами общечеловеческими.
Да и сама жизнь поэта, его личность – это ли не выражение глубинных черт настоящего русского человека!
Но наша средняя школа ещё не прочитала Сергея Орлова, как и других поэтов фронтового поколения. Лишь Александр Трифонович Твардовский прочитан, да и то частично. А ведь в молодых людях, вступающих в двадцать первый век, в непредвиденно сложное будущее, Родине необходимо видеть те чёткие и надёжные черты, которые видела она в юных, непреклонных лицах орловского товарищества.
…Золотится оконце. Звенит ранняя пчела. Дождинка на портрете уже истаяла. И лицо поэта как бы отодвигается от меня в глубь августовской зелени, в рыжие проблески ячменного поля, в синюю даль неба и земли.
- Я землю эту попирал ногами,
- К ней под обстрелом припадал щекой,
- Дышал её дождями и снегами
- И гладил обожжённою рукой.
- Прости, земля, что я тебя покину
- Не по своей, так по чужой вине,
- И не увижу никогда рябину
- Ни наяву, ни в непроглядном сне.
Врываются в меня тревожно и больно эти самые последние строки Сергея Орлова и остаются в сердце навсегда, до крайнего моего часа.
Улица
Лето 1978 года. Вологда, не успевающая в редкие солнечные дни просыхать от дождей. На зелёных газонах, как весной, вода, с тёплых крыш вьётся туман, по бульварам в ослепительной капели выстроились берёзы и рябины. Простор, вымытый дождями… Сергей Орлов любил такое состояние природы.
Как бы заново вглядываясь в город, мы с работником горисполкома неторопливо ездим по улицам. Ездим час, другой. Останавливаем машину, выходим, взыскательно осматриваем хорошо знакомые нам места. Мы ищем в Вологде улицу, которую можно достойно назвать именем Сергея Орлова. Улиц, конечно, много, но они уже названы давно и найти, выбрать из множества одну для такого имени ответственно. Однако надо, обязательно надо, потому что поэт через всю свою жизнь и своё творчество нежно пронёс сыновний поклон Вологде.
Поэты и друзья: Леонид Бурков, Александр Романов, Сергей Орлов, Михаил Дудин, Энгельс Федосеев на берегу Вологды. 1959 г.
И вот, кажется, эта. Да, пожалуй, эта. Именно эта! На ней желтеет старое здание пединститута, где Сергей Орлов не раз выступал со своими стихами, высится белая громада Софийского собора, которая его изумляла, и привольно плещется зеленью Соборная горка, где он, обдуваемый ветром с реки, подолгу задумчиво стоял и смотрел в заречные дали… Так Вологда утвердила имя поэта в самом своём сердце.
1979
Родовое древо
О поэзии Сергея Викулова
Так бедственно покачнулась наша жизнь, что прямо на слуху строки Сергея Викулова:
- Всему начало – плуг и борозда,
- Поскольку борозда под вешним небом
- Имеет свойство обернуться хлебом.
- Не забывай об этом никогда:
- Всему начало – плуг и борозда!..
И я, повторяя это замечательное стихотворение, думаю о самом поэте, верном российскому крестьянству. Впервые с Сергеем Васильевичем встретился я в 1948 году, когда ему было 26, а мне 18. Я только что поступил в Вологодский пединститут и таил про себя тетрадку со стихами, а он, фронтовик, уже учился там и печатался в «Красном Севере». Он первый из поэтов заботливо прочитал эту тетрадку и решительно поддержал меня в творческих исканиях. Такое никогда не забывается.
Воин-поэт. С. В. Викулов
И поныне в близкой яви вижу я молодого Викулова в офицерской гимнастёрке (он закончил Отечественную войну в Венгрии капитаном). На его осунувшемся лице серые глаза казались мне огромными, изголуба сиявшими, будто в них таились отсветы, с родины его, с Белого озера. Весь институт уже любил его стихи, и на вечерах в переполненном актовом зале он, статный и высоколобый, ступал на сцену и, широко развернувшись, читал свою «Рыбачку» – знаменитое тогда молодое стихотворение.
- Тянут чайки в даль просторную
- И кличут на лету,
- А она стоит, задорная,
- Смеётся на плоту.
- Свежий ветер треплет волосы,
- Шумит по берегам.
- Золотую солнце полосу
- Ей бросило к ногам…
То послевоенное время было трудное и голодное – не во что одеться и нечего есть, а студенческая молодежь такой нужды словно и не замечала – она жила наукой и поэзией! Мы в обморок падали от истощения, а от книг, от стихов не отрывались. В народе горела надежда на своё завоёванное будущее, а в нас, юных, кипела победная гордость жизни! Поэтому свою первую книгу стихов Сергей Викулов и назвал «Завоёванное счастье».
И если глянуть глазами тех – пятидесятых – лет на сегодняшнюю нашу разруху, творимую по чужому наущению и плану, то можно ужаснуться и подумать, что власти, правящие Россией, сошли с ума. И, обезумев, добровольно вскинули руки и поползли на коленях за долларом на Запад. Вот что значит растрясти в политических страстях своё национальное достоинство и позариться на позолоченный капкан чужих миллиардов!..
С. Викулов, А. Романов, Н. Шумилов
Уж до поэзии ли теперь! Ведь поэзия – это свободный порыв к истинам, ещё не познанным, и к красоте, ещё не виданной. Поэтому и самый первый знак утраты своего национального будущего – это исчезновение из народной жизни именно поэзии и искусства как её светоносности и радости.
- Оглядываюсь с гордостью назад:
- Прекрасно родовое древо наше.
- Кто прадед мой? Солдат и землепашец.
- Кто дед мой? Землепашец и солдат.
- Солдат и землепашец мой отец.
- И сам я был солдатом, наконец…
Так звучит надо всей нынешней разрухой жизнеутверждающий, заставляющий вспомнить, кто мы есть и откуда идём, поэтический голос Сергея Викулова. У многих поэтов опускаются теперь руки от безысходности, а он упорно ищет просветы и выходы из трагедии нашего крестьянства…
И недавние его стихи звучат свежо и мудро.
- О, не казнись раскаяньем напрасно
- И не таи на прошлое обид:
- Что сделано – то нам уж не подвластно,
- Подвластно то, что сделать предстоит.
1995
Путь правды
О Василии Белове
Давно ли, кажется, жёсткие полки укачивали нас с Василием Беловым в поездах, уходивших из Москвы в Вологду. Мы располагались в вагоне высоко, друг против друга, и совали под головы вместо подушек свои студенческие рюкзаки. Внизу шумел и затихал народ, там уже вязко, словно тина, оседали сны, не поднимаясь до нас, возбуждённых дорогой к родному краю. Впереди простиралась целая ночь уединённых – полушёпотом – разговоров. Ах, о чём только мы и не переговорили тогда!
Радостно открывать друг в друге сходство пережитого и передуманного. Дорого видеть понимание твоей души близким человеком и чувствовать, что и его душа доступна тебе. Щемяще сладко делиться с ним обступающими тебя впечатлениями и замыслами и вместе замирать от волнения перед их грандиозностью. Тревожно подъезжать издалека, после долгого перерыва, к своей родине. Глядя в утреннее окно вагона, мы затихали и уже молчаливо, неотрывно смотрели на мелькавшие, летевшие навстречу нам поля и деревеньки. Мы с какой-то неизъяснимой болью замечали в них такие перемены, которые не видны были равнодушному взгляду. Это текла земля нашей судьбы и нашего творчества. Давно ли, кажется, всё это было…
И вот Василию Белову – пятьдесят лет. Юбилеи настигают нас внезапно. Юбилеи жизни, а не работы. Работа не знает юбилеев. Позавчера окликает он, Василий Иванович, меня на улице. Идёт стремительно, в лёгкой ладной куртке, в молодцеватой кепке, взбодрённый октябрьским холодком. Свеж лицом, глубок взглядом, крепок походкой. «Куда торопишься?» – спрашиваю. «А, – машет рукой, – всё юбилейные заботы, а дело опять стоит». Смотрю я на него, удивительно талантливого человека и мужественного работника в русской литературе, и радуюсь, что судьба когда-то свела нас вместе, одарила дружбой, а главное, радуюсь тому, что он, Василий Белов, есть в жизни нашего народа, есть в нашем тревожном и сложном времени.
В 1965 году Александр Яковлевич Яшин в одном из многих писем, помимо всего прочего, писал мне: «Васю Белова слушайте и даже слушайтесь (простите меня за откровенные поучения). Поймите: это очень большой талант, большой писатель и умница. Это – редкий человек. И никакая дурь ему никогда в голову не ударит, он – сила. Дорожите дружбой с ним, не пренебрегайте его советами, даже молчаливыми… С ним Вы не собьётесь с пути правды и подлинного искусства. Верьте мне в этом, Саша! И бойтесь карьеристов, дельцов от литературы, чиновников…»
Как всегда, Яшин проницателен. Прошло семнадцать лет, как это написано, и что ни слово – чистая правда. Он первый усмотрел в Белове, увлечённом поначалу только поэзией, будущего прозаика. Я помню тот семинар, когда он ошеломил нас, тогда молодых поэтов, этим своим решительным заключением. Теперь, конечно, с улыбкой вспоминаешь и думаешь о том времени. Ведь Яшин тогда отнюдь не отваживал Белова от поэзии, он просто почувствовал в его стихах основу таких будущих холстов, которым требовался именно прозаический размах. Таким Белов и стал – большим поэтом в большой русской прозе.
Откройте его знаменитое «Привычное дело» – это одновременно народная повесть и народная поэма. И вот что поразительно: сколько ни перечитывай «Привычное дело» – в душе у тебя всё то же волнение, что и в первый раз. С начальных слов «Пармё-ён? Это где у меня Пармёнко-то? А вот он, Пармёнко…» охватит всё твоё существо тепло родной речи и радость узнавания Ивана Африкановича, Катерины, их большой семьи, всего деревенского их соседства, всего неразрывного – от земли до неба – их окружения, вплоть до скрытого в траве родничка и коровы-кормилицы Рогули. И вдоволь ты переживёшь всего, склонясь над этой книгой: и отрадное удивление перед цельностью характеров, и глубокое потрясение вместе с этими добрыми людьми в пору невзгод, и потешные минуты от их смешных поступков, и невольные слёзы от их горьких утрат.
Не тускнеет с годами, – наоборот, полнится светом эта повестьпоэма. Сколько критических копий было изломано в спорах об Иване Африкановиче!
К нему подходили с разными мерками и с разных сторон – ведь у нас иные критики непременно хотят вписать в паспорт любого литературного героя, кто он такой. Но подходящего определения, пожалуй, и по сию пору не сумели подобрать для Ивана Африкановича. В его чистой душе сталкивалось истинно крестьянское представление о жизни с искривленными волею разных причин колхозными обстоятельствами. А в сознании билась пытливая дума о вечном и временном бытии природы и человека. Он тот обыкновенный русский человек, на котором от века держалась трудовая основа всего государства. Для него привычным делом было пахать родную землю и воевать за неё, растить детей и перемогать непосильные для других житейские тяготы. Такие мужики, как он, были в каждой русской деревне. Впрочем, может быть, и сегодня они кое-где ещё есть.
И многие писатели, конечно, видели их, а разглядел – один Белов. И ввёл своего Ивана Африкановича в русскую литературу, как в вечную жизнь. Так в чём же секрет такого писательского воздействия на ум и сердце читателя? Причём читателя самого широкого, от академика до колхозника. Где тут зарыта тайна? А тайна, оказывается, – в самой правде беловского письма. Он нигде ни на вершок не отступает от неё. Он не поддаётся соблазну красивой фальши. В спорах, чтобы озадачить противника, всегда бросают в лицо фразу «Правда правде – рознь». Да, много в мире есть такого, что вроде бы похоже на правду. Всё зависит от того, с какой нравственной и исторической точки зрения смотреть на ход жизни. Василий Белов честно, без шор, смотрит на жизнь с народной точки зрения. Это не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Это даже очень трудно. Но истинный талант – зоркие глаза своего народа.
В. И. Белов. Рис. В. Сергеева
Откройте не менее знаменитые, чем «Привычное дело», другие произведения (не повернулась рука, как обычно, написать слово «вещи») Василия Белова: «За тремя волоками», «Вологодские бухтины», «Плотницкие рассказы», «Кануны» – да что перечислять! – вот где правда народной жизни, не процеженная через робкий рассудок, а выплеснутая из сердца со всей любовью, скорбью, беспощадностью и верой в Россию. Как бы ни была трагична правда, но если она действительно правда, то всегда очищающе молодит жизнь и оборачивается высокой, редко кому доступной поэзией откровения. В этом принципе – весь Белов. В этом – покоряющая сила его мужественного таланта.
Писателя не раз и не два упрекали в идеализации старины, даже обвиняли в патриархальщине. Можно представить, как это горько отзывалось в его душе. Несправедливые слова тяжелее всего. Но вот на шестом съезде писателей СССР Фёдор Александрович Абрамов в своём страстном выступлении сказал: «Нет, не идеализация это патриархальщины, не пресловутая тоска по уходящей избяной Руси, как иной раз с такой бездумной легкостью и даже высокомерием вещают некоторые критики и даже некоторые писатели, а наша сыновняя, хотя и запоздалая, благодарность. Вместе с тем большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколения – это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал и нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний…» Помню, как всколыхнулся зал в Большом Кремлевском дворце от этих простых, как сама правда, слов, как дружно и горячо аплодировал Фёдору Абрамову.
Да, надо удержать в памяти многовековой духовный опыт русского народа, нравственный потенциал и нравственные силы старших поколений, чтобы увереннее и надежнее строить нынешнюю жизнь и смотреть вперёд. Я думаю, что именно эта забота толкнула Василия Белова к очеркам о народной эстетике, объединённым в книгу «Лад». Вот что значит писательское чутьё задач времени! Белов отложил в сторону свои художественные, рвущиеся на перо замыслы и принялся за подробнейшее исследование прежнего народного мироустройства, труда, быта, семейных отношений, ремесёл, праздников и будней, то есть всего былого порядка жизни, выработанного тысячелетним опытом на Руси. И это не этнография, а нравственнофилософское обобщение народной культуры в самом широком её понимании.
Труд, кажется, непосильный для одного человека! Однако Василий Белов его исполнил. Однажды он мне сказал, что эту книгу может дополнять каждый читатель, ибо опыт народной жизни неисчерпаем, что он хотел бы, чтобы книга была издана с запасными чистыми страницами для таких читательских добавок. Увы, бумаги в стране пока не хватает. А впечатление от этой единственной в своем роде работы писателя огромно. Номера журнала «Наш современник», в котором печатался «Лад», читались нарасхват. Значит, так велика теперь потребность в литературе философско-нравственной, исторической глубины!