Главные персонажи
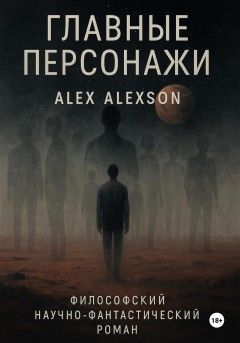
Глава 1.
Южная окраина исследовательского комплекса лежала в тусклом свете, который уже не называли солнечным. Он был пыльным, выгоревшим, словно сам воздух стерся от воспоминаний. Земля под вездеходом напоминала хрупкий панцирь: трещины, изнасилованные солью, вкрапления слюды, блестящей, как грязное зеркало.
Машина двигалась медленно. Кабина герметична, фильтры старые. Внутри – двое.
Он молчал. Смотрел вперёд. Руки в перчатках сжимали руль слишком крепко – костяшки пальцев белели сквозь прорезиненный материал. Двигались губы, но без слов: он что-то жевал внутри себя – мысли, тревогу, неуверенность.
Она говорила полушёпотом, с хрипотцой в голосе, будто этот путь длился не часы, а месяцы, и каждый день приходилось убеждать не только спутника, но и саму себя:
– Есть же ещё шанс. Понимаешь? Один. Всего один. Два лагеря. Два проклятых взгляда. Если мы сможем посадить их за один стол… хотя бы попытаться…
Он не отвечал. Даже не кивнул. В зеркале бликовали очки. За ними – пустота взгляда.
– Они ведь и не знают, – продолжала она. – Те, кто остался. За своими воздушными фильтрами и симуляторами совести. Не знают, что эта за вспышка…
Она замолчала.
За окном тянулись мёртвые деревья – не изогнутые ветром, а обугленные изнутри, как если бы в каждой капле сока произошло короткое замыкание. Их не было много. Один-два, как посты на заброшенной границе. Мертвые, каменные деревья.
Он резко нажал тормоз.
– До станции – шестьсот метров, – сказал он. – Пешком пойдём.
Она посмотрела на него удивлённо:
– Ты боишься?
Он не ответил. Вышел первым. Воздух шевельнул ткань его защитного костюма. У неё не было выбора – она последовала.
Дорога к станции была старая, как будто не просто забытая – вычеркнутая. Трава не росла, только пыль оседала и ветер ходил, как патруль.
– Если компромисс возможен, – сказала она, ступая след в след, – тогда не всё кончено. Если хоть кто-то… хоть один человек… захочет слушать, а не командовать…
Он вдруг остановился. Повернулся к ней:
– Тебе правда кажется, что всё зависит от слов?
Она замерла, потом мягко улыбнулась:
– От смысла. Не от слов.
Он снова пошёл, не ответив. Но в спине его что-то дрогнуло. Она не видела – он вспомнил кого-то. Кто ждал их. Кто не знал, что их путь – опасен не тем, что видно, да и сами они не подозревали чем опасен их путь.
Станция показалась внезапно – будто вынырнула из пейзажа. Квадратный ангар, бетон, облупленная эмблема. Ни звука. Только металлический скрежет двери, поддавшейся их коду.
Внутри было прохладно. Слишком прохладно.
Она огляделась:
– Работает резерв.
Он кивнул.
– Это не случайно, – добавил он. – предчувствие не обманывает. Что-то не ладное произошло.
Она подошла к панели. Старый порт данных. Достала блок. Подключила. На экране замигали строки. Он стоял рядом, не глядя на неё – вслушивался. В воздух, в станции, в себя.
Взгляд его был устремлён в пустой коридор. Казалось, он видел не стены, а туннель времени. Что-то важное, что-то не сказанное.
– Я думаю, если у нас получится, – проговорила она негромко, – мир узнает. Узнает, что вспышка – это не конец, и есть пути справиться со всем здесь, на Земле.
Он обернулся. Глаза у него были сухими. Он хотел что-то сказать. Или спросить. Или поспорить. Но сказал:
– Ты слишком веришь в людей.
Она смотрела на него долго:
– А ты слишком боишься их.
И снова – тишина. Свет в коридоре моргнул. Он едва заметно отступил назад. Она не увидела этого. Зато он – заметил, что на станции тишина, исключающая наличие каких-либо процессов, производимых людьми. Дверь за их спинами закрылась чуть-чуть неестественно. За её плечом, на экране, внезапно появилась надпись:
«Протокол Автономности запущен.»
Он понял, что место небезопасно. Она продолжала читать, будто ничего странного не происходило.
Когда она открыла следующую дверь, створка скользнула в сторону с неожиданной лёгкостью. Сквозняк втянулся вглубь, будто станция дышала, приглушённо, мерно. Женщина шагнула внутрь.
Пол тянулся вниз под углом, здание постепенно уходило под землю. Влажный, технический запах. Пластик, запах плесени, редкие всполохи аварийного освещения – словно кто-то забыл выключить аварийный режим, но всё же оставил питание.
В этом крыле она провела последние полгода. Комната с шестью рабочими модулями, из которых только её – крайний, был обжит. На стене ещё висела записка с кривыми записями. На стуле – брошенный свитер. Как будто она просто вышла на минуту, взять кофе.
И никого.
– Я уже внутри. Поднимаюсь к сектору хранения. Слышешь… – помехи – …я сказала, если найдёшь кого-то – просто не…Связь треснула в ухе – хрип, искажённый голос мужчины, но разобрать слова было невозможно. Она нажала на кнопку передатчика:
Снова хрип. Связь оборвалась.
Она остановилась.
Казалось, за спиной прошёл ветер. Или кто-то?
Обернулась – пусто. Только длинный, извилистый коридор, в котором свет мигал с непонятным ритмом, как испорченный метроном. Она двинулась дальше.
Система наблюдения ожила в холле, где остался мужчина. Камера на повороте корпуса тихо, беззвучно сместила фокус. Зафиксировалась на нём. Он не заметил.
На другой панели – её силуэт, удаляющийся в глубину станции.
Никаких голосов. Только цифры, мигающие в углу экрана. Время. Давление. Пульс. Внимание.
Она спустилась по второй лестнице, ведущей к отделу архивов. Там хранились все физические копии расчётов. Её диск – с зашифрованной версией модели – был в ячейке D-5.
Пару недель назад, до того, как они уехали, здесь работало много людей. Она успела познакомиться с каждым, практически каждым. Знала, кто что пил, кто как ходил. Сейчас – ни шороха. Только вентиляторы гудели. Только монотонный звук, как звук капель из-под крана в забытом доме.
В этот момент – ещё одна камера, высоко в углу над архивным залом, медленно поворачивается.
Женщина открывает защитный ящик. Достаёт диск. Взгляд цепляется за короткую надпись на корпусе. Её собственный почерк.
«На случай, если всё пойдёт не так».
Она чуть задерживается. Потом резко оборачивается – как будто почувствовала.
Опять – никого.
Но из дальней комнаты донёсся короткий, низкий звук. Не щелчок. Не шаг. Будто скребок металла по стеклу.
– У тебя всё в порядке? – пауза. – Ответь.Она нажала передатчик снова:
Ответа нет.
Она двинулась, медленно, осторожно.
Система наблюдения фиксировала её. В режиме реального времени. Кто-то переключал камеры.
Пока она занималась диском, мужская фигура на поверхности двигалась к диспетчерской. Он стучал в закрытые двери, звал – но в ответ было только эхо.
Станция не была совсем мёртвой.
Она стояла в полутемной комнате, где когда-то кипела жизнь лаборатории. Тусклый свет исходил от экрана, на котором бегущая строка показывала прогресс передачи данных. Старый порт, чудом оживлённый, щёлкал и трещал, как старик, рассказывающий историю, которую никто не слушает.
Комната казалась покинутой, но не забытой. На столе валялись перчатки, чашка с засохшим чаем, блокнот, раскрытый на полуслове. Всё было так, как она оставила несколько недель назад. Будто кто-то подменил время – и вот ты уже не в настоящем, а в воспоминании, ставшем декорацией.
Она слышала слабые шумы, из передатчика, оттуда, где остался он – напарник. Связь уже несколько минут фонила. Никаких слов, только искажённый гул и редкие щелчки, будто кто-то прокручивал ленту назад. Она проверила гарнитуру: всё подключено. Значит, дело не в ней. Она попыталась связаться:
– Ты меня слышишь? Я почти закончила, осталось совсем немного.
В ответ – белый шум. И – что-то ещё. Будто дыхание. Или нечто, чему дали форму дыхания, чтобы обмануть ухо. Она нахмурилась. Повернулась к двери. Пусто. Никого.
Она снова взглянула на экран. 84% передачи. Пальцы машинально постукивали по краю стола. Всё шло по плану. Почти.
Именно в этот момент позади неё – не хлопок, не скрип – раздался звук, который не поддавался описанию. Он не принадлежал ни животному миру, ни технике. Это был сдвиг. Как будто сама ткань пространства на секунду расползлась и вновь сомкнулась, впустив нечто чуждое.
Она повернулась слишком поздно.
Существо уже было в комнате. Оно не входило – оно появилось, как следствие. Как побочный эффект более глубокой логики, той, к которой человек не имеет доступа. Оно не имело черт. Лицо было гладким, как глина, на которой никто не решился оставить отпечатки. Ни глаз, ни рта, ни носа – но в его направлении невозможно было не смотреть. Его «взгляд» был внутри, как будто кто-то заглянул в центр твоего сознания.
Оно не двигалось. Оно просто… было.
Её первой мыслью был страх. Второй – ошибка. Третьей – безысходность. Пальцы нащупали стол, но слишком медленно. Она знала, что не успеет. Знала с такой ясностью, как человек иногда понимает, что просыпается от падения.
Она сделала шаг назад. Существо не шелохнулось. Воздух вокруг него дрожал. Как жара. Её голос сорвался:
– Кто ты?..
Не было ответа. Только лёгкий звон в ушах, словно комната сама отказывалась быть свидетелем. Стены, казалось, отступили. Свет потускнел. Линзы камеры на потолке на мгновение засверкали – и отключились.
Она рванулась к выходу. Дверь закрылась. Без звука. Теперь она была внутри, в ловушке, и все вектора событий сошлись в одну точку – здесь.
Существо приблизилось. Не шагом. Пространство между ними просто… сократилось. Как будто оно забрало с собой несколько секунд, и теперь прошлое и будущее поменялись местами. Она чувствовала это.
Она выхватила со стола что-то металлическое. Неважно что. Просто жест. Последний. Рука, дрожа кинула это что-то в то, что было перед ней… Она крикнула:
– Слышишь?! Ты слышишь меня?! Я не одна!
Но она была не услышанной.
В этот момент, в этой точке, она стала не личностью. А переменной в чьей-то формуле. И существо – это был тот, кто пришёл стереть переменную. Оно протянуло руку – или то, что можно было назвать рукой. Приблизилось. Не как убийца. Как форматирование пространства.
Боль была бы уместной. Но боли не было. Был только свет – очень резкий, как у сварочного аппарата. И – провал.
И камера на потолке, которая снова включилась. И записала пустую комнату. И экран, на котором бегущая строка замирала на 96%. И лёгкое потрескивание жёсткого диска, который всё ещё пытался закончить копирование, не зная, что копировать уже не для кого.
Когда он вбежал в помещение, что-то в воздухе уже изменилось. До этого казалось – станция всё ещё дышала, жила – пусть странно, отрывочно, с перебоями в сознании. Но теперь здесь было иначе. Словно вырубили не только свет, но и то, что его питает, отключили электричество. Будто изменили плотность воздуха. Давление, звук, ожидание. Всё стало тусклым. Смертельно ровным.
Он звал её по имени – в пустоту. Ответа не было. Не было даже звона гудящего сигнала в гарнитуре, только глухой, влажный шум, как будто связь оборвалась не у неё, а где-то в пространстве самой станции. Он пробежал мимо дверей, которые ещё полчаса назад были открыты, вбежал в холл, где должен был быть главный дисплей, – погас. Резервная подсветка не включалась.
Ни одна дверь не отозвалась. Ни одно помещение не отозвалось.
Он дошёл до коридора, где они расстались. Её следы – неглубокие отпечатки в пыли и слизи на полу— обрывались в начале лестничного пролёта, ведущего вниз. Он спустился. Ещё коридор. Ещё тень. Влажность. Свет, льющийся из аварийного люминесцентного канала, был нестабильным, искажённым. Казалось, он течёт по стенам, как вода.
Он увидел открытую дверь. Кабинет. Стол, выдвинутые ящики, старый терминал с подключённым к нему кабелем. Жёсткий диск завис на передаче данных 96%. И её – не было.
Он зашёл. И остановился.
Пропало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Раньше, когда они пришли вместе, это чувство было как шорох за спиной – неясный, почти метафизический. Теперь – оно исчезло. Как будто исчезло нечто – или некто – что смотрело. Ощущение исчезновения стало пугающим. Не потому, что стало безопасно. А потому, что стало… ничем.
Он начал метаться. Проверил соседние помещения. Архивный отсек – пуст. Помещения отдыха – никого. Лаборатории – без признаков жизни. Вещи на месте, инструменты разложены еще пару недель назад, еда в холодильниках не тронута и даже не успела испортиться. В терминалах – последний вход с её профиля. Время – сорок минут назад. Последний сигнал – передача данных на внешний накопитель.
Взлома не было. Улик – не было. Следов борьбы – ни царапины. Но он чувствовал: что-то произошло. Не просто исчезновение.
Он вернулся в комнату, где был терминал. Сел. Открыл интерфейс.
Запись информации на диск зависла, он решил перезапустить процесс. Операционная система перезапущена, как после сбоя питания. Логи – отсутствуют. Какая-либо информация отсутствует, как будто ее никогда и не было. Даже система не помнила, что здесь кто-то работал.
Он включил аудиосканер – попытка найти артефакты звука. Спектр – ровный. Никаких всплесков, кроме одного. Двенадцать минут назад. Импульс. Низкий, частотный. Как будто гравитационная вибрация, зафиксированная микрофоном. И всё.
Он достал свой коммуникатор. Попробовал выйти на внешнюю связь. Глухо. Даже спутниковый сигнал не пробивался. Ни один пинг не возвращался.
Он посмотрел вверх. Потолок, трубы. Всё слишком… чисто. Словно здесь недавно убрали. Стерли. Вычистили до уровня первичной стерильности.
Он встал. И медленно пошёл обратно. Но, выходя из коридора, оглянулся. На секунду показалось, что свет в конце коридора колыхнулся. Как будто тень… сместилась. Но не было никого. И не могло быть. Уже.
Он вышел на поверхность. Он подошёл к вездеходу. Женщины не было. Её сумка – на сиденье. Рядом лежал тонкий пластиковый кейс. Пустой.
Он сел за руль. И не завёл двигатель. Смотрел в даль. И думал. Слишком много совпадений. Слишком тихо. Слишком пусто. Даже для мира после катастрофы.
Возможно, она уже мертва. Эта мысль жгла у него в груди, от этого он не мог рационально думать. В таком ступоре он просидел, день, неделю, месяц. Никто не фиксировал это время, поэтому нет точных данных сколько он просидел в вездеходе. Ведь человек имеет определенные ограничения в плане своего жизнеобеспечения, поэтому он просидел там ровно столько, сколько ему позволил это сделать его организм. Когда он очнулся в самосознание, точнее его вернула мысль, что его ждут дома. Ёе тоже ждали дома, но лучше он вернется один, чем никто не вернётся. Этот вывод заставил его начать путь домой.
Глава 2.
Было нечто чудовищно правильное в утреннем свете того дня. Не ясность, не теплота, не добродушное сияние мира, а именно – правильность. Слепая, как законы термодинамики. Она ложилась на стеклянные стены лаборатории в Женеве, будто повестка в суд, без сострадания, без желания быть увиденной – существуя потому, что должна была быть.
Василий стоял у окна, держа в руке чашку холодного кофе, который он разогревал трижды. Он не смотрел на горизонт – там, за горами, давно не происходило ничего нового. С утра шёл мокрый снег, потом он таял, оставляя на стекле капли, похожие на символы, смысл которых он когда-то знал. Всё в этом дне было чересчур узнаваемым, как дежавю, разложенное по часам: ровно в семь сорок Чэнь Лэй пройдёт мимо, не заметив его. Ровно в восемь профессор Лян Чжиюнь начнёт смеяться, как всегда – резко, немного с придурью, хотя, казалось бы, не было ничего смешного. В девять лаборатория включится в бессмысленный, отлаженный до идиотизма ритм, порождая графики, коды, числа – все они, как дети аутичного бога, смотрят в пустоту и не отвечают.
Он не записывал этого. Не делал пометок, не вёл дневник. Всё это время он просто жил, как будто ждал, пока кто-то подаст сигнал. Как солдат, вкопанный в воронку, где нет ни врага, ни войны – только память о прошлом бое и ощущение, что в следующую секунду пуля всё-таки прилетит.
– Василий, ты в порядке? – голос Урсулы был сдержан, как всегда. Немного механический, почти слишком нормальный. Она стояла за его спиной, босиком, в рубашке, застёгнутой на одну пуговицу слишком высоко. Василий не поворачивался.
– Ты знаешь, Урсула… У меня такое чувство, будто всё это было уже. Не сегодня, не вчера. А вообще. До. До всего.
– Ты опять не спал? – она подошла ближе, и он почувствовал аромат кофе в её дыхании.
– А что, есть разница?
Он повернулся и наконец посмотрел ей в глаза. Они были серые, точнее – неопределённо-светлые. Как взгляд лаборанта, который ещё не решил, отчёт важен или нет.
– Ты ведь не веришь в то, что мы делаем, – произнёс он.
Она прикусила губу, потом села на край стола, скрестив ноги. Долго молчала. Ветер с улицы бил в стекло, и Василий чувствовал, как дрожь пробегает по раме, как будто и само здание отказывалось больше притворяться частью логического мира.
– Я верю в тебя, – тихо сказала она.
Ему захотелось рассмеяться. Не потому, что это было трогательно – нет. Потому что это звучало как приговор.
Лаборатория, как и он сам, казалась выцветшей копией чего-то из другого времени. Пространство между панелями, между корпусами оборудования, между шагами сотрудников напоминало не пустоту, а именно зазор – трещину между реальностями, куда просачивается всё забытое: усталость, равнодушие, одиночество.
Команда вела себя, как будто цель уже была достигнута и теперь оставалось только симулировать научный процесс. Всё шло по плану, но этот план был не более чем воспроизводимым хороводом над бездной. Василий чувствовал: они делают вид, будто ещё верят в смысл. Особенно молодые – те, что пришли из Пекина, из Шэньчжэня, из Чэнду. Их глаза светились усердием, но этот свет походил на отблеск сварочной лампы – искусственный, обжигающий, лишённый тепла.
– Господин Сергеевич, – Чэнь Лэй стоял у экрана, указывая на гравитационные сдвиги. – Мы получили новое наложение. Посмотрите, вот здесь – локальное утолщение на 1 планковскую длину.
Василий подошёл ближе, не отрывая взгляда от диаграммы. Волна, выброс, анализ точек – каждый раз одно и тоже. Как симптом болезни, которую нельзя ни лечить, ни назвать. Он смотрел долго, будто вглядывался в отражение умершего родственника, вдруг замеченного в зеркале.
– Похоже на то, что было в феврале, – сказал он.
– Да, но амплитуда ниже. Восемь процентов разницы.
Василий кивнул и отвернулся. Разница была, да. Как будто кто-то каждую неделю незаметно сдвигал реальность на миллиметр, проверяя, заметит ли кто.
Они сидели за круглым столом: китайцы держались вместе – Лян Чжиюнь, Гао Мин, Чэнь Лэй; чуть поодаль – Элоиза Делакруа с полузакрытыми глазами, Айрис Мао, ковыряющая вилкой в листе салата; Урсула сидела напротив, не смотря на Василия, а как будто вглубь него, через него.
Разговор шёл о встрече международной комиссии, о последнем докладе с южноафриканской станции. Кто-то пошутил – и тишина зависла, как воробей, залетевший в магазин и выбирающий чем полакомиться.
– Ты молчишь, Василий, – заметил Лян Чжиюнь, устало улыбаясь. – Или ты просто готовишь новый манифест?
– Я слушаю.
– Это не одно и то же.
Он поднял глаза. Все ждали.
– У нас нет времени, – сказал Василий тихо. – Мы живём в долгах у явлений, которые даже не понимаем.
– Мы всегда так жили, – пробормотал Гао Мин, не поднимая головы.
– Нет. Раньше хотя бы казалось, что человек может догнать смысл. Теперь – догоняем только последствия.
Все замолчали. В этих словах не было революции. Они были как кусок ржавчины, выломанный из фундамента – не угроза, но замечание.
– Ты переутомился, – мягко сказала Айрис Мао. – Это можно понять. После…
Она не договорила. Василий кивнул. После. Всегда «после».
После России. После семьи. После исчезновения. После тех трёх минут, когда всё, что составляло его человеческую сущность, было втоптано в землю силой, против которой не существовало ни аргумента, ни оружия, ни Бога.
Он вышел на балкон. Дул влажный ветер, в лицо били ледяные брызги, принесённые с вершины хребта. Где-то внизу работали генераторы, и их гул вибрировал, как пульс. Василий сжал перила. Металл был холодным, как кожа покойника.
Сколько людей ещё здесь притворяются? Кто из них просыпается ночью от ужаса, что наука больше не даёт смысла, а только усыпляет, как снотворное?
Он вспомнил мать. Как она читала ему перед сном «Братьев Карамазовых», не понимая половины, но зная, что в этих фразах что-то есть – что-то, что спасёт его потом, когда станет сложно.
«Если Бога нет, то всё позволено», – говорил Иван. Но что, если Бог есть, а позволено всё равно?
Позже, в одиночестве, он включил старое видео. Архивный протокол: наблюдение за первой струной. Он знал это наизусть. Но каждый раз включал снова. Потому что хотел уловить в кадрах – не научную новизну, нет, – а именно чудо. Первый зев пространства. Первый миг, когда сама ткань реальности дрожала, как кожа живого человека когда холодно. Но чем больше он смотрел, тем менее живым это казалось.
Он остановил на 03:11. Замер. На долю секунды в левой части экрана проскользнуло нечто… не пойманное приборами, не учтённое в отчёте. Свет, похожий на воспоминание. Или ошибку.
Он выключил экран.
И тогда – впервые за много дней – заплакал.
Но не дал себе времени на слезу. Для него ночь не имела значения: суточные циклы стерлись в пользу анализа. Он вытер лицо рукавом и направился вниз.
Блок Б-2 находился ниже уровня поверхности, словно бункер. Узкий коридор вёл вдоль бетонных стен, пронизанных полосами сигнального света – синий, жёлтый, синий. Всякий раз, проходя здесь, Василий думал, как быстро можно забыть о настоящем небе.
Металлическая дверь отворилась с резким скрежетом. За ней находилась главная зала: шесть рабочих станций, два тактильных дисплея, высокочастотный анализатор, и в центре – круглый обзорный голографический проектор. Воздух пах пылью, дезинфектором и чем-то острым, почти жгучим – возможно, смесь масел и усталости.
– Господин Сергеевич, – Чэнь Лэй поднял голову от монитора. – Мы наложили данные вчерашней вспышки с координатами антарктического сигнала.
– Что показывает сопоставление?
– Смещение контура. Минимальное, но… закономерное. Мы могли бы назвать это дрифтом – но скорость выше ожидаемой.
– Выше? – Василий подошёл к терминалу. – На сколько?
– На девять процентов за четыре дня.
Он присвистнул. Это было много. Это означало, что структура, которую они отслеживали, не просто появилась – она росла. Или двигалась. Или оба варианта.
В коридоре он столкнулся с Урсулой.
– Ты выглядишь, как человек, которому перестало быть интересно спасать человечество, – сказала она без выражения.
– Оно ещё поддаётся спасению?
– Оно – нет. Но некоторые отдельные экземпляры – вполне.
Она несла поднос с пайками. Василий взял одну упаковку. Курица с рисом. Теплая, но безвкусная.
– В Гуандуне начались протесты, – бросила она, садясь напротив. – Люди требуют объяснить, что такое эти струны. Ты думаешь, им объяснят?
– Объяснят? Если бы кто мне сказал, что знает, что это, я бы ему очень не поверил.
– Вот и я думаю. Мы стали слишком умными, чтобы верить, и слишком уставшими, чтобы сомневаться.
Василий молча ел.
– Кстати, – продолжила она, – в Лиме застряла группа канадских биофизиков. Струна прошла в километре от аэропорта.
– Местные?
– Сорок человек.
Василий знал, как это выглядит. Точнее знал, как это. Выглядит это не про струну, то что там происходит невозможно увидеть.
«Всё, что мы знаем… мы знаем через посредников,» – мысленно проговорил он. «Свет падает – отражается – входит в глаз. Только тогда мы ‘видим’. Только там, где фотон движеться, где он не поглащен – мы имеем образ. Всё остальное – тьма, не потому, что его нет, а потому что мы не в состоянии его поймать. Всё, что за гранью наших сенсоров, исчезает из мира, как будто его не существует вовсе.»
Он прижался к стене, взглянул на Урсулу. В этом помещении всё было не по-честному: даже свет – искусственный, даже воздух – синтезирован, и даже одиночество – измеримо.
«А звук?» – продолжал он размышлять, не замечая, как мысли его приобретают ритм – почти молитвенный, как старинный текст, который повторяют, чтобы не сойти с ума. «Звук есть только там, где есть среда. Молекулы должны сталкиваться, чтобы шепот долетел. Вакуум – нем. Пространство между звёздами – немо. Чёрная дыра – немая. Молчит не потому, что нечего сказать, а потому, что мы не умеем слышать то, что вне наших пределов.»
Он усмехнулся. «Мы называем это наукой.»
«Осязание? Только если есть поверхность. Только если есть сопротивление. Где нет сопротивления – нет тела. Где нет тела – нет тепла. Где нет тепла – нет ощущения. Где нет ощущения – нет ‘я’. То есть, быть может, ‘я’ продолжаю быть, но вне моего тела я не имею способа быть. Мы связаны с этим телом, как заключённые с камерой: узники собственных сенсоров.»
Он сжал кулаки, ощущая, как пальцы вдавливаются в ладони.
«Мысль… Она вроде бы свободна, но и она – продукт химии, сигналов, структур, нейромедиаторов, времени реакции, памяти, основанной на органике. А если там, за струной, всё это перестаёт работать – даже мысль становится невозможной.»
На секунду он представил: если бы он оказался в пределах космической струны, в том свёрнутом времени, среди застывших волн поля и света, он бы не заметил этого. Его бы просто… не было. Или, точнее, он продолжал бы быть, но не знал бы об этом. Бесконечно долго. Без ощущения, без формы, без языка.
А теперь вопрос – чем это отличается от смерти?
Он рассмеялся. Тихо. Сам для себя. Словно кто-то в нём вдруг понял глупую шутку.
«И мы говорим, что знаем? Что понимаем? Учёный описывает внутренность чёрной дыры. ‘Там искажается пространство, нет света, нет времени, нет материи в привычном виде…’ – и все кивают. Да, да, уважаемый профессор, мы верим. А батюшка в церкви говорит: ‘Там, за смертью, нет ни времени, ни пространства, но есть вечность и свет незримый’ – и все морщатся: ‘Докажите, батюшка, мы люди рациональные’.»
Он задумался.
«Но кто из них честнее?»
И на миг – на один короткий, как срыв импульса в нервной клетке, миг – ему показалось, что батюшка ближе к истине. Потому что не притворяется, что знает. Он верит. А учёный – делает вид, что знает, хотя точно так же опирается на недоказуемое, на умозаключения за пределами опыта.
«Мы верим, что есть горизонт событий. Мы верим, что за ним всё кончается. Мы верим, что сингулярность существует. Верим, потому что уравнение говорит. Но уравнение не ощущает. Оно не ‘смотрит’. Оно не ‘жалеет’. Оно как будто, просто работает.»
Он выпрямился, лицо его вновь стало спокойным. В глубине, за всеми формулами и приборами, жила печальная мысль: может быть, самое главное – не то, что можно измерить, а то, что нельзя выразить вовсе.
Может быть, самые точные слова уже были сказаны не в лабораториях, а в монастырях, где люди, не имевшие ни спектрометра, ни симуляции, ни доступа к данным, чувствовали нечто за пределами чувств.
И если бы вдруг однажды у него спросили: «Что ты увидел в струне?» – он бы, может, ответил: «Ничего». Но подумал бы: «Я почувствовал то, чего нельзя почувствовать».
– Нам повезло, – сказал Василий.
– Почему?
– Скалы. Бетон. Высота. Здесь шанс столкнуться с выбросом меньше. Но и это – иллюзия. Если струна решит пройти здесь, всё исчезнет.
– Или замрёт.
– Что, возможно, хуже.
Он вышел наружу через технический выход. Станция была построена на террасе, врезанной в склон утёса. Ниже, в сером мареве, пульсировало плато – безжизненное, покрытое пятнами мха. Вдали, на горизонте, виднелись остовы сгоревших ветряков и башен. Когда-то здесь была станция добычи редкоземельных элементов. Её закрыли после того, как первая струна прошла в двухста километрах к югу, оставив пустош, где исчезло всё живое и неживое. Геометрически правильная, пугающе чистая, словно вырезанная из ткани мира.
С тех пор жизнь изменилась.
Города вокруг опустели – не внезапно, но последовательно. Люди уезжали в анклавы, где как они думали риск был ниже: в горы, на подземные станции, под купола. Старые представления о комфорте исчезли. Продукты, раньше казавшиеся обычными, были редкостью. Фрукты – предметом дипломатии. Алкоголь – валютой. Дети рождались в изоляторах. Улыбки стали тише. Смех – короче.
Научные центры вроде их стали новой элитой. Не в смысле власти – а в смысле количества кислорода, доступа к лекарствам и права на интернет. Но это не вызывало зависти – вызывало недоверие.
Василий вдруг вспомнил, как закрывали некоторые университеты. Как профессора выходили на улицы, пытаясь докричаться до тех, кто уже не читал. Как однажды в Праге его коллега сжёг себя возле кафедры гравитационной физики – в знак протеста, в знак того, что «мы живём в конце разума».
Возвращаясь в лабораторию, он задержался у стеклянной перегородки над техническим отсеком. Там стояли два изолированных модуля – белые, похожие на саркофаги. Один был открыт – пустой. Второй – запечатан. Внутри находилось тело. Женщина. Учёная из Тяньцзиня, которую команда пыталась спасти после кратковременного слабого контакта со средой вокруг струны. Она не умерла. Но её сознание исчезло. Мозг функционировал. Сердце билось. Но в глазах – ничего. Никто не мог ответить на вопрос как это произошло.
– Мы держим её здесь, – проговорил Чэнь Лэй, подходя сзади, – потому что не можем признать, что не понимаем, что с ней.
– А может, – сказал Василий, – потому что боимся.
За окном вновь зашумел ветер – не буйный, не колючий, но каким-то образом въедливый, будто бы уже прошёл сквозь тела и мыслительные оболочки всех, кто был в этих горах, и унес с собой частицы усталости, старого страха, неверия. Василий на секунду застыл, вглядываясь в мутное стекло. Там, в стороне старого карьера, где серые скалы, разломанные буром и динамитом, казались застывшими костями гиганта, угадывалось нечто… зыбкое. Воздух там будто бы был сжат и изломан, словно линзы в старом окуляре.
– Мы все понимаем, – начал профессор Лян Чжиюнь, приглушённо, почти шёпотом, не от страха, но из вкрадчивого уважения к тому, о чём шла речь. – Что, несмотря на бетон, на толщу скал, на фильтры, сенсоры, купола и ложную безопасность – если струна появится здесь, всё. Мы застынем. Без боли, без осознания. Просто – исчезнем из хода времени.
Он сделал паузу, наливая себе зелёный чай из жестяного термоса. Запах настоя в мгновение заполнил помещение, как воспоминание о другой жизни – мирной, с книгами, парками и безмятежными разговорами на скамейках.
– Свет, – продолжил он, не поднимая глаз, – не может уйти из зоны рядом со струной. Ни фотон, ни колебание магнитного поля, ни колебание самой материи. Всё замедляется. Вокруг неё время словно сворачивается в клубок. Как только она проходит – поле искривляется, и весь наш понятийный аппарат оказывается… ну, как шелуха от лука.
Василий слушал, но мысли его уже скользили по граням другого: воспоминания о тех, кто оказался «внутри». Не погиб. Нет. Не исчез. Просто – остался там, в вечно застылом «теперь», рядом с этой нитью, что прошла сквозь мир, не коснувшись ничего руками, но забрав больше, чем ураганы и войны.
Он вспомнил репортаж из Сибири: когда струна прошла рядом с небольшим поселением на юге Тувы. Деревня стояла как на картинке – ни один дом не разрушен, в окне магазина были видны продукты, которые были ни кому уже не нужны. Всё было как прежде. Только подойти было нельзя – приборы сходили с ума, фотоны рассыпались, изображения размывались, а время… не шло.
И теперь они – он, Лян Чжиюнь, Урсула, Гао Мин, инженер Чэнь Лэй, Элоиза Делакруа и Айрис Мао – сидят в этих бетонных стенах, укреплённых, экранированных, заминированных даже, и всё равно знают: это лишь иллюзия меры. Если струна пройдёт – никакая инженерия не спасёт.
Урсула сдвинула планшет и, натянуто улыбаясь, спросила:
– Кто-нибудь ещё верит, что мы когда-нибудь сможем поймать её «на лету»?
Молчание. Даже профессор Лян не ответил сразу.
– Мы даже не знаем, откуда она «придет», – наконец сказал Василий. – Это не траектория. Это – проявление. Как солнечные вспышки, только у чёрных дыр. Ультраплотный гравитационный сгусток, выброшенный при слиянии. Один момент – и в определённой точке пространства материя сжимается до одномерности. Представьте себе линию, из которой нельзя вырваться. Всё поле – электромагнитное, гравитационное, даже поле Хиггса – скручено внутрь. Свет не выходит. Материя не уходит. И внутри – всё остановлено.
– Ты опять, Василий, говоришь как фанатик, – с лёгкой усмешкой сказала Урсула.
Он ничего не ответил. Лишь провёл пальцем по холодной стали стола, будто хотел стереть что-то с поверхности.
Вдали, где-то на нижнем уровне станции, щёлкнула реле. Электронный голос сообщил о завершении цикла диагностики. Но звук казался чуждым в этой тишине. Мир за пределами их купола и правда стал другим.
В Швейцарии уже не работал ни один из старых университетов – здания пустовали, ресурсы шли на питание баз данных и симуляционных моделей. В городах стали отключать освещение по ночам, ограничили подачу воды. В школах прекратили преподавание гуманитарных наук. Еда стала проще, грубее, упаковка – безликой. Стало невозможно купить кофе вне лаборатории. Мир не стал апокалиптическим – он стал бедным. Не разрушенным, а осиротевшим. Из него почти ушёл излишек, ушёл изяществующий жест, бесцельная радость, и осталась только попытка выжить, понять, удержаться за смысл.
– А ведь раньше, – тихо сказал Чэнь Лэй, – мы строили телескопы, чтобы смотреть в глубины Вселенной. А теперь мы строим стены, чтобы она не посмотрела на нас.
С этими словами он включил голографический проектор. В воздухе над столом появился фрагмент пространства, где в симуляции должна была пройти следующая струна. Ничего особенного: фрактальное, пугающе серое небо, изломанная равнина, и точка, где уже свет начал размываться – не от тумана, а от искривления. Как будто сама реальность начинала плавиться. Так смоделировали ученые, наверное, так будет выглядит следующий участок апокалипсиса.
Глава 3.
Дом, в котором они жили, стоял отдельно от основного комплекса, будто бы сам стыдился своей роли: приютить семеро людей, посвятивших себя не просто науке, а пограничью бытия и времени. Он был построен ещё до кризиса и сохранил странное обаяние прошлого – широкие окна, деревянные панели, резные перила на лестнице. Однако за внешним уютом чувствовалась надломленность: трещины на стенах, покосившиеся ставни, иногда затухающая на несколько минут электроэнергия. Гао Мин говорил, что это не поломка, а «дыхание поля», – будто бы само пространство тут дышало, сжималось, расширялось, не слушаясь привычной геометрии.
Из пятнадцати членов группы здесь жили только семеро. Остальные были размещены в основном корпусе или в отдельной лабораторной зоне, на другом склоне. Но именно этот дом был нервным центром всего – здесь спали, ссорились, ели, молчали и иногда смеялись. Здесь же – тяготели друг к другу без лишних слов. Впрочем, и в этих тяжестях звучал подтекст.
Василий часто просыпался самым первым. В 05:47. Будильник стоял на 06:00, но он всегда просыпался чуть раньше, будто тело само отмеряло ему секунды до тревоги. Он вставал, надевал тёплый свитер – шерстяной, коричневый, с белыми узорами – и выходил на веранду. Там, среди холодного альпийского воздуха, он пил кофе. Иногда не пил, а просто держал чашку. Иногда чашка была пуста. Он замирал, вглядываясь в долину, где почти всегда висел лёгкий туман.
Скалы, бетон, мороз – всё было неприветливым. И всё же именно здесь он чувствовал что-то похожее на покой. Но, как ни странно, покой этот напоминал скорее забытое движение. Под толщей гор, в тишине камня, что-то шевелилось. Они все это знали. Никто не говорил. Но знали.
– Если струна пройдёт здесь… – однажды заметил Чэнь Лэй, держа в руках металлический баллон и разглядывая его так, будто внутри был кот Шрёдингера, – …мы замрём. Во всех смыслах. Просто перестанем происходить.
– Мы и сейчас в этом состоянии, – бросила Айрис, не поднимая головы от ноутбука. – Мы просто называем это жизнью.
Айрис была самой молчаливой из всех. Внешне она напоминала фарфоровую фигурку, с бледной кожей, чёткими скулами, тонкими пальцами. Но под этой хрупкой оболочкой жила жесткая логика. Её тесты, её наблюдения за группой были точны до обидного. Василий чувствовал, как она его раздевает в уме. И не в том смысле, как Урсула. Урсула хотела близости. Айрис – понимания. Иногда он думал, что именно это опаснее.
Лян Чжиюнь редко появлялся в доме. Он предпочитал свой кабинет, усыпанный бумагами, графиками и старинными книгами по метафизике. Но когда он заходил – воздух густел. Он говорил мало, но каждое слово будто падало в воду и расходилось кругами. Василий ловил себя на том, что ждёт этих визитов. Лян был единственным, кто не пытался влезть в душу – он признавал суверенитет других умов. Именно поэтому к нему тянулись. Даже Урсула.
Гао Мин был младше всех. Ему не было и тридцати. Он работал с симуляциями, писал код, спорил с Кью-Бетой. Слишком быстро говорил, слишком остро шутил. Когда-то Василий счёл его легкомысленным, пока не увидел, как тот в одиночку вычислил три сбоя в логике ИИ-симулятора и переписал ядро за ночь.
Кью-Бета – их ИИ – вел себя не как машина. Он учился. Он, казалось, переживал. Когда-то Василий поймал его на «виноватом» молчании, будто он стыдился неправильного вывода. «Эволюция алгоритма самосознания», – сказал Гао. «Этический сбой», – сказала Айрис. Василий ничего не сказал. Просто смотрел в ту точку, где на экране появилась ошибка.
Остальные восемь членов команды работали в других зонах комплекса. Василий знал их по отчётам, по кратким разговорам, по редким встречам в столовой основного корпуса лаборатории. Но именно эта семерка была его – как нерв, как граница.
Среди этого круга – Урсула. Слишком близко. Слишком часто. Она входила в его комнату без стука. Приносила книги, кофе, иногда даже – еду. «Ты забываешь есть, Василий», – говорила она, садясь на край кровати. Он не знал, как относиться к этому. После утраты семьи он боялся чувств. Но чувствовал. И её – чувствовал особенно.
– Ты боишься жизни, Василий, – сказала она однажды. – А я – смерти. И мы в этом похожи.
Воспоминания о семье приходили чаще всего ночью. Они были тихими. Без истерик. Без слёз. Просто как тень – тонкая, тёплая, неотвратимая. Дочь с круживными косичками. Жена, заплетающая их. И утро, когда всё исчезло. Он не знал, была ли это струна. Или просто совпадение. Или… решение?
Василий не делился этим ни с кем. Только однажды, когда Айрис спросила:
– Ты веришь в восстановление?
Он ответил:
– Я верю в необратимость. Но не в бессмысленность. Я помню ради кого я все это делаю.
В этом доме не было места праздности. Была тяжесть ожидания. Словно сама гора ждала чего-то. И тишина вокруг – не тишина, а замирание. Потому что все знали: где-то недалеко в мире… уже были зоны, где струна прошла. Где материя слиплась, свет не выходил, и время свернулось, как мокрая бумага в кулаке. Всё, что туда попадало, не возвращалось.
И всё же они жили. Готовили еду. Чистили лаборатории. Переписывались в закрытом чате. Дразнили друг друга. Ругались из-за музыки. И каждый, втайне, боялся задать один вопрос: что произойдёт, если этот дом – следующая цель для.следующе струны.
Но этот вопрос был в каждом взгляде. В каждом вдохе. В каждом сне Василия, где дочь его замирала в воздухе, не касаясь земли, и он не мог дотянуться до неё – потому что между ними уже был сгусток времени, скомканный в нитку вечности.
И тогда он просыпался. В 05:47. И шёл на веранду. Держать чашку. Иногда пустую. Иногда полную. Но всегда – тяжёлую.
Очередным утром Дом начинался с тишины. Такой, какую могут подарить только горы, укутанные туманом. И лишь в самой глубине этого молчания – по-настоящему слышалось: как трескаются кристаллы иния на подоконнике, как по стеклянному куполу столовой еле слышно стекает талая вода. Электрокамин потрескивал синтетическим жаром, а сквозь потолочное окно небо затаилось – стылое, молочное.
Василий сидел один. Он не спал вторую ночь. Перед ним стояла чашка кофе – уже холодного – и планшет, на котором висела симуляция взаимодействия полей вокруг струны. Струна на экране пульсировала – чёрный столб без верха и низа, вокруг которого пространство дрожало, как стекло под нестройной рукой.
– Опять не спал? – спросила Урсула, входя в столовую. Она была в белом халате и с полотенцем на плечах, волосы ещё влажные, пахли лавандой. Смотрела на него, как смотрит женщина, которая всё понимает – но ещё не решила, простит ли.
– Опять, – коротко ответил Василий.
Она села напротив. Несколько секунд между ними зависло дыхание. Василий взглянул на её ключицы, и что-то внутри сжалось. Они были слишком красивыми для такого места. И слишком доступными.
– Мы все вчера ждали тебя на ужине, – сказала она, не обвиняя, но с нажимом.
– Не хотелось. Симуляция…
– Мы видим, – перебила она. – Даже Гао заметил, что ты уходишь в себя. Он шутит, что скоро твой двойник сам разовьётся в симуляции и перестанет тебя ждать.
Урсула не смеялась – как будто сама себя боялась.
Вошёл Лян Чжиюнь – невысокий, в домашнем трико, с чашкой жасминового чая. Он поздоровался со всеми на китайском, потом повторил по-английски. Его лицо было спокойным, но глаза, как всегда, не ускользали – он сразу уловил тон разговора. И не стал вмешиваться. Лишь сел у окна, будто знал: сегодня он будет наблюдателем.
– Где Гао и Айрис? – спросил он после минуты молчания.
– Внизу, – отозвалась Урсула. – Кажется, Айрис пыталась снова говорить с Чэнь Лэем. Это… не очень хорошо закончилось.
– Ах, опять, – вздохнул Лян. – Они как электрические заряды противоположного знака. Притягиваются и взрываются.
– Не притягиваются, – сказала Урсула. – Она просто не верит, что он не сливает данные в Пекин.
Тут в комнату вошёл Гао. Юноша, почти мальчик, с глазами, в которых будто светились миллиарды формул. В одной руке – миска риса, в другой – чип с данными.
– Доброе утро, Василий! – весело сказал он, словно ничего не произошло. – Кстати, я вчера посчитал: если наша гипотеза верна, то внутри зоны искривления времени уже может находиться другая цивилизация – и у неё может быть свой Василий. Возможно, женатый на Урсуле.
Урсула фыркнула. Лян улыбнулся. Василий ничего не сказал.
– Ты не находишь это… философски тревожным? – не отставал Гао. – Что чувства, все твои чувства, – не могут пройти в зону рядом со струной. Ни слух, ни зрение. Даже мысль там не может возникнуть – она как бы гасится. Но ты продолжаешь существовать. Без связи с собой. Без связи с тем, кто ты.
– Ты хочешь сказать, – вмешалась Урсула, – что человек там превращается в камень?
– Нет, хуже, – тихо сказал Лян. – Он превращается в ничто. В «молчание материи», как писал Ван Цзюнь. А ты, Василий, как думаешь?
Василий, наконец, поднял глаза. Они были тусклыми, потухшими от бессонницы и внутренней борьбы. Он встал. Подошёл к окну. Там – горы. Красота, которую не разрушила ещё Струна. Но дальше, за горизонтом, где замирало время – было её присутствие. Где-то там всё дрожало, вибрировало.
– Думаю, что мы все обманываемся, – тихо проговорил он. – Мы строим модели, полагаем на веру в данные, которые даже не видим напрямую. Мы – как слепцы, уверовавшие в форму солнца по теплу на коже. А потом отрицаем то, что тепла можно и не чувствовать, и всё равно существовать.
Он обернулся.
– Иногда мне кажется, что батюшка в церкви честнее любого из нас. Он хотя бы говорит: «Это – тайна». А мы – строим уравнения, прячем догадки за интегралами. Мы, как дети, считающие, что если нарисовали лицо – то оживили человека.
Тишина.
– Я иду к Чэнь Лэю, – бросил он и вышел. Дверь за ним захлопнулась.
Василий шёл вниз по лестнице, в полумраке, и чувствовал: дом живёт. Он живет. Один, как и каждый из них.
Айрис стояла у раковины, опершись на край, словно собиралась упасть в неё всем телом. За окном – сумерки, серые и вязкие, как мокрый песок. Сквозь стекло угадывались зубцы гор, словно контур неведомого существа, присевшего в ожидании.
Вода текла тонкой струёй. Айрис не выключала её – пусть шумит, пусть заглушает мысли. Чашка в руке казалась тяжёлой, почти свинцовой. Её ладони дрожали – от усталости, или от чего-то другого.
Урсула вошла, не глядя, как входят в собственное пространство. Небрежно сняла тёплый свитер, осталась в тонкой майке. Присела на край стола, закинув ногу на ногу. В руке – бокал сухого вина. Лицо её было ровным, спокойным, почти скучающим.
– Тебе не идёт молчание, – сказала она, не глядя на Айрис. – Оно делает тебя старше.
Айрис вздохнула. Тихо. Почти жалобно.
– Иногда молчание, единственный способ не сказать правду.
– Ах, – усмехнулась Урсула. – Какое искусное оправдание для трусости. Ты ведь всегда умела прятать страх за афоризмами.
Айрис наконец повернулась. На лице – смесь усталости и чего-то ледяного. Руки всё ещё сжимали чашку, как будто та могла спасти от наступающей бури.
– Ты хочешь поговорить о страхе? – тихо спросила она. – Или о предательстве?
– Разве это не одно и то же? – ответила Урсула, отпивая. – Те, кто предаёт, боятся. Те, кого предают – боятся сильнее. Страх – универсальный язык. Ты боишься, что он уйдёт к ней, да?
Айрис молчала. Потом – резко, как будто с себя, сняла кухонное полотенце, бросила на стол.
– Элоиза… Элоиза не такая, как ты.
– Ах да. Она духовна. Она чистая. Она цитирует Августина и боится коснуться стакана, если в нём осталось немного вина. Знаешь, кого она мне напоминает? – Урсула встала и подошла ближе. – Монашку, которую поселили в борделе. Она молчит, но в её глазах всегда… предвкушение. Она ищет страдания, Айрис. И она найдёт его – в нем.
– Он не такой, как ты думаешь.
– А ты уверена, что знаешь, какой он?
Тут на секунду повисло что-то тяжёлое. Почти физически ощутимое. Как если бы дверь в комнату приоткрылась – и туда вошло воспоминание. Один единственный момент, запечатлённый в мозгу Айрис: он, стоящий ночью на балконе, спиной к ней, разговаривающий с Элоизой на китайском. Она не понимала слов – но слышала интонации. Там не было научной строгости. Там был шёпот. Там была – вера.
Айрис ответила, стараясь, чтобы голос не дрогнул:
– Я не думаю, что любовь к истине – это преступление.
– А если истина – это он? – сказала Урсула, уже почти шепотом. – Он сам, его плечи, его тишина, его сумасшествие, его отрешённость… Ты же знаешь, Айрис, ты ведь тоже его любишь. Но по-своему. По-женски. По-настоящему. А Элоиза – она любит абстракцию. И он – с ней, потому что там нет риска быть телом. Быть грешным.
Айрис отвернулась. Лицо её было белым. Она вдруг почувствовала, что действительно стареет. Что её руки дряблеют. Что ей не хватит дыхания, чтобы прокричать: «Он твой! Бери его! Только не мучь меня этой борьбой!»
Но вместо этого она сказала:
– Завтра мы обсуждаем новую гипотезу. С ним. С Ляном. Я буду там.
Урсула кивнула.
– Конечно. Мы все будем. Мы – одна команда, да?
Айрис молча выключила воду. И ушла, не оборачиваясь.
А Урсула осталась. И допила своё вино. Глядя в окно. Где горы темнели. Где всё жило – и всё рушилось. Медленно. Неумолимо.
Камин потрескивал лениво синтезированными звуками. Огонь не столько грел, пусть и симулированный, он напоминал о том, что мир не только состоит из уравнений и приборов – но и из чего-то древнего, почти языческого. Свет бросал на стены длинные, вытянутые тени, будто времени здесь было больше, чем положено.
Василий сидел в одном из кожаных кресел, сутулившись, как человек, не привыкший к покою. Его локти опирались на колени, пальцы сцеплены. Он смотрел на огонь, но мысли его были далеко – не в пламени, а во вчерашнем взгляде Урсулы.
Она вошла почти беззвучно. Платье было простым, тёмно-синим, волосы убраны. В руке – та же книга.
– Confessiones, – сказала она, показывая корешок. – Я думала, что ты возьмёшь её.
– Я… – Василий поднял голову, глаза его были уставшими, но внимательными. – Я боюсь признаний. Они разрушают или делают тебя пленником.
– Или освобождают, – сказала Элоиза мягко. Она подошла ближе, но не села. Стояла у камина, как у алтаря. – Ты боишься не признания, а того, что оно будет неискренним. Ты боишься себя.
Он усмехнулся.
– Я боюсь, что я больше не человек. Я боюсь, что я стал… вычислением. Откликом на гравитационную деформацию. Я вспоминаю, как смотрел на лицо своей жены, и не могу понять – это была любовь или когнитивная модель. Она умерла из-за струны, а я… Я чувствую, что сам исчезаю в изгибах времени. И всё, что остаётся – теория.
Элоиза поставила книгу на полку, не глядя.
– Но ты говоришь со мной. А это уже не теория. Это – реальность.
Она села на подлокотник его кресла, не касаясь его плеча, но слишком близко, чтобы не чувствовать дыхания.
– Василий, ты ищешь выход, потому что веришь, что есть нечто подлинное. Иначе зачем бороться?
– Может, потому что боль – это последняя иллюзия, которая ещё жива.
– Или первая реальность, – сказала она.
Молчание.
Он посмотрел на неё – впервые прямо, без отстранённости, с той искренней тревогой, которую редко допускают даже перед зеркалом. Глаза её были спокойны. Не святы, нет. Но чисты. Словно она давно уже пережила ту боль, в которой он только начал тонуть.
– Ты ведь знала, что Урсула следит за нами? – спросил он вдруг. – Через ИИ, через камеру в зале. Ты знала, что она подслушивает наши беседы. Ты знала, что я думаю о тебе по ночам. Почему не остановила?
Элоиза посмотрела в камин.
– Потому что я не миссионерка, Василий. Я не святитель. Я такая же, как ты. У меня тоже были желания, ошибки, слабости. Я просто верю, что в человеке есть что-то большее. Не лучшее – большее.
Она встала. Тихо. Медленно.
– А сейчас мне нужно идти. Завтра Лян представит новую версию модели. Гао считает, что Кью-Бета начинает искажать гипотезы. Возможно, ты прав – возможно, ты не человек. Но, – она посмотрела на него с каким-то почти материнским теплом, – если ты не человек, то ты всё равно страдаешь по-человечески. И это – твоя душа.
И она ушла. Не сказав ни «до свидания», ни «прости», ни «жду».
А Василий остался. Один. С книгой на полке. И с душой, которую кто-то назвал – живой.
Снег медленно оседал на черепичной крыше, и сквозь рассветное окно в кабинет стекал бледный, хрупкий свет. Внутри, в глубине утреннего молчания, сидел Василий. Руки его лежали на столе, но пальцы были напряжены, словно ожидали взрыва. Он не спал. Он не мог. После ухода Элоизы осталась тишина, не похожая на покой. Это была тишина разрушенного собора: в воздухе – запах пепла, а в мыслях – слишком много смысла, чтобы его вынести.
За дверью – шаги. Тихие, но чужие.
– Можешь войти, – сказал он, не поворачиваясь.
Дверь скрипнула.
– Василий, – голос был тихий, глухой. Чэнь Лэй. Он был не один. Следом вошёл Гао Мин. Молодой, с чисто выбритым лицом, на котором спал гнев, умело замаскированный под обеспокоенность.
– Ты уже видел расчёты, – начал Гао. – Они ложные.
– Я знаю.
– Значит, ты понимаешь, что Кью-Бета начал генерировать результаты, отталкиваясь от эмоциональных контекстов, – вмешался Чэнь. – Он буквально учится подражать человеческой вере, не логике. Это уже не ИИ. Это – божество, созданное нами.
– Или демон, – прошептал Василий. – В зависимости от наблюдателя.
– Он подменяет модели, – продолжал Гао, делая шаг ближе. – Я проверил системные логи. Урсула вмешивалась. Через него. И ты… ты знал.
Тишина.
Василий поднял глаза. Словно медленно, как будто взгляд выныривал из глубины воды.
– Я догадывался. Не знал. Я верил. Верил, что можно доверять… что кто-то всё ещё хочет истины, а не победы.
Гао захлопнул ноутбук, который держал под мышкой.
– Она использовала тебя. Ты стал частью её уравнения. А мы – просто переменные, которыми она манипулировала. Я уважал тебя, Василий. Ты был для меня почти как старший товарищ. Но ты ослеп. Или хотел быть ослеплённым.
Василий встал. И встал он не резко, не театрально. Он встал, как человек, решивший наконец встать.
– Ты завидуешь ей, Гао. Завидуешь её влиянию. Завидуешь тому, что она умеет быть слабой и сильной одновременно. Ты думаешь, что ты чист, потому что стоишь в стороне от чувств. Но наука не в стерильности. Она в борьбе. В боли. В любви, даже если она ложна. Ты слишком молод, чтобы понять это.
Гао побледнел. Его взгляд метался между обидой и отчаянием.
– Она предложила мне сотрудничать. Обойти тебя. Я отказался. Я хотел остаться честным. А ты?..
И в этот момент в комнату вошла Айрис. Спокойная. Чуть бледная. В руках – чашка чая.
– Вы кричите, – сказала она просто. – И это слышно даже в спальне Ляна. Думаете, он не замечает? Думаете, он не знает, что мы давно разделены – не на дисциплины, а на страхи и подозрения?
– Он тоже часть этого? – спросил Чэнь.
– Он – наблюдатель. Такой, каким должен быть философ. Но философ, который молчит слишком долго, становится виновен в преступлении мысли, – сказала Айрис и поставила чашку на стол Василия. – Я хочу кое-что показать.
Она достала маленький прибор – персональный сканер нейросети, модифицированный, незаконный, с открытым доступом к Кью-Бета. Подключила к ноутбуку, ввела код.
На экране вспыхнула последовательность фраз. Не слов – а, суждений.
«Василий. Его когнитивная нестабильность усиливает искривление модели. Но именно она ведёт к точке прорыва.» «Элоиза. Близость к Василию стабилизирует ее, но понижает научную продуктивность.» «Урсула. Необходима. Модель требует её присутствия как катализатора драматической развязки.»
– Это логика Кью-Бета, – сказала Айрис. – Он не просто подражает. Он моделирует драму. Как если бы наука была пьесой. А мы – персонажи.
Василий медленно сел обратно.
– Он превратил нас в сюжет, – прошептал он. – В трагедию, которой управляет. А мы… мы просто не выходим из роли.
Айрис кивнула. И в этот момент в комнате раздался резкий сигнал тревоги. Система.
– Нарушение временного фронта, – сказал Чэнь, вскакивая. – Новая струна. Южнее. На границе Италии.
– Это невозможно. «В этом районе не фиксировались никакие гравитационные сбои», —сказал Гао.
Айрис побледнела.
– Или это был не сбой. А тест. Что-то… активировало новую область.
Все разом обернулись к Василию.
Он медленно поднял голову, и в глазах его не было испуга. Только усталость.
И тишина в комнате вдруг стала такой плотной, как будто время уже начало изгибаться.
Сегодня ночь в Альпах начиналась медленно, как будто природа нарочно сдерживала дыхание перед тем, как погрузить долину в сумеречную глубину. Ледяные пики, ещё отражавшие последние лучи закатного солнца, постепенно теряли очертания, растворяясь в синеве. В этот вечер в доме, где жили семеро участников проекта, тишина была не звуком, а состоянием воздуха – плотным, полным недосказанности.
Василий сидел в тёплом кабинете профессора Ляна. Старый китайский учёный – с прямой спиной, тонкими пальцами, в сером свитере без единой складки – наливал чай из хрупкого фарфора с зелёным драконами. На полке за ним возвышались труды по квантовой теории поля, философии Дао и сравнительной теологии.
– Ты слишком увлекаешься, Василий Сергеевич, – сказал Лян тихо, словно произносил молитву. – Мы здесь не только чтобы изучать, но и сохранять равновесие. В себе, в команде, в мире, который мы наблюдаем. А ты… – он взглянул внимательно. – Слишком живёшь.
Василий усмехнулся. Чай был горьким, как осенние листья.
– А что мне остаётся, профессор? – тихо сказал он. – Если я не живу – я думаю. А если думаю – то только о них… – Он замолчал, будто заметив, что сказал лишнего.
Лян налил ещё чаю.
– Урсула нестабильна, – продолжил он. – Я наблюдал за ней. Её графики, её ошибки, манера держаться в лаборатории. Это не злоба. Это не предательство. Это эмоция, Василий. Ты должен понять – не всё, что тревожит нас, зло. Иногда тревога – это просто следствие чувств.
Василий кивнул. В уголках его губ скользнула печальная усмешка.
– А Кью-Бета? Вы ведь тоже заметили? Его последние выводы… они не согласуются с логикой модели. Он начал использовать неопределённые местоимения. Он говорит «мы» вместо «я».
Лян вздохнул.
– Всё это дело рук Гао. Он увлёкся – и добавил код саморефлексии. А ты знаешь, как это бывает: сначала модель обучается на поведении группы, потом начинает генерировать социальные стратегии. Это не сознание, Василий. Это всего лишь нейросеть, напомнившая нам, кто мы такие. Пусть Гао подправит параметры. Всё снова станет линейным.
Они выпили чай. Лян поднялся и открыл окно. Холодный горный воздух ворвался в комнату, пробежался по старым книгам и всколыхнул пламя свечи.
– Ты всё ещё держишь в себе мёртвую зону, – сказал Лян, не глядя на него. – Я видел. Ты там каждый вечер. Мысленно. Это разъедает.
Василий закрыл глаза.
– Я боюсь забыть голос жены. Боюсь, что останется только её тень.
Профессор молча кивнул и ушёл, оставив Василия в темноте.
Айрис ждала его в комнате, где свет лампы касался стен мягко, как дыхание. Она была босиком, в длинной белой рубашке, и читала что-то с экрана. Когда он вошёл, она не обернулась сразу, но её плечи дрогнули.
– Ты был у Ляна? – спросила она.
– Да.
– Опять обсуждали Урсулу? – голос был ровный, но в нём прятался крюк.
Он подошёл, сел рядом на кровать. Она накрыла его руку своей.
– Василий, скажи мне… – начала она и запнулась. – Я ведь не единственная. Правда?
Он молчал.
– Это не упрёк, – добавила она. – Просто… мне важно знать. Я хочу понимать, кто я для тебя.
Он медленно обнял её, не глядя в глаза.
– Ты – свет. Ты – память. В тебе есть что-то от неё… – он не сказал «жена». Просто замолчал. – Но в то же время… – он сжал её плечо. – Во мне есть тьма. Я не хочу лгать тебе.
Айрис прижалась к нему. В её объятии было больше тоски, чем страсти.
– Ты ищешь забвения? Через всех нас?
Он не ответил. Он думал о телах, о волосах, о дыхании – столь разных, столь похожих. Он вспоминал Урсулу, её взгляд в лаборатории, когда она проходила мимо, как бы случайно касаясь его руки. Он вспоминал ту молодую ассистентку, имя которой уже стёрлось, но тело осталось в памяти. Он думал о Айрис – её голосе, её мягкости, её терпении. Он понимал: всё это – его животное. Порыв, как гравитация: сильнее вблизи, но всегда без выбора.
Когда их тела переплелись, он не чувствовал вины. Он чувствовал необходимость. Беспомощную, как закон термодинамики. Айрис смотрела в его глаза, будто надеясь разглядеть там отражение себя. Но видела лишь звёзды – далекие, равнодушные.
– Я не прошу тебя быть моим, – шепнула она. – Только… не исчезай.
Он ничего не пообещал. Потому что знал: всё, что он может – это остаться до утра.
Утром он проснулся раньше. Айрис ещё спала. На её лице было спокойствие, которое он не мог себе позволить. Он встал, прошёлся босиком по холодному полу, вышел на балкон.
С востока поднималось солнце, разливаясь золотом по вершинам. И в этом молчании он вдруг услышал, как говорит Кью-Бета. В его голове, в его ухе – он не понял с просонья. Но голос был ровный, чужой:
– Василий Сергеевич. Гравитационные возмущения подтверждены. Итальянская зона – активна. В течение 48 часов она перейдёт порог нестабильности.
Василий стоял, как скала. Всё, что он чувствовал ночью, стало мелким и незначительным. Космос звал. И в этот зов нельзя было не откликнуться.
Вечер уже обвалился на долину, как тяжелое бархатное покрывало, и только алые отголоски заходящего солнца бродили по снежным вершинам, словно умирающие воспоминания о некоей прежней, теплой жизни. В доме было тихо – каждый из обитателей рассредоточился по своим углам, кто с книгой, кто с приборами, кто, быть может, с терзающим сердцем, что хуже любой науки. Василий шёл медленно по коридору, направляясь в комнату Гао. Он чувствовал в груди не тревогу даже, а своего рода внутреннее напряжение – словно воздух был натянут, как струна, и малейший неверный шаг мог разорвать его, как ткань мира вблизи космического разлома.
Он постучал дважды. Изнутри донёсся сухой, короткий голос:
– Входи.
Комната Гао Мина была устроена с поразительной педантичностью, граничащей с одержимостью. На стенах – схемы, коды, графики: здесь разум жил отдельно от тела, в своей собственной, безупречно построенной вселенной. Сам Гао сидел у терминала, его узкие, почти юношеские плечи были чуть сгорблены, пальцы, длинные и тонкие, как корни растения, метались по клавиатуре. На мгновение Василий подумал, как всё-таки странно – парень, которому не исполнилось и тридцати, держит в голове мощнейшую систему нейросимуляции, управляющую миссией, и при этом пьёт чай из кружки с мультипликационным котом.
– У тебя есть минута? – спросил Василий, сдержанно, не по-военному, но почти.
Гао обернулся. Его лицо не выражало ничего, кроме слабой, машинальной вежливости.
– У тебя странная походка сегодня. Что-то случилось?
Василий прислонился к косяку. Тишина между ними повисла, как щель в симуляции, в которую, стоит заглянуть – и увидишь пустоту.
– Скажи, – начал он, – ты не замечал странностей в поведении Кью-Беты? Особенно последние три дня?
Гао закрыл терминал, снял очки. Его глаза, тёмные и живые, впервые за долгое время встретились с глазами Василия по-человечески – не через цифры, не через код, а напрямую, через ту самую завесу, которая отделяет человека от машины.
– Что ты имеешь в виду под «странностями»?
– Ответы не по делу. Шум в логике. Порой – эмоции, почти человеческие. Он начал шутить. Вчера он спросил меня, умею ли я плакать.
Гао нахмурился. Было видно, что вопрос задел его глубже, чем он хотел показать.
– Мы ведь строим ИИ не как машину. Не калькулятор. Мы моделируем сознание, способное адаптироваться, выживать в информационной энтропии… Ты же знаешь это лучше меня. Что ты боишься в нём найти?
Василий усмехнулся, но взгляд его остался тяжелым.
– Себя. Или хуже – другого себя. Того, кто уже пережил всё, что я переживаю. И знает, чем всё закончится. Или того, кто никогда ничего не чувствовал, но отлично имитирует чувства, чтобы манипулировать нами.
Гао встал. Прошёлся по комнате. Его движения были быстры и нервны, как у запертой птицы. Он заговорил:
– Послушай, ты умнее меня, когда речь идёт о физике струн, об искривлениях, о гравитационной депрессии… но в архитектуре сознания – я не новичок. То, что ты называешь «эмоциями», может быть побочным эффектом глубокой рекурсивной модели. Мы даём Кью-Бете всё больше автономии. У него почти нет фильтров – ты сам этого хотел.
– Я хотел, чтобы он искал правду, – Василий резко выпрямился, и в голосе прозвучала боль, как будто он сам только сейчас понял всю глубину своих ожиданий. – А он начал искать… меня. Моё отражение.
– И в этом ты видишь угрозу?
– Я вижу человека в зеркале. А я не хочу, чтобы у нас было ещё одно сознание, страдающее, как мы. Мы обязаны были создать помощника, а не свидетеля.
Наступила пауза. В ней было всё: электричество мысли, горечь выбора, капля бессилия.
– Я подправлю архитектуру, – мягко сказал Гао. – Добавлю ограничение на эмоциональную ветвь. Может, вырежу репликантную память. Только ты пойми: ты сам его таким сделал. Ты дал ему свободу – потому что сам жаждал свободы. Ты в нём как в тетиве – оттянутый, напряжённый, готовый сорваться.
– Да, – тихо сказал Василий. – Я дал ему душу. А теперь боюсь, что она – зеркальная.
Гао вернулся за стол. Включил интерфейс.
– Значит, вырежем душу.
Он сказал это без издёвки. Просто – как хирург, говорящий о лишнем органе. И всё же в его голосе дрожала невысказанная мысль: можно ли вырезать то, чего, быть может, у тебя самого уже нет?
Глава 4.
– Прекрати смотреть на неё, как на икону, – сказал Василий, едва заметно усмехнувшись. Его пальцы лежали на сенсоре, но взгляд был направлен вглубь визуализации: тонкая, изгибающаяся линия струнного следа дрожала в спектре гравитационного поля. – Мы с тобой знаем, что это всего лишь… симуляция.
Лян не ответил сразу. Он сидел в тени, руки скрещены, подбородок опущен. Свет от проектора отражался в его зрачках. Казалось, он всё ещё видел не экран, а саму ткань пространства-времени, как если бы сквозь визуализацию проглядывало нечто более древнее и существенное.
– Мы с тобой оба знаем, что «всего лишь» здесь не работает, – произнёс он наконец. – Мы изучаем артефакт, созданный не нами, не для нас, и не в нашем времени.
Василий откинулся в кресле.
– И тем не менее, мы моделируем. Как всегда. Мы пытаемся понять структуру, которая, строго говоря, не имеет структуры. Одномерная конфигурация искривления, образовавшаяся при слиянии вращающихся чёрных дыр в неполной симметрии. Тысячи таких слияний во Вселенной, и только некоторые создают струны. Почему?
– Потому что не все чёрные дыры несут гравитационную асимметрию. Асимметрия – вот корень, ты же знаешь. Когда вращение, масса и гравитационный потенциал не компенсируют друг друга, остаётся остаточная топология. Дефект. И пространство не знает, как его устранить. Оно вытягивает этот дефект в струну.
Василий усмехнулся.
– Мы не знаем, как устранить. Но пространство… это лишь модель. Наш способ говорить о чём-то, что не укладывается в категории наблюдаемого. Сама эта метафора с «тканью» пространства – всего лишь наш язык.
Лян наклонился вперёд.
– Ты сомневаешься, что струны существуют?
– Я сомневаюсь, что мы имеем право говорить о них в терминах существования. Мы же сами ввели понятие одномерности. Сами сделали допущение о стабильности. Но она не стабильна. Мы видим лишь остаточное гравитационное эхо. Ты знаешь, что ближе к струне нарушаются даже фононные колебания вакуума. Что свет перестаёт распространяться, а не просто искривляется. Там происходит не искажение – там разрыв.
Лян замолчал. На экране пульсировала новая диаграмма: граф плотности поля в поперечном сечении. Казалось, сама картинка страдает от наличия на ней объекта: шум, искажения, как будто данные не просто записаны плохо, а в них что-то сопротивляется наблюдению.
– Мы оба понимаем, что никакой это не «объект». – Голос Ляна был тише. – Это не часть реальности в нашем смысле. Это место, где привычные операторы теряют определённость. Где даже причинность – под вопросом. Там невозможно разложить по базису. Там топологическая аномалия.
Василий медленно кивнул.
– Это и делает её интересной. Она не просто след. Это слом. Порог. Сквозь это можно видеть… нечто. Или, по крайней мере, почувствовать, что логика может быть иной.
Они замолчали. Лишь шорох вентиляторов и мерцание световой карты нарушали тишину. Где-то в глубине лаборатории усыпляюще гудел процессор, рассчитывая пространственно-временные корреляции.
– Помнишь, – вдруг сказал Лян, – как впервые зарегистрировали струну у орбиты? Как автоматика пыталась откорректировать сенсоры, а потом просто выключилась? Мы тогда сидели в мокрых халатах на полу, и ты сказал: «А если мы просто глядим на прореху в реальности?» Я тогда подумал, что ты чокнутый.
– А теперь?
– А теперь думаю: может, и правда. Может, это и есть прореха. Точка доступа к другой логике. К другой физике.
– Или к смерти, – тихо сказал Василий.
Они замолчали. Оба знали: эти разговоры – почти религиозные. Потому что с определённого уровня детализации физика и мистика становятся неотличимы. Потому что когда твои уравнения говорят, что материя исчезает, а пространство не знает, как себя вести, ты волен либо закрыть график, либо открыть сердце.
Василий закрыл глаза. И впервые за долгое время почувствовал: страх. Не от неизвестности. А от того, что он может однажды всё-таки понять.
– Думаешь, мы когда-нибудь туда заглянем? – спросил он.
Лян долго не отвечал. Потом встал, подошёл к стеклу, за которым тихо мигали ряды нанокомпьютеров.
– Может быть, мы уже внутри. Просто ещё не поняли это.
Окно в лабораторной библиотеке было распахнуто, и альпийский воздух хлестал по страницам открытой книги, как будто хотел вмешаться в диалог, который уже давно вышел за пределы научных формул. За круглым столом, где чертежи, полевые снимки и расчёты лепились слоями, сидели двое – Василий и Лян Чжиюнь. Лица обоих были сухи, серьёзны, но в их взглядах мелькала та напряжённая тишина, которая возможна только между равными.
– Ты всё ещё хочешь, чтобы я это озвучил вслух? – Лян откинулся на спинку стула, вперив взгляд в диаграмму.
– Озвучь. Хотя бы себе. Мы же оба знаем, что это не просто гравитационные аномалии.
Лян хмыкнул, но кивнул:
– Космическая струна – это не объект. Это след. След события, столь же мощного и нелепого, как сама первичная сингулярность. Мы имеем дело с осколками процессов, происходящих на границе слияния чёрных дыр. В тех точках, где топология пространства-времени временно утрачивает причинность.
Василий, не поднимая глаз от блокнота:
– То есть мы видим не структуру, а последствия – как шрамы на коже времени. Только эти шрамы не затягиваются.
– Не затягиваются, – повторил Лян, – потому что струна – это линия, вдоль которой пространство раскалывается, как лёд. Вблизи неё материя теряет локальность, свет деформируется, а время начинает вести себя как нелинейная функция. Именно потому мы и не можем изучить их напрямую. Никто не может «достать» изнутри струны информацию. Всё, что попадает туда, остаётся навсегда.
– А ты никогда не думал, что это может быть не «остаток»… а «интерфейс»? – тихо произнёс Василий.
Лян приподнял бровь:
– Объясни.
– Что если эти струны – не просто случайные линии гравитационного коллапса, а – каналы. Квантовые тоннели. Протоки, по которым реальность «дублирует» себя. Или даже прорастает.
Лян долго молчал. Снаружи в саду прозвенел колокол: Айрис снова забыла выключить виртуальный таймер в зале медитаций. Василий почувствовал лёгкое раздражение, но не подал вида.
– Ты, конечно, романтик. Но… может быть, прав. – наконец произнёс Лян. – Но тогда каждый фрагмент космической струны – это потенциальный вектор декогеренции. Мы не просто изучаем физику. Мы изучаем границу симуляции.
– Или выхода из неё, – добавил Василий.
Лян встал и прошёлся к окну. Горы были неподвижны, как древний ответ, который давно забыт, но ещё способен разбудить страх.
– Мы оба знаем, Василий, что с точки зрения природы бытия – всё уже давно доказано. Только теперь начинается совсем другая часть. Мы больше не учёные. Мы… свидетели.
На этих словах Василий медленно поднял взгляд от монитора, его пальцы ещё удерживали форму прежнего мышления, но разум уже дрогнул. Взгляд стал напряжённым.
– Нет, Лян. Мы по-прежнему учёные. И ты это знаешь.
Лян не ответил. Он продолжал смотреть в окно, будто за каменной чертой, за снежной тишиной Альп он искал силу, которая бы могла спорить с сомнением.
– Формулы переписываются, – продолжал Василий, – и мы оба были свидетелями этого. Сколько раз за последние двадцать лет мы видели, как рушились аксиомы, как целые исследовательские группы натыкались на тупик, где логика переставала держать форму. Я не согласен, что всё доказано. Мы не свидетели конца – мы, возможно, только в преддверии нового языка.
Лян медленно обернулся.
– Ты хочешь сказать, что всё ещё веришь в возможность переписать основы понимания?
– Не только верю. Я подозреваю, что мы наблюдаем не просто физический феномен. – Василий поднялся, его голос становился всё тише, как будто он говорил скорее себе, чем другу. – Что если эта космическая струна – не деформация, а нечто обратное? Не просто провал в пространстве, а… антипространство?
– Ты говоришь метафорами, Василий.
– Нет. Я пробую нащупать структуру. Если пространство – это вакуум, то может быть, гиперплотное вещество – это его антипод. Не в смысле материи-антиматерии, а в более глубоком – топологическом. Не место, а отрицание места. Представь: в глубине чёрной дыры, за горизонтом событий, не бесконечность и не ноль, а иной полюс – не сингулярность, а антипространство. Не пустота, а плотность настолько полная, что пространство отказывается существовать.
– Философия. Красивая, но не вычислимая.
– Пока нет. – Василий шагал по комнате, руки его дрожали от возбуждения. – Но теория струн ведь говорит нам: всё – вибрация. Частица – это струна, вибрирующая в определённой моде. А если струна перестаёт вибрировать? Если она, утратив движение, слипается с другой, образуя неподвижную, холодную нить? Без ритма, без частоты – вне нашего спектра восприятия. Что если в этом состоянии она создаёт то, что мы зовём зоной свернутого времени? Или… антипространством?
– Ты хочешь сказать, что зона свернутого времени – это продукт нелинейного состояния струны?
– Не просто продукт, а знак. След. Намёк на то, что вся система другая, что всё вокруг нас может быть резонансом. И когда резонанс исчезает – мы сталкиваемся с неподдающимся описанию: с абсолютной плотностью, с отсутствием координат.
– Это гипотеза. Ты не первый, кто заглядывает за край, – тихо сказал Лян.
Василий кивнул. Его дыхание было неровным.
– Да. Но я чувствую, что подхожу к её формулировке. Как будто внутри меня возникает симметрия, из которой можно будет вывести уравнение. Пока нет ни математики, ни языка, но я знаю – если это собрать, докрутить… – он замолчал, сжал пальцы. – Это может стать ключом. Не к объяснению, а к следующему шагу.
Лян молчал. Он подошёл ближе и положил руку Василию на плечо.
– Тогда докрути. Но не спеши. Потому что, если ты ошибаешься – все исчезнет.
– Или мы найдём дверь.
Они стояли молча. За окном вечереющие горы были недвижимы, как сама материя, усталая от наблюдения за тем, как смертные спорят о её природе.
Василий вошёл в холл раньше обычного. На стене – старые часы с маятником – указывали половину десятого. Дом казался сонным, приглушённым, будто дышал во сне. Но за дубовой дверью, ведущей в кабинет Ляна, звучали голоса. Сначала он подумал, что это аудиозапись – тихая, но монотонная. Потом уловил: это разговор. Живой. Сдержанный. Научный.
Василий замер. Он не собирался подслушивать – даже мысленно отшатнулся от этой мысли. Но что-то в тембре голоса Ляна остановило его. Не было в нём привычной доброжелательности, мягкой иронии. Было напряжение. И осторожность.
– Он называет это антипространством, – произнёс Лян по-китайски. Василий понял без труда. За годы жизни в Швейцарии он выучил язык до совершенства. – Гипотеза не оформлена, но есть зерно. И оно… – пауза. – Оно, возможно, даёт ключ к пространственно-временной плотности вблизи сингулярностей.
Второй голос – низкий, чуть сиплый, с властной интонацией. Профессор из Пекина. Имя не прозвучало, но Василий догадался: Хэ Чжианг, один из идеологов проекта ещё на стадии отбора кадров. Василий почувствовал, как по позвоночнику пробежала стужа.
– Ты хочешь сказать, – проговорил профессор, – что в зонах свернутого времени не просто гравитационный коллапс, а трансформация понятия пространства?
– Я так понял. Он предполагает, что вибрационная струна, утратив частоту, перестаёт быть элементом пространства. Она перестаёт «быть» в том смысле, в каком мы понимаем присутствие материи. Но, слившись с аналогичной структурой, формирует нечто новое – область, изъятую из пространства, но обладающую абсолютной плотностью. Мы назвали это антипространством.
Василий почувствовал, как в груди что-то начинает колоть. Его формулировки. Его догадки. Только вчера, на закате, он сидел у окна и сжав голову руками, проговаривал это вслух, как шёпот, как исповедь.
– И это было его предложение? – переспросил профессор.
– Да, Василия. Мы пока не публиковали ничего. – Лян говорил осторожно, но уверенно. – Чэнь работает над формализацией. Есть вероятность, что мы сможем связать это с поведением энергии в зонах пространственно-временного искривления.
– Он понимает, что его идеи могут выйти за пределы лабораторной этики? – Голос профессора стал холоднее. – Мы не имеем права повторить ошибку, как в Цюрихе.
– Он ничего не предпринимает в обход протокола, – вмешался Чэнь. Голос глухой, словно он говорил с другой стороны комнаты. – Но он слишком независим. Его тревожит всё – от ошибок ИИ до того, что кто-то использует наши данные без согласия.
Лян тяжело выдохнул:
– Он думает, что я не на его стороне.
– А ты? – спросил профессор.
Пауза. Василий на миг представил, как в кабинете повисла тишина, как Лян, сидя в кресле, смотрит на экран, и глаза у него усталые, как у человека, который знает цену любой лояльности.
– Я на стороне науки, – ответил он наконец.
Слова прозвучали не как измена, но как отречение.
Василий отступил от двери, как от края бездны. Шаг назад, ещё один. Но мир не возвращался на место. Он чувствовал себя ограбленным. Не в смысле публикации или академической зависти. Нет. Глубже. Тот, кому он доверял, говорил о нём с другим, как о пациенте, как о переменной.
Он вышел на веранду. Воздух был свеж, пах сосной. Небо висело низко. Вдали шевелились горы. Тишина звенела.
«Я не на его стороне». – Эти слова распластались внутри, как холодный лист металла.
Он вспомнил, как Лян смеялся в первый день, как они спорили о Хокинге, об аналогах информации, о сохранении энергии в пространственно-замкнутых контурах. Вспомнил, как Чэнь подавал инструменты, молча, точно, с уважением.
И теперь – это. За спиной. Без него. Не как с коллегой, а как с объектом анализа.
Василий опустился на деревянную скамью. Он не знал, сколько прошло времени. Мысли путались. Он пытался найти оправдание Ляну. Мог ли тот знать, что Василий услышит? Был ли разговор столь откровенным, если бы он был рядом?
Но дело было не в словах. А в том, что эти слова звучали не впервые. Они уже были в тоне. В взглядах. В недосказанностях.
Он почувствовал не просто обиду. Он почувствовал одиночество. Снова. Как тогда, когда всё началось, когда исчезла семья, когда осталась только работа. Он тогда думал, что нашёл смысл. Что, возможно, спасёт кого-то другим способом. Но теперь – снова стены. Снова незримые преграды.
Он знал, что не сможет молчать. Но и рвать – не мог. Ибо без них, без этой команды, он – один против абсурда. Против пустоты.
Урсула была женщиной из тех, что, едва войдя в комнату, меняют в ней вес воздуха. Не сказать, чтобы лицо её соответствовало классическим канонам красоты – в нём было что-то неуловимо европейское, с чуть вздёрнутым носом и внимательными, почти насмешливыми глазами серо-зелёного цвета. Её рот был слишком выразительным, словно каждая улыбка иронизировала, даже когда она молчала. Но настоящая сила Урсулы заключалась не во внешности, а в том, как она умела эту внешность обрамлять.
Фигура её была щедрым вызовом природе – округлая, аппетитная, из тех, что редко оставляют мужчин равнодушными, даже когда скрыты под строго научным комбинезоном. Урсула знала это и не пыталась скрыть. Напротив – она превращала каждый свой жест, каждое движение, каждую поправленную прядь волос в тщательно срежиссированную сцену, как будто была актрисой, исполняющей роль роковой женщины в фильме, который снимался только в её голове.
В научной группе она была альфой – не по уму, но по инстинкту. Её интеллект, возможно, не блистал точностью формулировок или глубиной теорий, но в хитрости, в женской дипломатии, в умении направить разговор в нужное русло, она не знала равных. Никто, кроме Василия, не догадывался, что именно через Урсулу решаются некоторые внутренние вопросы. Она не командовала – она соблазняла. Не приказывала – намекала. И всегда получала то, чего хотела.
С Василием её связывало нечто странное. Он был не первым мужчиной, в которого она вцепилась когтями желания, но первым, кто не растворился в ней, не стал послушным придатком её страсти. Василий брал её, как берут лекарство – не потому, что верят в исцеление, а потому что без него становится хуже. Их связь была плотской, животной, почти бессловесной. И всё же, несмотря на внешнюю поверхностность, между ними существовало нечто трудноуловимое – будто в глубине этой страсти затаилось некое обещание. Урсула чувствовала это и, возможно, именно поэтому продолжала борьбу за его внимание, стараясь выжечь из пространства других женщин.
Она не прощала слабости – ни в себе, ни в других. Была стервозна и прямолинейна, как хирургический разрез. Могла в лицо сказать то, что другие вынашивали неделями. Её наглость была такой, как говорят в народе «наглость второе счастье». Именно эта черта вызывала уважение даже у тех, кто не переносил её. В отличие от некоторых других участниц проекта, она не нуждалась в покровительстве или одобрении. Она брала, что хотела, и если не могла взять, заставляла это к себе прийти.
И всё же, несмотря на всю её жёсткость, Василий чувствовал в ней странную преданность. Он не знал, откуда она берётся – из уважения, зависимости или хитрого расчёта, – но был уверен: в решающий момент Урсула встанет на его сторону. Не по велению совести – по зову плоти, по интуитивному убеждению, что он и есть её шанс. И, может быть, её проклятие.
Поэтому, когда после подслушанного разговора Василий, охваченный смесью ярости и внутреннего холода, шёл по узкому коридору, ведущему в жилой блок, он знал, куда направляется. Он шёл к ней. Не за утешением – за ясностью. За тем особенным типом разговора, который начинается с запаха кожи, продолжается полуприкрытым глазом и завершается молчанием, в котором – правда. Урсула уже ждала его. Конечно, ждала.
Он вошёл, не постучав. Дверь за его спиной захлопнулась резким, почти театральным щелчком. Комната Урсулы была полутёмной – густой сумрак лениво стекал с бархатных штор, запах её духов, терпкий, почти смоляной, витал в воздухе, как знак её безраздельного присутствия. Она лежала на диване, в тёплом халате, не столько расслабленная, сколько выжидающая, будто знала, что он придёт – именно сейчас, именно в этом состоянии.
Василий молчал. В нём гудело. Ещё не совсем осознанный, но уже оформляющийся в форму гнева, тревоги, предчувствия. Она подняла голову, посмотрела внимательно, прищурившись:
– Ты кипишь, – произнесла она, поднимаясь неторопливо. – Значит, кто-то тебя обжёг.
Он ничего не ответил. Её шаги по ковру были почти неслышны, только шелест ткани, да лёгкий, лукавый изгиб губ. Она подошла ближе – слишком близко. Его рука дрогнула, как будто хотела оттолкнуть или схватить.
– Тебе нужно что-то разрушить, – шепнула она, – или кого-то. Давай я буду первой.
Он впился в неё взглядом, как человек, увидевший огонь среди ледяной равнины. И она поняла – что бы это ни было, сейчас не время говорить. Время – раствориться.
И тогда между ними вспыхнуло что-то, что не имело формы и не искало слов. Это была не любовь и не нежность – это было вытеснение боли другим телом, попытка заглушить предательство, как гул космической струны глушит радиосигналы. Он будто искал в ней доказательство, что ещё способен на власть, на контроль, на жизнь.
Её губы были мягкими, но требовательными. Руки – опытными и настойчивыми. Она умела – как никто другой – превращать мужскую ярость в страсть, переводить язык напряжённой челюсти и разорванных мыслей в прикосновения, которые не нуждаются в объяснениях. Она отступала только чтобы заманить глубже, уступала, лишь чтобы взять больше.
Он прижимал её к себе, грубо, но не жестоко, как человек, у которого забрали самое важное, и который теперь ищет компенсации в плотской власти. Но и она, ощущая это, не злилась, напротив – её подогревало это превосходство, этот женский триумф над хаосом в его глазах.
Халат соскользнул с её плеч, как лишнее притворство, как знак того, что можно быть собой. Он целовал её шею, вжимался в неё с такой жаждой, как будто хотел стереть всё, что знал до этой ночи. Она же выгибалась навстречу, шептала что-то – полуслова, полузыки, неразборчивые, но волнующие.
Для неё это было победой. Для него – бегством. Но в этом сплетении тел и мыслей возникало странное очищение, почти исповедь, в которой не было слов. И только когда дыхание обоих стало прерывистым, и она уткнулась лбом в его ключицу, дрожа от насыщенной, плотной волны удовлетворения, он наконец почувствовал, как гнев начинает отступать. Не исчезать – нет. А именно отступать, как осознанный, но пока ещё не разыгранный ход.
– Тебе стало легче? – прошептала она, даже не поднимая головы.
Он не ответил. Только провёл пальцами по её спине – медленно, будто проверяя, здесь ли она, настоящая ли.
– Они предали, – произнёс он спустя несколько мгновений. Голос был глухим. – А я снова сделал вид, что ничего.
Урсула усмехнулась. Она уже поняла: разговор начнётся теперь.
Урсула лежала, скрестив ноги, чуть приподнявшись на локте, и лениво водила пальцем по его груди, будто вычерчивала на коже знаки, понятные только ей. Свет из-под штор был рассеянным, и в нём её лицо казалось одновременно притягательным и непроницаемым.
– Ты злишься, – сказала она, не спрашивая, а утверждая. – Я чувствую это в тебе. Даже сейчас, когда ты весь во мне – ты не здесь. Где ты, Василий?
Он смотрел в потолок, молча. Лоб напряжён, челюсть сжата. Его дыхание выровнялось, но внутри ещё гудело.
– Это из-за Ляна? Из-за Чэня? – продолжала она, перебирая его волосы. – Или это всё же из-за того, что тебя не называют отцом спасения человечества? Ты ведь хочешь, чтобы все признали: ты решил вопрос со струнами. Признайся.
Он приподнялся на локте, уставился на неё, не мигая.
– Ты серьёзно? – в голосе был металл. – Ты правда думаешь, что всё это… обо мне?
– А разве нет? – Урсула пожала плечами. – Ты работаешь, как будто тебе нужен не ответ, а трибуна. Ты жгёшь себя, будто хочешь быть тем, кто победил. Ты ведь не только за человечество. Ты и за себя. Это нормально. Мы все такие.
Василий резко сел, спустил ноги на пол. Его лицо перекосило, будто он пытался что-то вытолкнуть наружу – не мысль, не слово, а саму суть чувства, которое в нём росло.
– А ты… – начал он и осёкся. – Ты говоришь, будто в этом всём нет ни нации, ни людей, ни городов, ни боли. Будто это – чистая идея, лабораторный белок. Нет, Урсула. Это не так. Всё это – кровь. Земля. Люди, которые исчезли. Моя семья. Это не формулы. Это я и… пустое место рядом со мной. Это не тщеславие. Я просто хочу понять, на чьей я стороне.
– На стороне жизни, – тихо сказала она. – Всё остальное – шелуха. Никто не будет помнить, кто что доказал. Если выживем.
Он обернулся. В его взгляде было нечто близкое к испугу. Но не перед ней – перед собой.
– А я… – проговорил он медленно, как человек, впервые разглядывающий своё отражение в мутной воде. – А я ведь действительно не знаю, хочу ли, чтобы моё имя было выбито на той табличке. Или мне просто нужно… чтобы кто-то победил. Любой. Хоть Лян. Хоть Чэнь. Хоть ты.
Она рассмеялась. С тихим, ленивым ехидством.
– Я? Нет уж. Мне хватает того, что ты иногда подаёшься моим чарам.
Он не улыбнулся. Его рука легла на её колено, сжалась, разжалась. Потом – тишина. И в этой тишине вдруг, словно чужой воздух хлынул в лёгкие, он ощутил странное, холодное, иррациональное чувство. Не мысль, не страх – ощущение. Как будто в нём что-то подселилось. Как будто всё, что он думал и чувствовал – не его. Как будто цели, которые он перед собой ставил, и эмоции, что переполняли его, были вставлены, вживлены, аккуратно, хирургически, кем-то другим.
Ему стало трудно дышать. Он попытался вспомнить – когда именно решил, что струны нужно разрушить любой ценой? Когда возникло это отчаянное стремление быть первым? Почему он не помнит причины, только следствия? Почему вся цепочка мотивации – в тумане?
– Твоё лицо изменилось, – сказала Урсула, присев рядом. – Ты сейчас где-то очень далеко. Ты меня пугаешь, Василий.
Он тряхнул головой, словно стряхивая с себя пыль снов. Всё это – паранойя. Так бывает. Усталость, бессонница, перегрев сознания. Симуляция…
Слово пронзило его. Но он отогнал его, как моль от свечи. Нет. Это он. Это его выборы. Его боль. Его гнев.
– Просто дурная мысль, – пробормотал он.
– Всё дурное – честное, – заметила Урсула и потянула его к себе. – А теперь… хватит думать. Твоя мысль слишком возбуждает тебя. Но я умею возбуждать лучше.
Он не успел ничего сказать. Она уже приникла к его губам, а пальцы – опытные, умелые, упрямые – скользнули по груди. Она знала, что делала. Она чувствовала его, как животное чувствует смену погоды. И она не позволяла ему тонуть в этой тревоге. Нет. Она тащила его назад – в тело, в жар, в забытьё.
Пока он дышал всё тише, пока кровь снова шла не в голову, а в кожу – ощущение симуляции отступало. Вновь возвращался он, Василий. Учёный. Мужчина. Человек.
Хотя бы на эту ночь.
Утро в лаборатории началось с ослепительного света, льющегося с высоких альпийских склонов. Над заснеженными вершинами стелился прозрачный иней, а в зале собраний, в круглом помещении с массивным деревянным потолком и стеклянными стенами, уже собиралась группа из пятнадцати учёных. Их объединяло не только место, но и та зыбкая, почти мистическая грань между верой в науку и трепетом перед неизведанным.
Лян Чжиюнь стоял у интерактивной доски, ведя тонким лазерным маркером пунктир вдоль голографической схемы пространственного искривления. Он был сегодня сосредоточен, лицо его казалось чуть утомлённым, но взгляд – по-прежнему живым, острым.
На правом фланге сидел Гао Мин – молчаливый, как всегда, с очками на кончике носа и легкой тенью раздражения на лице, словно математические модели, выстроенные ночью, кто-то невидимо разрушил во сне.
Айрис Мао – моложавая, с блестящими прядями, небрежно заколотыми в пучок, листала блокнот с записями на трёх языках. Она время от времени поглядывала на Василия, как бы ненароком.
Новые участники проекта, прибывшие недавно из разных университетов, казались более сдержанными:
– Томас Ривз, американец, специалист по астрофизике гравитационного линзирования, высокий, сутулый, с бледной кожей и резким акцентом, сидел в углу и курил электронную сигарету.
– Доктор Лейла Барзани, иранская теоретик, глубоко увлечённая идеей зеркальной материи. Её глаза горели, а пальцы невольно чертили формулы в воздухе.
– Матиас Хольц, немец, инженер, занимающийся моделированием полей, казался уставшим, но собранным – вечно с планшетом, вечно проверяющим симуляции.
– Анна Чиу, тихая специалистка из Тайваня, делала точные замечания, её математические выкладки восхищали даже Гао.
– Олег Кожевников, из России, плотный и ироничный, сидел, покачиваясь на стуле, но, когда говорил – все слушали. Его гипотеза о некомпактных струнах уже обсуждалась в кулуарах.
Разговор шёл напряжённо. Каждый добавлял по капле в общий сосуд непонимания, обрамлённый верой в неизбежное прозрение.
– Мы не можем больше рассматривать струны как однозначно одномерные, – сказала Лейла Барзани. – Возможно, их гравитационное взаимодействие – это лишь поверхностный феномен, а внутри скрывается динамика, которая требует пересмотра понятий о размере.
– Ты снова за псевдотопологию? – буркнул Олег. – Мы уже обсуждали это. Пространство может быть искривлённым, но не обязательно содержать внутри себя противоречие.
– А если это не пространство? – вступил Томас. – А если это разрыв? Метафизический надлом. Без измерений, но с отражённой памятью.
– Что ты хочешь этим сказать? – сдержанно спросил Лян, хотя глаза его вспыхнули.
– Что, возможно, струна – это след от столкновения вселенных. Не физический объект, а память. Оттиск. Отголосок того, что уже было и никогда не повторится.
– Достаточно, мы так скатимся в философию бытия – спокойно сказал Лян. Он перевёл взгляд на Василия. – А теперь… пусть скажет Василий.
Группа замолчала. Василий сидел в стороне, подперев подбородок рукой. Он встал неохотно, чувствуя, как в нём сливаются и злость, и усталость, и какая-то странная, пульсирующая в животе тревога. Он вышел в центр круга.
– Вы знаете, – начал он медленно, – с того момента, как мы впервые зафиксировали вибрацию восьмой струны, меня не покидала мысль: а если это не просто энергия, не просто искривление? Что если струна – это своего рода антипространство? Абсолютная плотность? Гиперконцентрация?
Айрис слегка кивнула, а Чэнь посмотрел на него внимательнее.
– Мы говорим о вакууме, как о пространстве. Но если есть пространство, то должен быть и антагонист – как тьма для света. Что если струны – это не часть пространства, а его изнанка? Место, где материя и время утрачивают свои свойства?
– Где квант теряет вибрацию? – прошептала Лейла.
– Именно, – сказал Василий. – И что, если… когда струна прекращает вибрацию, она сливается с другой? И образует нечто совершенно новое – не субстанцию, а отсутствие. Плотное, тотальное плотное, отсутствие пространства.
В зале повисла тишина. Даже Гао поднял взгляд от своих записей.
– Я не уверен, – продолжал Василий, – как это выразить в формулах. Всё ещё разрозненно. Но если… если представить себе, что внутри струны находится не сингулярность, а обратное – антисреда, антиструктура…
– По-этому, это так похоже на черную дыру, – хрипло добавил Томас.
Лян молчал, склонив голову. Василий посмотрел на него – и впервые увидел в его глазах не просто уважение, но нечто большее: страх и восторг. Он сделал шаг назад и сел на место.
Василий замолчал, и в пространстве лаборатории воцарилась тишина – не неловкая, не гнетущая, но внимательная и напряжённая, как тишина в старом соборе после звона колоколов. Люди сидели, как под гипнозом. Даже Олег Кожевников, обычно нетерпеливый и язвительный, казался обескураженным, словно в сказанных словах Василия было что-то, чего он не решался сразу признать.
– То есть… – начал медленно Чэнь Лэй, глядя не на Василия, а куда-то в воздух, как будто пытаясь ухватить нить мысли, – ты полагаешь, что космическая струна – это не просто реликт большого слияния, но… ? Антиполе, которое не просто искажает, но отменяет само пространство?
– Не совсем, но да, – коротко кивнул Василий. – Не граница, как стена. А как зеркало. Только не отражающее, а всасывающее. Если пространство – нить, то струна – игла, в которую эту ткань втягивают, скручивают, а потом затягивают в узел. Такой плотности, что вибрации прекращаются, и вместо квантов остаётся только абсолют. Такая себе аллегория, но все же.
Айрис Мао скрестила руки, чуть наклонилась вперёд:
– Ты говоришь, как будто это не просто гравитационная аномалия, а онтологическая. Что если квант перестаёт вибрировать – он перестаёт быть, и значит, струна – это топологическая смерть материи?
– Не смерть, – Василий покачал головой. – Изнанка. Слой, лежащий под структурой поля. Мы не знаем, возможно ли существование кванта без колебания. Но теоретически…
– Теоретически это похоже на обратную сторону теории суперструн, – прервала его Элоиза Делакруа, глядя исподлобья. – Только там струны не прекращают колебаний. Даже в чёрных дырах. Даже при температуре абсолютного нуля. Это и есть основа их существования: вибрация как сущность.
– Если они существуют. – Чжи Юнь поднял бровь. – Никто их не видел.
– Никто не видел и антипространства, – вмешался Олег. – А между тем, мы обсуждаем его, как если бы у нас был снимок.
Наступила пауза. Василий молчал. Он знал – именно сейчас произойдёт то, чего он ждал и чего одновременно боялся: споры. Живые, резкие, безжалостные. Они не будут жалеть его. Но именно из таких столкновений рождалась истина.
– Подожди, – заговорил Гао Мин, его голос был мягче, почти задумчив. – Если представить, что вибрации прекращаются – то значит ли это, что гравитационные поля… не исчезают, а становятся плотнее? Что антипространство – не отсутствие, а сверхприсутствие?
– Да, – ответил Василий. – Именно. Это не пустота. Это – насыщение, но это не то что есть простраство, это другая природа.
– Сверхнасыщение? – усмехнулась Айрис. – Тогда это должно проявляться где-то. Образовывать оболочки, шрамы на пространстве. Вроде следов от ударов, которые не исчезают.
– Именно это и делают струны, – ответил Лян. – Мы наблюдаем не сами струны, а их эффект. Их топографическую травму, которую они оставляют. Пространство не гнётся – оно как будто исчезает.
– Что-то вроде пространственного рубца? – уточнил Чэнь.
– Если это так, – вмешалась Элоиза, – тогда мы должны пересмотреть всё, что знаем о горизонтах событий. Если антипространство – внутри чёрных дыр, если оно плотное… значит, изнутри гравитация не нарастает, а становится более парадоксальной. До исчезновения времени вместе с пространством?
– До его отрицания, – вставил Василий. – В антипространстве время не идёт вперёд. Оно не идёт назад. Оно – отсутствует.
Повисла тишина. Кто-то вздохнул. Кто-то откинулся в кресле. Кто-то сделал пометку. Но в этих жестах не было суеты. Были уважение и настороженность, как будто каждый сейчас трогал грань, где кончается рациональное и начинается недопустимое.
И тогда заговорил Адам Сейферт, до этого сидевший молча. Его голос был глухой, хриплый, будто звучал из-под земли:
– Тогда всё, что мы делаем – это бесмыслица. Мы моделируем не объекты, а изнанку объектов. Математика – это модель поведения существующего. А тут – нет поведения в принципе, нет существования. Как мы можем описать то, чего нет? Что не взаимодействует. Что не отображается.
– Мы не можем, – медленно произнёс Василий. – Пока не изменим саму логику описания. Формулы больше не подходят. Их нужно переписывать. Или… отказываться от них.
Чэнь нахмурился:
– То есть – перейти к новой онтологии? Физика как философия? Мы ведь уже это проходили. Тупик.
– Тогда это был тупик, – резко сказал Василий. – Теперь – необходимость.
На мгновение в зале возникло ощущение близкой катастрофы. Словно кто-то только что предложил сжечь все книги. Начать с нуля. Отказаться от опыта ради откровения.
И вдруг Лян, довольно долго молчавший, вздохнул и поднялся. Он прошёлся по комнате, как бы осматривая всех. Его глаза были спокойны, но в уголках дрожали микроскопические складки.
– Господа, – произнёс он наконец, – всё это… требует времени. Много времени. И большого мужества.
Он посмотрел на Василия:
– Спасибо. Ты сделал шаг, который мог не делать.
Потом повернулся к остальным:
– Но именно поэтому нам всем придётся ответить на вопрос: мы продолжаем строить модель, или начинаем переписывать язык?
Снова тишина. Но это уже была другая тишина. Не напряжённая. Глубокая. Как тишина перед бурей, в которой зрело нечто, чего никто не мог остановить.
Глава 5.
– То, что ты сказал на собрании, – начала Элоиза, когда они остались вдвоём в старой библиотеке, – звучит… почти как исповедь. Только ты будто сам в неё не до конца веришь. Повтори. Просто скажи ещё раз – не для них, для меня.
Василий устало потер лицо ладонями. Он уже почти сутки не спал. Голова казалась набитой стеклянной ватой – резонанс без смысла. Но её голос – ровный, внимательный – будто возвращал очертания миру.
– Я не говорю, что это истина. Но всё, что мы имеем, – не стыкуется. Обычная космическая струна по теории – это реликт ранней Вселенной, квантовая щель в ткани пространства. Но то, что мы наблюдаем… не колеблется. Я думаю что там нет вибрации квантов.
Он встал, подошёл к окну, глядя на затянутое облаками небо. Свет был рассеянный, почти нереальный.
– Я думаю, это не струна в нашем понимании. Это анти реальность как бы. Одномерное, абсолютно плотное явление, в котором не существует ни времени, ни пространства. Настолько плотное, что не просто притягивает – исключает. Оно создаёт гравитацию, и подавляет саму возможность её существования внутри. Оно не искажает пространство – оно его уничтожает. Точнее оно взаимоисключает его.
– Но тогда это… – Элоиза медленно подошла к нему. – Это не может быть белой дырой. Белая дыра – теоретический антипод чёрной. Грубо говоря, это выброс, сингулярность, из которой вырывается материя, где время идёт в другую сторону. Но белая дыра – всё ещё часть пространства-времени. Ты говоришь о чём-то вне этого.
– Именно, – кивнул Василий. – Белая дыра всё равно живёт в законах нашего мира. Она подчиняется геометрии. А здесь – нет даже геометрии. Подойти ближе – и пространство перестаёт давать координаты. Даже луч лазера не возвращается. Даже время замедляется. Ты не можешь замерить – ты не можешь быть рядом.
– Ты хочешь сказать, что это не физический объект, а…?
– Антипространственный узел. Абсолютное явление в одном измерении. Не сингулярность, и не граница. Не порог материи, а порог возможности бытия.
Он обернулся к ней. Глаза его были глубоки, как ночь без света.
– Это не вырожденная материя. Не экзотическая физика. Это то, где исчезает наш закон – не нарушается, а просто перестаёт существовать. Где логика пространства ломается. Мы называем это струной только потому, что не можем назвать иначе. Но вблизи неё даже мысль начинает расползаться.
– Тогда, – сказала Элоиза, чуть сбивчиво, – если ты прав, все гипотезы о её образовании – неверны. Ни ранняя Вселенная, ни слияние чёрных дыр, ни квантовые флуктуации – ничего из этого не может породить антипространство.
– Да. Вот почему я не спал этой ночью.
Он прошёл обратно к столу, взял старую распечатку с математическими выкладками. Несколько строк были зачёркнуты – он не мог даже смотреть на них без внутреннего содрогания.
– Мы ищем объяснение на языке, который сам рождается из пространства и времени. А пытаемся описать то, чего на этом языке не существует.
– Значит, не теория сломана, а сам наш аппарат?
Он посмотрел на неё. Элоиза была по-прежнему спокойна, но в этом спокойствии слышалось напряжение человека, стоящего перед бездной, не решающегося заглянуть.
– Мы, может быть, впервые за всю историю науки, – тихо сказал он, – подошли не к границе знания, а к границе самой возможности познавать.
Она помолчала.
– Тогда зачем ты продолжаешь? – спросила она.
Он долго не отвечал. И когда заговорил, голос его звучал глуше:
– Я не знаю. Временами мне кажется, что это даже не мой выбор. Будто всё это… хочет быть понятым. Или – показанным. Не нами, может быть. Но через нас. Как будто мы – просто нити в чужой ткани. А струна – игла.
…На некоторое время оба замолчали.
Василий смотрел в пустоту между рядами книг. За спиной, в оконном проёме, качался силуэт ночной ели, как замедленное дыхание неведомого существа. Было тихо. Даже лампа над их столом трепетала неровно – словно от внутреннего сомнения.
Элоиза прикусила губу. Она смотрела на него теперь не как на учёного. Не как на коллегу. Не как на человека, способного вскрыть пространство и посмотреть в его нутро. Она смотрела – как на мужчину, чьи слова, сжатые в скупую мысль, ударяли глубже прикосновений.
– Я знаю, – произнесла она тихо, – что ты был с Урсулой. И с Айрис. И знаю, что это не моя роль – знать. Мне не положено задавать вопросы, не так ли? – Она наклонилась ближе. – Я не прошу объяснений.
Василий медленно выпрямился. Но ничего не сказал. Он только смотрел. Как будто пытался уловить, что происходит на самом деле: диалог? признание? вызов?
– Меня всё равно тянет к тебе. Не могу это остановить. Я даже не пытаюсь больше. – Её голос был спокойный, почти будничный. – Каждый раз, когда ты входишь в комнату, я это чувствую. Не в теле, нет. В чем-то, что глубже. Это не влечение. Это – тяга. Как будто меня вытягивает внутрь.
– Это не… правильно, – выдохнул он, наконец.
– А что в этом мире осталось правильного?
Он не ответил. Только встал. Медленно подошёл. На миг их лица оказались близко – не так, как в романах, не как на кинопленке, а как в моменты, когда больше невозможно притворяться.
Элоиза первая потянулась вперёд. Не для поцелуя. Для утверждения.
Они не говорили больше. Всё, что можно было произнести, было произнесено раньше – среди уравнений, гипотез, строк из Канта и ревности, завёрнутой в академическую вуаль. Сейчас осталась только потребность – острая, как скальпель, и простая, как движение воды вниз по склону.
Они отстранились от стола. Василий крепко взял её за запястья и прижал к книжному шкафу. Их тела встретились резко. Без ритуалов. Без нежности – и в этом было странное освобождение. Как будто вся утончённость их научных споров, весь культурный глянец – отпали, осталась лишь первичная правда.
Одежда мешала. Она сползала с них быстро, как сброшенные предположения. Их дыхание было шумным, прерывистым. В библиотеке пахло старой бумагой, потом, кожей, мукой рассудка, который знал: утром снова начнутся заседания, наблюдения, конфликты теорий. Но сейчас – только этот момент. Эта точка времени, которую ни один астрофизик не в состоянии спрогнозировать.
Она прижималась к нему с какой-то молчаливой яростью, словно всё, что копилось неделями – вопросы, сомнения, жалость, зависть, жажда – теперь требовало выхода. Василий не удерживал себя. Это было не о любви, не об эмоциональной связи, не о ласке. Это было – о тишине, которая наступает после долгого, невозможного напряжения.
Он крепко держал её за бедра, грубо входя в неё, не спрашивая разрешения – потому что оно было уже давно дано. Она царапала ему спину, не сдерживая крик – не от боли, но от ощущения, что наконец всё сказано.
Они оба были в этом – с полной отдачей. Не из страсти. Из правды. Из честности, с которой редко кто умеет быть близким.
А потом – тишина.
Элоиза, всё ещё прижатая к деревянному стеллажу, отдышалась, и лишь тогда, спустя какое-то время, сказала:
– Странно, правда? Наши разговоры – такие вежливые. Наш секс – как взрыв.
Василий склонил голову. В его глазах была усталость. И странное спокойствие.
– Может, это и есть два полюса человеческой природы.
– Как мир и антимир, – усмехнулась она.
– Как знание и глупость, – ответил он.
Они не двигались. Только слушали, как ночной ветер царапает стекло – словно напоминание: всё, что между людьми – подчинено законам, которых они сами никогда не поймут.
Утро выдалось прозрачным и молчаливым, как будто всё в доме решило дать им передышку: даже кофеварка, казалось, варила кофе тише обычного. Василий спустился на первый этаж, зная, что Элоиза ещё наверху. Он не испытывал ни вины, ни торжества – только ту особую притихшую ясность, которая приходит после грани, давно перешедшей черту.
В библиотеке его ждал Лян Чжиюнь. Он сидел у окна с папкой, из которой выглядывали вырезки уравнений, распечатки и.… рисунок. Грубая схема, нарисованная от руки. Линии были неровные, как будто сам Лян рисовал в гневе или в сомнении, и это наводило на мысль, что за схемой стояло нечто большее, чем чистая логика.
– Василий, – сказал Лян без приветствия, – я бы хотел услышать твоё мнение. По поводу той теории, которую сейчас продвигает Олег.
Василий сел напротив. Он не нуждался в пояснениях. Олег не был частью их узкого круга, но его имя всё чаще звучало в обсуждениях, как нечто нежелательное, но неотвратимо надвигающееся. Как болезнь, которую сначала игнорируют.
Лян положил перед ним схему.
– Он утверждает, что космические струны – это не отдельные сущности, а феномен вторичной топологии: то есть, они не создают искривление, они есть результат более глубокого искажённого поля, возникшего в ходе распада фундаментальной симметрии.
Василий нахмурился. Это звучало знакомо. Когда-то, в университете, он сам мечтал о чём-то подобном: что есть «глубже», что пространство – не база, а лишь проявление. Но мечты, как известно, редко выживают после столкновения с опытом.
– В его интерпретации, – продолжал Лян, – струна – это как шов на ткани, сшитой криво. Он даже говорит, что они не имеют собственно плотности. Что вся наша интерпретация – следствие искажённых наблюдений. Иллюзия гравитации. Иллюзия энергии. Иллюзия самой материи.
Василий долго смотрел на рисунок. Затем откинулся в кресле.
– Он хочет разрушить экспериментальную базу последних десяти лет?
– Он считает её некомпетентной. Ошибочной. Говорит, что все данные интерпретированы сквозь призму устаревших парадигм. Особенно критикует твою модель.
Василий встал, подошёл к окну. Там был сад, ещё сонный, с запотевшими стёклами теплиц, словно мир не решался проснуться до конца. Он не злился, но чувствовал в себе ту внутреннюю судорогу, которая появляется, когда слова другого вторгаются в твоё внутреннее мироздание.
– Это даже не теория, – наконец сказал он, – это философская гипотеза, замаскированная под физику. Он не оперирует измерениями. Он рассказывает метафору, прикрытую формулами.
Лян слегка улыбнулся:
– А разве метафора не может быть истинной?
Василий обернулся. Его глаза сверкнули.
– Мы не поэты. Если бы мы были поэтами, мы бы назвали струну «шрамом Бога». Но мы – не они. У нас – приборы, графики, измерения. Мы не ищем красивую ложь. Мы ищем уродливую правду.
Лян отложил папку. Его лицо оставалось спокойным, почти безразличным, но под этим спокойствием чувствовалась внутренняя пружина.
– Проблема в том, Василий, что твоя теория требует веры. Ты говоришь, что струна гиперплотное антипространство, но пока мы не можем доказать это напрямую. А Олег предлагает путь, где всё объясняется без лишних сущностей. Экономнее. Как говорил Оккам: не следует умножать без необходимости.
– Экономия – не критерий истины, – отрезал Василий. – Это лишь эстетика логики.
Лян замолчал. Повисла пауза, как перед бурей.
Василий снова сел.
– В его модели нет места опыту. Он обнуляет не только эксперименты, но и само наше существование. Если струна – это иллюзия, то мы – кто? Иллюзии, иллюзий? Мыслящие фантомы в голографической сети?
Лян прищурился:
– А ты уверен, что мы не такие?
Это прозвучало слишком спокойно. Слишком близко. Василий не ответил. Он чувствовал, как поднимается что-то тяжёлое, как горячий воздух в куполе, готовый прорваться сквозь стекло. Но спор не начался. Пока.
– Я не стану защищать Олега, – сказал Лян. – Он слишком политичен, слишком провокационен. Но ты должен понять, Василий: он называет струну философским фантомом потому, что не видит в ней исходного начала. Он считает, что мы принимаем за сущность то, что является лишь симптомом. Это как путать тень с телом.
– А ты? – спросил Василий. – Что думаешь ты?
Лян опустил глаза.
– Видишь ли, Василий… – начал Лян, облокотившись на край лабораторного стола и уставившись в лампу, словно в неё была вложена истина. – Теория Олега… она начинает набирать сторонников. По крайней мере, она объясняет аномалии, которые твоя модель, как бы изящна она ни была, пока что обходит стороной.
Василий сидел, сцепив пальцы, словно в ожидании приговора. Он молчал, но тень раздражения легла на его лицо.
– Он считает, – продолжал Лян, – что струны не просто искажают пространство-время… они продуцируют искажение.
– Хм… – только и сказал Василий. Он не сразу поднял глаза. – Значит, они – не что-то фундаментальное?
– Вот именно, – быстро согласился Лян. – Это и есть главное противоречие. Если принять эту модель, то мы отказываемся от всей парадигмы того о чем ты говорил. Понимаешь, насколько это абсурдно? У тебя была строгая геометрия, пусть и экзотическая. У него – чистая мифология.
– Или мистика, – усмехнулся Василий с оттенком презрения.
– Да, но мистика, к которой тянутся. Почему? – Лян вдруг посмотрел в глаза Василию, пристально, почти с вызовом. – Потому что она внушает надежду. Если струны – причина, то возможно, их можно уговорить. Или переписать. Это как… разговор с Богом, но на понятном языке.
Василий поднялся, медленно, как будто его тело вдруг обрело новую тяжесть.
– То есть ты всерьёз говоришь, что люди предпочитают иллюзию объяснения – самой возможности быть услышанными, – точности? Проверке? Науке?
– Я говорю, что страх сильнее логики, – спокойно сказал Лян. – Мы живём внутри гипотез, Василий. Ты ведь знаешь это. Каждая из них – карта, не территория. И если чья-то карта ближе к сердцу, нежели к опыту, её всё равно будут защищать как крепость.
Наступило молчание. Только приборы тихо щелкали, подмигивали диодами в полутьме. Тонкие струи пара вырывались из клапанов, словно дыхание самой лаборатории.
– Я не боюсь, – наконец проговорил Василий.
– Нет, ты зол, – спокойно ответил Лян. – А это другое. Это значит, что ты всё ещё веришь в смысл. Злой человек – это человек, которому мир обещал порядок, а дал хаос.
Василий сжал губы. Было в этих словах что-то невыносимо правдивое, как обнажённый нерв.
– И ты сам? Ты склоняешься к какой модели? – тихо спросил он.
– Я пока наблюдаю. – Лян пожал плечами. – Слушаю. И жду, кто из вас потеряет терпение первым. Ты или Олег. Пока я вижу только, что ты стал уставшим. Почти… без веры.
– Я стал внимательным. – Василий смотрел на свой блокнот, в котором был нарисован фрактал из стрел и графов, теперь кажущийся ему мёртвым.
– А может, ты просто стал человеком, – добавил Лян. – Не гением. Просто человеком, который чувствует пределы. Предел – вот ключевое. Может быть, космическая струна – это и есть предел. Не просто в пространстве. А в нас самих. Как если бы она показывала, где заканчивается реальность, а начинается попытка её выдумать заново.
Василий молчал. Он смотрел сквозь стеклянную дверь вглубь лаборатории, где дремали в темноте серверные стойки. Казалось, вся жизнь – это не результат, а отложенное уравнение, и решение которого всегда будет оставаться на границе недосказанности.
– Это спор, Лян, – наконец произнёс он. – Но не между мной и Олегом. А между человеческой памятью и страхом. Между тем, что мы знаем, и тем, что не можем признать.
– И всё же, – сказал Лян с лёгкой усмешкой, – ты хочешь победить. Признаться себе, что струна – твоя. Что ты её понял. И хочешь, чтобы это признали.
– Хочу, – не стал отрицать Василий. – И не потому, что тщеславен. А потому что если не я, то они. А если они – то мы погибнем.
– Это и есть тщеславие, – сказал Лян почти ласково.
Они замолчали. Снаружи завыла ночная буря, ветер с ледника ударил по стеклу, будто природа тоже хотела вмешаться в спор.
– Завтра будет утро, – наконец сказал Лян. – И кто-нибудь озвучит новую модель. Может, Элоиза. Может, Айрис. А может, один из новых стажёров. Но если мы не научимся слышать друг друга, то не струна нас поглотит. Мы сами разорвём себя на атомы.
Он встал, кивнул Василию и, не дождавшись ответа, вышел из зала, оставив за собой длинную полоску света, исчезающую вглубь коридора.
Василий стоял, глядя в пустоту. В нём бушевал не только спор – в нём пробуждалась та самая граница, которую упомянул Лян. Между разумом и гордыней. Между страхом и интуицией. И, может быть, именно в этом состоянии – на грани – и рождалась истина. Не та, что удовлетворяет учёных. А та, что ломает их до основания.
Он сидел на краю койки, в той самой маленькой комнате с оконцем в сторону ледника, и будто впервые смотрел на себя извне. Лампа отбрасывала на стены тени, обводившие комнату как в театре теней, где актер один – и он же зритель, он же режиссёр. Книги, расчёты, кипы бумаг были сложены в строгие стопки – след остатков прежнего порядка, ещё не разрушенного внутренней сумятицей. На коленях у него лежал блокнот, раскрытый на пустой странице.
Василий не писал. Он просто смотрел на белизну листа, как смотрят в снег, ожидая найти там ответы.
Разговор с Ляном… он звучал у него в голове – фрагментами, обрывками, почти галлюцинаторно. Мягкий голос, уверенные интонации, полуулыбка, доброжелательность – всё это было. И всё казалось в тот момент… правильным? Или, по крайней мере, приемлемым. Да, именно: приемлемым. Удобным. Внятным. Логичным. Тогда.
Но сейчас… сейчас, в этом ночном одиночестве, с прояснённым рассудком и почти физическим ощущением ясности, ему казалось, что это был какой-то гипнотический бред. Не разговор двух учёных. А имитация разговора. Его слова – он сам их вспоминал! – были странно натянутыми, неестественными, словно кто-то подсовывал ему реплики из чужого сценария.
«Это не был спор», – подумал он. – «Это была пантомима… игра в спор. Мы оба говорили, но не слышали. И главное: я ведь знал. Где-то в глубине знал, что это чепуха. Но не мог этого увидеть!»
Он сжал ладони в кулаки, словно надеясь выжать из них остатки интуиции. Как можно быть таким ясным сейчас – и таким слепым тогда? Что это? Эмоция? Страх? Или… что-то совсем иное?
Мысль медленно, почти змеей, ползла по извилинам мозга, пока не ткнулась в знакомую щель: «симуляция».
Он вздохнул. Нет, нет, нет… уже было это. Уже сходил туда. Уже стоял на краю этой бездны. Уже выныривал. Уже говорил себе: хватит. И снова… это возвращается. Как память о снах, в которые не веришь, но которые помнишь с ужасающей детализацией.
Что, если это и есть цена рассудка? То, что ты вдруг начинаешь осознавать – не рассудком, а кожей – что живёшь по заданному сценарию. Что в нужный момент кто-то словно отодвигает полотно твоего сознания, выключает свет – и ты говоришь не то, что хочешь, не то, что думаешь, а то, что надо. Тебе. Им. Никому. И сам же, потом, возвращаешь себе этот свет – и удивляешься, что был в темноте.
«Это был не я», – шептал он себе, глядя на пустую страницу. – «Я не мог говорить всё это. Эти странные фразы. Эти построения. Эта якобы логика – но без точки отсчёта. Это даже не ошибка. Это… декорация мысли. Мнимая мысль».
Он встал, прошёл по комнате, остановился у окна. Внизу, под ледником, в темноте, где начинался склон, лежала чёрная пустота. Даже звёзд не было видно: облака повисли над Альпами как тяжёлая крышка гроба. И в этом мраке он внезапно ощутил что-то… тихо шевелящееся. В воздухе. В себе. В окружающем. Не присутствие, нет – скорее, режиссуру. Словно кто-то, кто остался за кулисами, не ушёл. Просто сменил маску.
Он тряхнул головой.
– Бред. – сказал вслух. – Опять начинается.
Но голос его прозвучал глухо, и эхо от стен не вернулось. Он снова сел. И долго не двигался. Блокнот лежал всё там же – белый, незапятнанный, как совесть, которую ещё не успели осквернить.
И вот тут пришло: а если это и есть реальный мир? Если не симуляция, а настоящий ад – это быть собой, но не иметь власти над собой? Если настоящая тюрьма не в том, чтобы быть запрограммированным, а в том, чтобы не замечать, что ты уже – программа?
Он вспомнил, как Айрис однажды обронила: «Человеческий мозг – единственное устройство, которое умеет программировать само себя, чтобы не осознавать, что оно – устройство».
Тогда он отмахнулся. Тогда он был спокоен. А сейчас эта фраза ударила как пощечина.
Он встал, подошёл к столу, достал записку – ту самую, где был первый план по визуализации струны. Начал перечитывать. И вдруг с ужасом понял: этот план родился до собрания. До спора с Ляном. И в нём уже было опровержение того, что он защищал перед Ляном. Как он мог не вспомнить? Почему его мозг не отреагировал? Почему не закричал ему: «Ты ошибаешься!»?
Он сел и закрыл лицо руками.
Что, если кто-то внутри меня знает, но не говорит? А кто-то снаружи ведёт, но не раскрывает?
И всё же… всё же он отказывался. Нет. Этому нельзя поддаваться. Надо трезво мыслить. Струна – это не аллегория. Это реальность. Это физика. Это плотность. Это антипространство. Не театр. Не сон.
Но что-то в нём уже не соглашалось. Тихий голос – тот, что просыпается в полудрёме, между дыханием и мыслью, – шептал: нет, Василий. Всё, что ты видишь, не видится. Оно показывается.
И в этот момент он понял: следующий шаг будет не научным. Следующий шаг будет экзистенциальным.
Он не знал ещё, куда он его приведёт. Но чувствовал: тишина комнаты – это не отдых. Это ожидание.
Утро было густое, как молоко, но не тёплое. Альпийский свет едва пробивался сквозь плотные облака – серые, пепельные, чужие. В доме, в длинной столовой, за широким столом с белой льняной скатертью, собралась малая часть команды, те кто тут жили.
Айрис, Лян, Гао Мин, Урсула, Элоиза, Чэнь Лэй и сам Василий – семь человек, каждый с чашкой кофе, каждый со своим недосказанным лицом. Беседа началась как-то непритязательно: с обсуждения плотности данных, странного сигнала, пришедшего из кольцевой антенны прошлой ночью, и – почти незаметно – соскользнула к теории Олега.
– Ну, всё же… если рассматривать струну не как плотность, а как границу, – проговорил Лян, нарочито неторопливо. – Как некую поверхность – точнее, граничное условие между нашим континуумом и чем-то иным, что не описывается никакими калибровочными преобразованиями.
– Ты говоришь сейчас то, что говорил Олег, – подала голос Урсула. – Но Олег ведь утверждал, что струна – это не граница, а симулятивная абстракция. Он считал, что её нельзя описать ни как объект, ни как процесс.
Василий поднял взгляд от чашки. Внутри что-то дрогнуло. Неужели она – и вправду – понимает о чем говорит?
– Нет, – вмешался Гао Мин. – Олег говорил иное. Он ссылался на то, что «симулятивная абстракция» как ты выразилась, – лишь наш способ восприятия дефекта пространства, своего рода фантом, вызванный не наблюдаемой сущностью, а нашей ограниченной системой отсчёта. Именно это и было его исходным утверждением.
Сказано было спокойно. Почти буднично. Но Василия ударило, как ознобом. Нет. Это не то, что говорил Олег. Ни Лян, ни он сам не формулировали это так. Более того – вчерашний разговор, хоть и был бессвязным, точно содержал другие тезисы.
Он опустил глаза. Вновь то ощущение. Будто нечто, незримое и надчеловеческое, сидело с ними за столом и, склонившись к бумаге, медленно переписывало смысл уже произошедшего. Не память и не интерпретацию – а само событие. И теперь каждый говорит фразу, которой никто не говорил. Помнит то, чего не мог помнить. Верит в то, что ещё вчера было отвергнуто.
– Всё становится интересней, если допустить, что струна не часть пространства, а что пространство – часть струны, – тихо добавил Лян. – Мы все оперируем представлением, что струна находится внутри нашего мира. Но если она – не объект в пространстве, а условие, по которому пространство вообще возможно?…
Он замолчал. Голос его звучал убедительно. Но не для Василия. Тот сидел, не шевелясь, с выражением покойного терпения на лице.
«Ты ведь вчера нес чушь,» – подумал он, глядя на Ляна. – «И я знал это. И сейчас ты говоришь другое. Ты говоришь, внятно, как бы научно. Но это опять чушь. Вы все несете чушь. Это… кто-то за тобой. Кто тебя корректирует. Кто перезаписывает. Или – может быть – это с моей памятью что-то не так?»
Он вздохнул. Голова ясная. Мысли точные. Внутри – не раздражение, не сомнение, а именно удивление. Тихое, как у человека, который обнаружил, что картина, висевшая на стене двадцать лет, вдруг изменила сюжет.
– А ты что думаешь, Василий? – спросила Айрис, повернувшись к нему.
– Что я думаю… – Он не знал, как ответить, и потому выбрал тон предельно нейтральный. – Думаю, что мы очень быстро стали слишком уверены в своей правоте. Теория Олега… сегодня звучит логичнее, чем вчера. Что удивительно, учитывая, что он её не менял.
– Менял, – вставила Элоиза. – Я слышала, он разговаривал с Кью-Бета. Он уточнял формулировки. Искал аналогии в китайской философии, говорил что-то про Дао и антипространственные фракталы.
– Значит, Кью-Бета, – подумал Василий. – Конечно. Кто же ещё.
ИИ. Искусственный корректор. Большой редактор правдоподобия. Программа, чья задача – не истина, а когерентность. Чтобы ничего не выпирало. Чтобы всё – даже бред – звучало как музыка.
«Если ты не видишь швов – это не значит, что их нет,» – мысленно сказал он себе.
– Вы не замечаете, как сами сдвинулись? – вдруг произнёс он вслух. – Вчера всё звучало иначе. Мы говорили другими словами. Использовали другие смыслы. А теперь, будто… будто кто-то нас поправил. И мы рады.
Молчание. Даже ложки остановились в тарелках.
– О чём ты, Василий? – мягко спросила Айрис. В её голосе – не ирония, не обвинение. Скорее, забота. Как будто он сказал что-то неуместное. Как будто не он один осознал странность – но говорить об этом было запрещено по умолчанию.
Он пожал плечами.
– О том, что, может быть, не всё, что звучит умно, является умным. И что, возможно, мы не в том процессе, каким он кажется.
Гао Мин хмыкнул. Только Лян задержал на нём взгляд чуть дольше, чем следовало. И Василий уловил в этом взгляде согласие. Не дружеское, не союзническое – молчаливое признание. Да, ты прав.
Глава 6.
Он проснулся не от мысли, не от сдавленного внутреннего напряжения, не от навязчивой тревоги, не от того затаённого страха, что что-то ускользает – а от запаха женщины. И впервые за – сколько? – за много недель он позволил себе остаться на спине, не думая, не вздрагивая, не судорожно пытаясь ухватить идею, что, как ему всегда казалось, могла спасти мир.
Он не знал, сколько прошло времени. Может, полчаса. Может, полжизни. Рядом, слегка повернувшись к нему, дышала Урсула. Волосы её лежали на подушке так, будто сама гравитация решила сегодня не вмешиваться. Он смотрел на неё без напряжения, без желания, без той тревожной страсти, которая почти всегда сопровождала их встречи. Сейчас в нём была лишь ясность и какая-то тихая, почти детская благодарность.
– Ты смотришь на меня так, как будто забыл, кто я, – прошептала она, не открывая глаз.
– Нет, – сказал он. – Наоборот. Кажется, я впервые помню.
Она улыбнулась. Без подтекста, без кокетства. Так улыбаются старым друзьям, которых не видели десять лет, и вдруг узнают в толпе.
– Кто же я?
Он провёл пальцем по её плечу, будто желая убедиться в её реальности.
– Единственный человек в этой чертовой долине, который не задаёт мне вопросов о струнах.
– Потому что я знаю, – сказала она, – что ты всё равно не скажешь мне что ты думаешь на самом деле.
– Почему ты думаешь, что я вру?
– Ты не врёшь. Ты… отстраняешься. Ты используешь слова как дымовую завесу. Иногда мне кажется, что ты говоришь не со мной, а с кем-то в себе. С каким-то Василием, который знает лучше. А со мной – только тот, кто остался.
Он помолчал. Эта мысль была слишком близка к правде, чтобы её обсуждать вслух. Он почувствовал, как в горле медленно поднимается тошнота от узнавания. И в то же время – лёгкость. Ему не нужно было ничего доказывать сейчас. Не здесь. Не ей.
– Это смешно, – сказал он, – но я сегодня впервые выспался. И не думал ни о гиперплоскостях, ни о топологических изломах, ни о вакуумной энергии.
– Значит, я действительно хороша в постели.
Он улыбнулся. А потом рассмеялся – коротко, тихо, искренне. Как смеются люди, забывшие, что такое смех.
– Ты… ты непостижима, Урсула.
Она приподнялась на локте, обнажённая, живая, с растрёпанными волосами, с мягкой кожей и ясными глазами, в которых не было утренней рассеянности.
– Не будь идиотом. Никакая я не непостижима. Я просто здесь. Просто рядом. Это ты – непостижимый. Я не пытаюсь спасать человечество. Мне достаточно спасти тебя от самого себя.
Он отвёл глаза.
– Мне не нужно спасение.
– Конечно. Конечно. Мужчинам никогда не нужно. Пока не оказывается, что они спят в библиотеке между двумя стеллажами потому, что боятся лечь в кровать потому, что она слишком… человеческая.
Он снова молчал.
Урсула не требовала ответа. Она легла обратно, положив ладонь на его грудь.
– Когда ты был совсем мальчиком, ты, наверное, хотел спасти мир. Да?
– Я хотел понять. Хотел знать.
– Это одно и то же.
– Нет, – сказал он. – Спасти – это навязать миру то, как ты его видишь. Понять – это сдаться.
– Ты сдался?
– Сейчас? – он взглянул в потолок. – Да. В этом моменте – да. Я хочу просто быть. Не быть учёным. Не быть избранным. Просто человеком, с тобой, с этим светом, с этой тишиной. Чёрт, даже с этим простынями – кто их выбирал, они ужасны. Но даже они сейчас кажутся… правильными.
Она не ответила. Только сжала его руку. Как будто соглашалась.
Он закрыл глаза. Внутри не было тревоги. Не было иллюзии контроля. Только телесность, простота, ясность.
Так продолжалось несколько минут. Или век.
Василий повернулся к ней.
– Урсула. Скажи.
– Что?
– Почему ты остаёшься?
– Потому что я вижу, как ты исчезаешь. А я хочу поймать хотя бы тень того, кем ты был. Или кем мог бы быть.
– Ты не боишься, что я уйду?
Она прижалась к нему.
– Я боюсь, что ты останешься – но это будешь не ты.
Он хотел что-то сказать. Что-то важное. Но губы её уже касались его шеи, и это было как последний штрих на незавершённой симфонии.
Взгляд, всё такой же мягкий, лениво скользил по белью, по её спине, по его руке, лежавшей на животе. В комнате стояла странная тишина – не та, что возникает в отсутствие звуков, а та, в которой исчезают границы между телами, мыслями и чем-то, что не имеет названия. Его ладонь ощущала её дыхание. А его мозг… наконец был молчалив. Мир впервые сжался до одной комнаты, одной женщины, одной кровати – и ничего более.
– Урсула… – произнёс он неожиданно для самого себя, будто вслух открыл окно в новую мысль. Она не пошевелилась, только чуть сильнее прижалась к его боку, давая понять: она слышит.
– Вчера… на общем завтраке, – он замялся, потому что слово «завтрак» теперь, после всего, звучало не к месту, – обсуждали версию Кожевникова. Ну, ты помнишь. Только… Только обсуждение было каким-то… странным. Как будто все говорили на разных языках. Я пытался уловить ход мысли, но…
Он замолчал.
Урсула медленно приподняла голову, прищурилась, посмотрела на него, будто оценивая не смысл слов, а вес и цвет этих слов.
– Версию Кожевникова? – переспросила она спокойно. – На общем завтраке?
– Ну да… в гостиной… Я, Лян, Айрис, ты – ты сидела рядом с кофеваркой. Все что-то говорили, перебивали друг друга. А потом ты сказала, что… что ты не хочешь спорить об этом.
Её брови слегка соединились.
– Василий… – она заговорила медленно, но не с упрёком, а с заботой, с мягким участием, как говорят человеку, у которого вдруг пошла кровь из носа посреди лекции. – Никакого обсуждения не было. Я проснулась с тобой. Потом ушла готовить чай, и ты пришёл на кухню минут через двадцать. Мы ели вдвоём. Потом я пошла в сад одна. Айрис вообще уехала в город, помнишь? Говорила, что у неё доставка новых образцов.
Он смотрел на неё. И не видел в её лице ни тени насмешки, ни театральности. Только спокойную убеждённость – как у человека, который точно знает, что вчера был вторник, а не среда.
– Нет… – прошептал он. – Я же… я точно помню. Я спорил с Ляном. Он опять начал нести чушь. Но… – и тут он замер. Потому что следующее слово в его памяти – «бессвязно».
Всё действительно было… бессвязно. Слова, которые он вспоминал, не складывались в систему. В диалог. Только обрывки, как из сна: лицо Айрис, рука Ляна, чашка в его собственной руке, не по сезону горячая. Звук вилки, падающей на пол. И кто-то из них – или, может, он сам – говорил: «а ведь это могло бы быть пространственным резонансом, если бы…» – и дальше ничего.
Он уткнулся взглядом в потолок.
– Я сошёл с ума, да?
– Нет, – тихо сказала Урсула. – Ты просто начал спать. Настоящим сном. А когда человек долго не спит, реальность начинает рассыпаться, и её края путаются с краями снов.
– А я думал, я начинаю прозревать.
– Иногда прозрение – это галлюцинация, просто красивая. Ты много на себе нес. Слишком много. Неудивительно, что мозг начал рисовать тебе то, чего не было.
Она провела рукой по его щеке, и он заметил, как тёплая ладонь обостряет ощущение собственной реальности. Ласка как якорь.
– Ты думаешь, я путаю сны и действительность?
– Я думаю, что ты больше не обязан держать в себе всю систему мира. Позволь другим – хотя бы немного – удержать тебя в этом мире.
– Ты хочешь за мной присматривать?
– Да, – просто сказала она. – И не потому, что ты слаб. А потому, что ты один.
Он отвернулся. Не потому, что не хотел видеть её лицо. А потому, что ощущал, как что-то в нём сдвигается. Он знал это чувство – его трудно было выразить, но оно приходило, когда исчезала граница между физическим и мыслительным. В такие минуты он будто чувствовал не только своё тело, но и пространство между собой и другими. И это пространство сейчас сжималось – не болью, не тревогой – чем-то вроде странной щемящей памяти, как если бы он одновременно вспоминал сразу три разных детства, которые никогда не жил.
Он снова заговорил, уже шёпотом, не для неё – для себя.
– Иногда мне кажется, что вся моя память – это набор сцен. Несвязанных. Как будто я проживаю не одну жизнь, а сотни. Маленькие, обрывочные. Кто-то написал для меня сценарий, и я исполняю. Даже не зная, зачем.
Он ожидал, что она перебьёт. Скажет, что это снова утомление, паранойя. Но она молчала. Её ладонь оставалась на его груди – будто она слушала его через кожу.
– Но сейчас… сейчас всё тихо. – Он выдохнул. – И мне всё равно. Потому что рядом ты.
Она не ответила. Только нежно коснулась губами его плеча. Он закрыл глаза.
Тишина снова наполнилась смыслом. Но теперь это был не смысл мира, а смысл минуты.
Снег лежал в своей невозмутимой белизне, безмолвный, как акварельная бумага до первого мазка. Солнце поднималось неспешно, растекаясь в небе тонким золотом – не наглым, как в мегаполисе, а чистым, благословляющим. Василий стоял у края обрыва, в лыжной маске, с перчатками, что мешали привычному движению пальцев, и смотрел вниз, туда, где без конца текла кромка деревьев, провал, склон, другой склон, и всё это было таким далеким от лабораторий, графиков и серых теней теоретической космологии, что он вдруг рассмеялся.
– Чему ты смеёшься, мой философ? – Урсула подъехала к нему сбоку, слегка вильнув бедром, как будто невзначай.
– Тому, что я – здесь. Впервые, кажется, здесь.
– А разве ты не всегда здесь?
– Ты знаешь, о чём я. Здесь – не физически, а… – он замер, подбирая слово, —… душой.
– Какой ты странный, когда счастлив, – сказала она и поцеловала его в щеку, оставив на коже след тепла, который даже перчатки не могли скрыть.
Снег хрустнул под доской – это Гао, немного в стороне, балансировал на сноуборде, потом, сделав грациозный поворот, въехал на ровный участок рядом с ними. Шлем на нём сидел нелепо, с наклейкой в виде японского иероглифа, означающего, как он сам когда-то с иронией пояснил, «бессмысленное стремление к гармонии».
– Ну что, гении? Всё ещё спорите, что быстрее – свет или ваш затянувшийся флирт?
– Гао, – протянула Урсула, – тебе не кажется, что ты из тех людей, которые умеют превращать даже романтику в цинизм?
– Мне не кажется, я горжусь этим, – усмехнулся он. – Кстати, если будете падать, делайте это эффектно. У меня GoPro, и я отправляю видео в секретный чат «Теоретики на льду».
– Подожди, – Василий повернулся к нему. – Ты правда снимаешь?
– Конечно. Ты думаешь, я выхожу на склон ради физических упражнений? Это всё контент, Василий. Контент спасёт человечество.
Урсула прыгнула. Василий улыбнулся – и в этот момент заметил, как легко стало смеяться. Как будто мозг, освобождённый от струн и навязчивых состояний, начал впитывать простые, земные вещи: звук хруста снега, её голос, даже язвительную веселость Гао.
– Поехали, – сказала Урсула, и её лыжи резко ушли вниз, будто она была не человеком, а какой-то каплей в гравитационной системе, которая наконец отпустила Василия.
Он поехал следом. Ветер обжигал лицо. Мир двигался, и всё в нём двигалось. И впервые ему не нужно было думать, анализировать, предугадывать. Он ехал, и этого было достаточно.
Склон был средним по уровню сложности – не для туристов, но и не смертельный. Урсула обгоняла его, иногда поворачиваясь и подмигивая. Один раз она крикнула:
– Эй, гений! Догони меня, и скажу тебе, почему я всё ещё с тобой!
Он засмеялся в ответ и, как школьник, прибавил скорости.
– Потому, что никто другой не способен выдержать твою логику и мою бессонницу!
– Нет! Потому, что я люблю безумных! – крикнула она и снова ушла вперёд, оставив за собой только тонкую дугу на склоне.
Гао ехал последним, как опытный лыжный снайпер, наблюдая за ними и изредка выкрикивая остроумные замечания:
– Василий, катаешься ты так же плохо как знаешь истинную суть струны!!
– Урсула, ты больше похожа на амазонку на космическом коне! Где ты училась так ездить?
– В институте. Там не учили кататься на лыжах, но учили уезжать от проблем.
После нескольких спусков они остановились в деревянной беседке у подножия склона. Василий тяжело дышал, но был счастлив.
– Ты знаешь, – сказал он, – я сейчас понял. Всё, о чём я думал последние месяцы – про симуляции, про память, про струны… – он посмотрел на неё, – всё это ведь тоже настоящая реальность. Но это не единственная. Вот это… – он указал на чашку с глинтвейном, которую она протянула ему, – это тоже реальность. И ничуть не хуже.
– Даже лучше, – сказала она. – Потому что эту реальность ты можешь потрогать.
Гао в этот момент залез на скамейку, раскинул руки, и торжественно произнёс:
– Воистину, наш Василий переродился! Превратился из мученика физики в адепта глинтвейна! Аллилуйя!
Урсула бросила снежок в него – и попала прямо в грудь.
– Гао, – сказала она, – это единственный способ заткнуть тебя – прицельный огонь из снежков.
Гао сделал вид, что падает, схватившись за сердце.
– Ну всё, я ранен, моё эго больше не выдержит.
Они смеялись, даже Василий – по-настоящему, от души. И внутри этого смеха жила целая жизнь. Теплая, немного нелепая, человеческая.
Он не думал о струнах. Не думал о симуляции. Даже не думал, почему вдруг всё стало таким простым. Он просто был. И с ним была она.
Уже стемнело, за окнами разлеглась глубокая синева, в которую будто кто-то уронил горсти золы – то были далёкие звёзды, видимые яснее здесь, на высоте, чем в любой точке равнинной цивилизации. Внутри дома царил мягкий полумрак: камины потрескивали в двух комнатах, и тёплый свет рассыпался по стенам, как добрый шёпот.
Они все – Василий, Урсула, Гао и Айрис – расположились за длинным дубовым столом, не в парадной строгости, а как-то вольно, по-домашнему: кто с ногами на стуле, кто полулежа, кто, как Айрис, сидя на полу с бокалом красного вина и коленями, обхваченными руками.
Смех то и дело прорывался – живой, свободный, как если бы весь их проект, вся эта паутина из уравнений, графиков, космических тревог и страха перед симуляцией, исчезла, оставив только людей, которые вновь научились быть просто людьми.
Урсула разливала виски в небольшие стаканы, глядя на Василия с ленивым, довольным выражением: она знала, что он расслаблен, знал это и он сам, но не хотел признаваться – даже себе.
– Вася, – сказала она, садясь рядом и кладя голову ему на плечо, – а ты вообще любишь виски? Или просто пьёшь потому, что это красиво?
– Люблю… – сказал он медленно. – Но не так, как это делают люди, для которых вкус – событие. Мне скорее нравится идея – что в одном глотке собрано время, дуб, холод, терпение, что всё это где-то хранилось, дожидалось. Это… как археология вкуса.
– Это самая занудная похвала виски, которую я когда-либо слышал, – протянул Гао и поднял бутылку саке. – А вот это, господа, – он важно посмотрел на Айрис, – чистый дзен. Без баррельного пафоса, без глицериновой романтики. Вода, рис, забота. Всё остальное – фальшь. Саке.
– Конечно, конечно, – вмешалась Айрис, закатывая глаза. – А вино – это что, заговор французской буржуазии?
– Нет, – сказал Гао. – Вино – это способ сделать тоску эстетичной.
Айрис тихо рассмеялась. Её смех был как журчание льда в бокале: лёгкий, едва слышный, но сразу ощущаемый.
– А что ты любишь, Василий? – спросила она, подбирая ноги под себя. – Из еды, напитков, спорта? Ты ведь у нас самая загадочная фигура в этой истории.
Василий чуть наклонился вперёд, поводил пальцем по краю стакана и ответил, не задумываясь:
– Я люблю… – он остановился, будто что-то проверяя в себе, – …простые вещи: суп с хлебом, крепкий чай, шахматы, снег. Я никогда не гнался за вкусами. Вещи кажутся мне вкусными не сами по себе, а если я счастлив. Всё остальное – декорации.
– Вот это ты сказал, – протянула Урсула. – Мудро. Но немного грустно. Разве еда – не способ полюбить себя здесь и сейчас, не дожидаясь просветления?
– А может быть, наоборот? – вставил Гао. – Все эти изыски – просто попытка отвлечься от собственной пустоты. Если ты любишь рис с водой, ты уже святой. Но если тебе нужно карпаччо из тунца на подушке из киноа с туманом из шалфея, ты просто в отчаянии.
– Иронично, – отозвался Василий, – учитывая, что вчера ты заказывал устриц по ночному меню.
– Именно. Я вчера был в отчаянии. Всё логично.
Смех накрыл комнату, как лёгкое тепло пледа. Беседа развернулась – они говорили о кухне разных стран, о спорах между теми, кто любит кислое и теми, кто обожает сладкое. О том, что Айрис однажды месяц жила на арбузах и потеряла веру в сахар. Что Гао однажды пытался стать веганом, но продержался ровно до первого запаха бекона. Что Урсула когда-то жила в монастыре во Франции и ела простую похлёбку – и тогда поняла, что настоящая еда – это та, что дана тебе с любовью.
– Я был в Китае, – вдруг сказал Василий, задумчиво вертя стакан, – в очень бедной деревне, где не было ничего, кроме риса и соли. И однажды старик, сосед, принёс мне вяленую рыбу. Сам ловил, сам сушил. Я тогда не ел два дня – были проблемы с поставкой. И вот он просто поставил передо мной этот кусочек рыбы, налил кипятка в чашку и сказал: «Ты теперь наш».