Энтропия реальности
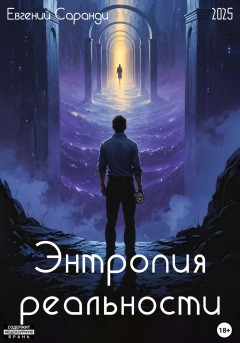
Глава 1. Три года тишины.
Над Москвой моросил мелкий, противный дождь. Не сильный ливень, а такая мокрая пыль, которая висит в воздухе и пробирает до костей. Ноябрьские сумерки сгустились серыми и сырыми. Капли не падали, а словно оседали на лицо, пропитывая куртку. Город превратился в размытое пятно из тусклых огней и мокрого асфальта. Саша Александров застегнул воротник своей старой синей куртки. Она была немодная, но надежная, купленная наспех взамен той, что была на Насте в тот день. Он втянул голову в плечи и зашагал быстрее, стараясь обходить глубокие лужи. До дома было недалеко, всего пару кварталов, но в такую погоду каждый шаг давался с трудом. В кармане джинс звенели ключи – тяжелая связка с брелком в виде пиксельного сердечка, который Настя подарила ему пять лет назад. Ключи от его двухкомнатной хрущевки на пятом этаже. Его одинокой крепости. Вот уже три года.
Три года, один месяц и семнадцать дней. Он специально не считал, но эти цифры витали в воздухе, как эта сырость, проникавшая в легкие с каждым вдохом. Постоянный фон его жизни.
Саша свернул с шумной улицы во двор. Знакомая до боли картина: старые, покосившиеся качели, ржавеющие под открытым небом, пара скамеек под почти голыми деревьями, вечно переполненные мусорные баки. Даже сквозь дождь от них тянуло кисловатым запахом. Шаг Саши был привычным, неторопливым. Он научился жить в этом ритме. Жить после. После того, как черный внедорожник врезался в машину скорой помощи, в которой была Настя. После множества часов в больничном коридоре под мигающим светом, где запах лекарств смешивался со страхом. После тихого щелчка, когда в реанимации выключили монитор. После тишины, которая оказалась громче любого крика.
Яркий свет операционной. Холодный блеск инструментов. Саша в стерильном халате, шапочке, бахилах – его пустили только потому, что он очень просил врача. Настя на столе. Маленькая, хрупкая под простыней. Все тело в трубках и проводах. Один глаз открыт – огромный черный зрачок, ничего не видящий. Врач что-то говорит медсестре, голоса тихие, слова отрывистые, непонятные: «Давление в черепе… гематома… шансы почти нулевые…» Его рука на ее руке. Холодная. «Держись, солнышко. Я здесь. Я с тобой». Никакой реакции. Только монотонный писк монитора, рисующий неровную линию на экране. Линию надежды, таявшую с каждым часом.
Саша резко тряхнул головой, будто стряхивая наваждение. Горло сжалось. Он сглотнул, чувствуя знакомый комок, не проходивший вот уже три года. «Прошло. Живи дальше», – прошептал он себе, свою заезженную мантру. Вдох-выдох. Холодный, сырой воздух наполнил легкие. Под ногами – твердый, неровный асфальт. Реальность. Какая есть.
Подъезд встретил его знакомым набором запахов: сырость подвала, хлорки, въевшийся запах старого линолеума и доносящийся сверху, с пятого этажа, запах жареной картошки. Лифт – вечный памятник советским долгостроям – молчал, его панель покрыта пылью и похабными надписями. Саша привычно пошел по лестнице. Пятый этаж. Три двери. Его – крайняя слева. Ключ с трудом повернулся в старом, капризном замке.
Квартира. Две комнаты, кухня, совмещенный санузел. Тесная прихожая, заставленная коробками с книгами (фантастика, дизайн, артбуки) и старой техникой, на которую всё руки не доходили. Воздух стоял спертый, пахло пылью, кошачьей шерстью и вчерашним ужином – то ли дошираком, то ли пельменями, он уже не помнил. Он скинул мокрую куртку, не попав на крючок; она соскользнула на пол. Пнул промокшие кроссовки в сторону обувницы. Надел стоптанные тапки с выцветшими Черепашками-Ниндзя – подарок Насти, над которым он когда-то подтрунивал, а теперь не мог выбросить. Раздалось тихое мурлыканье. Из-за коробки выполз рыжий гигант – мейн-кун по кличке Помидорка. Он лениво потянулся и потерся об ногу Саши. Где-то в глубине квартиры мелькнул светлый хвост второго кота, Матроскина, любившего прятаться.
Саша прошел прямо в зал – самую большую комнату, служившую ему и гостиной, и кабинетом, и спальней. Здесь царил такой бардак, который он называл «творческим беспорядком», а Настя – «свинарником». У стены – старый, но крепкий диван, заваленный подушками и клетчатым пледом. Напротив – не самый новый, но приличный телевизор, под ним – игровая приставка, опутанная проводами. Рядом – рабочий стол: мощный игровой компьютер, на который Саша копил два года, несколько больших мониторов, графический планшет. На экранах – открытые рабочие файлы: дизайн сайта для местной пекарни «Сдобная Лавка». Теплые цвета, аппетитные булочки, удобные кнопки. Все правильно. Технично. Но без души.
Над столом – полки. Много полок. Забитые доверху. Книги Стругацких и Сапковского, стопки комиксов Marvel и DC, немного манги, фигурки Бэтмена, Человека-Паука и сурового Геральта из Ривии с мечом, пара персонажей из аниме. На стенах – постеры «Бегущий по лезвию 2049», яркие «Стражи Галактики», мрачная, но красивая картинка из «Ведьмака». Не музей гика, а просто его уголок, его мир, куда он раньше сбегал от реальности, а теперь просто… существовал в нем.
Взгляд его невольно скользнул к стене над диваном. Там висели три фотографии в простых деревянных рамках. Маленькие островки прошлого.
Первая: Школьный выпускной Насти. Она – в простом синем платьице в горошек, он – в нелепом, мешковатом пиджаке отца. Смущенные улыбки. Она чуть наклонилась к нему, он держит ее руку, как хрупкую птичку. Глаза смеются. Они только что вместе станцевали свой первый медленный танец, и мир казался бесконечным и добрым.
Зал украшен бумажными гирляндами. Играет старая пластинка. Он неловко держит ее за талию, боясь прикоснуться слишком сильно. «Ты мне на ноги не наступай», – шепчет она, улыбаясь. «Стараюсь», – бормочет он, краснея. Ее рука на его плече легкая, уверенная. Запах ее духов – что-то цветочное, недорогое, но волнующее. Они кружатся, и весь мир сужается до точки, где они соприкасаются.
Вторая: Свадьба. Ей 18, ему 22. Солнечный день во дворе загса. Настя в недорогом, но милом платье с коротким тюлевым подъюбником, смеется, запрокинув голову, ловя лепестки цветов, которые бросают подружки. Он смотрит на нее, а не в камеру. В его глазах – весь мир, сжатый в одном человеке. Глупость, обреченность и бесконечное счастье.
Он стоит перед дверьми загса, теребя галстук. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Не бойся, дурак», – говорит его друг Коля, хлопая по плечу. «Я не боюсь», – врет он. Потом двери открываются, и он видит ее. В белом. Улыбающуюся. Сияющую. Молодую, невероятно юную и прекрасную. И страх исчезает. Остается только она. И тихая, твердая уверенность: это навсегда.
Третья: Последнее их совместное фото. За пару месяцев до… Они на этом самом диване. Настя, уже беременная, но животик еще маленький, незаметный под большой футболкой, обнимает подушку, смеется над чем-то. Он сидит рядом, улыбается ей, а не камере. В кадре – часть его руки и Булочка, их корги, задремавшая у ног. Простота. Домашний уют. Счастье, казавшееся вечным.
Она тычет пальцем в экран ноутбука. «Смотри, Саш! Этот комбинезончик! С мишками! Нашему малышу надо!» Он обнимает ее за плечи, целует в висок. «Купим, солнышко. Все, что захочешь». «А если это девочка? Мишки – для мальчика» – «А мы купим с зайками. Или единорогами». Она смеется, прижимаясь к нему. «Ты с ума сошел от отцовства». «Это ты меня свела с ума», – шепчет он ей в волосы, вдыхая знакомый запах клубники и ванили.
Накатила знакомая волна боли, что аж закололо в сердце. Не острая, как в первые месяцы, а ноющая, постоянная. Он отвернулся. Привык. Дышал. «Нормально. Все нормально». Слова звучали фальшиво даже у него в голове.
В небольшой и тесной кухне он поставил чайник. Достал пачку дешевого растворимого кофе – Настя терпеть не могла растворимый, варила только молотый. Пока вода грелась, открыл полупустой холодильник. Пачка сосисок, кусок сыра с засохшими краями, три яйца, банка соленых огурцов, пачка сливочного масла. «Настоящий пир», – подумал он с горькой усмешкой. Достал сосиски, два яйца. Быстро пожарил на старой сковородке. Нарезал кусок черного хлеба, положил тонкий ломтик сыра. Ужин готов. Без изысков. Без радости.
Он сел за кухонный стол, заваленный старыми газетами, пустой пачкой от чая и коробкой от пиццы недельной давности. Ел молча, глядя в окно на темный двор и светящиеся окна соседних домов. Внизу, под навесом, курили соседи – их голоса и смех доносились приглушенно, обрывками фраз о работе, футболе, ценах. Жизнь шла своим чередом. Его жизнь тоже. Монотонная. Предсказуемая. Просто выживание. День за днем.
Звонок телефона. Врач. Голос строгий, но сожалеющий. Сообщил, что Настя попала в аварию. Саша мчится на своей старой «Ладе», руки трясутся, сердце колотится. Впереди мигалки скорой. Он обгоняет, видит перекресток, черный внедорожник, смятую «Газель» с красным крестом… Потом – приемный покой. Яркий свет. Запах лекарств и крови. «Тяжелая травма головы… перелом позвоночника и почти всех костей… внутреннее кровотечение… операция… подпишите согласие…» Его дрожащая рука. Бесконечный коридор. Палата реанимации. Её маленькое, изуродованное тело под простыней. Бледное, еле узнаваемое лицо. Писк мониторов. Его рука на ее холодной руке. Шепот: «Держись, солнышко. Я здесь». Дни. Недели. Надежда. Отчаяние. Тишина. Прямая линия на мониторе. Рука врача на плече. «Мы сделали все… Соболезнования…»
Саша резко отодвинул тарелку. Не доел. Ком в горле стоял колом. Он зажмурился, сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Прошло. Живи. Сейчас. Здесь». Он встал, подошел к раковине, плеснул себе в лицо холодной воды, смывая слезы. Удивительно, что у него вообще остались слезы, он думал, что уже все их выплакал. Взгляд упал на недорогие электронные часы. Без двадцати восемь. Вечер только начинался.
Он вернулся в зал, тяжело плюхнулся на диван. Помидорка тут же запрыгнул рядом и устроился калачиком. Саша машинально провел рукой по густой рыжей шерсти. Взял с тумбочки пульт от телевизора. Включил. Замелькали каналы – новости, где сплошной негатив и политические склоки, ток-шоу с кричащими людьми и надуманными скандалами, сериал непонятно о чем, но с красивыми людьми в красивых квартирах. Ничего не цепляло. Ничто не могло пробиться сквозь толстую стену апатии. Он выключил телевизор. Тишина снова заполнила комнату, прерываемая только мерным тиканьем старых настенных часов в коридоре. Тик-так. Тик-так. Отсчет секунд, казавшихся бесконечными.
Его взгляд упал на игровую приставку. Может, поиграть? В игру, где можно было на пару часов забыться в другом мире, стать героем или спасать королевства? Потом взгляд перешел на рабочие мониторы. Пекарня ждала макет. Работа – его якорь. Единственное, что держало на плаву. Он вздохнул, тяжело, как будто поднимая гирю. Встал, прогнал сонного Помидорку, подошел к столу. Запустил компьютер. Экран ожил, показав полуготовый интерфейс – теплые цвета, элементы, стилизованные под выпечку, аппетитные иконки булочек и пирожных. Он подвинул графический планшет, взял стилус. Работа. Очередной кирпичик в стене его новой, одинокой реальности. Он был почти спокоен. Почти. Просто вечер. Просто пятница. Просто жизнь. Какая она есть. Одинокая. Тихая. Бесконечно длинная.
За окном дождь зашелестел сильнее, забарабанил по карнизу. Где-то далеко проехала машина, брызги от шин шлепнулись о мокрый асфальт. Саша склонился над планшетом, водил стилусом, поправляя контуры иконки каравая. Тень его фигуры, отброшенная светом настольной лампы, качалась на стене – одинокая, огромная, повторяя движения руки, которая пыталась создать иллюзию тепла и уюта на холодном экране монитора. Для чужой пекарни. В чужом мире. Где его Настя была лишь фотографией на стене и незаживающей раной в сердце, нывшей тише, но не перестававшей болеть. Рыжий кот запрыгнул на подоконник и уставился в темноту, а где-то в углу комнаты Булочка, их корги, тико вздохнула во сне, свернувшись на своей лежанке.
Глава 2. Часы без стрелок.
Суббота встретила Сашу не просто серым небом – она придавила его сыростью, как мокрым одеялом. Дождь прекратился к утру, но следы его были повсюду: лужи-зеркала, в которых безвольно отражалось свинцовое небо, ветви деревьев, отяжелевшие от влаги и провисавшие почти до земли. Воздух густо пропитался запахами мокрой земли, прелых листьев и чего-то затхлого, городского. Саша проснулся поздно – его выдернул из забытья пронзительный вой автомобильной сигнализации под окном. Он не открыл глаза сразу. Лежал, уставившись в знакомую трещину на потолке – длинный, извилистый шрам на штукатурке, который он давно изучил до мельчайших ответвлений. Со двора доносилась знакомая симфония будней: хлопнула дверь подъезда, чей-то сдавленный смешок, отдаленный лай собаки. Все как всегда. Привычно. И от этого – невыносимо тяжело, как камень на груди.
Выходные. Они всегда были для него особой пыткой. Будни, хоть и окрашенные в серые тона апатии, хоть как-то структурировались работой. Звонки будильника, необходимость открыть файлы, ответить на письма – это создавало иллюзию движения, заполняло пустоту ритуалом. А суббота… Суббота была огромной, зияющей дырой в его существовании. Пустотой, которую он давно разучился заполнять. Друзья? Они отвалились первыми, не зная, как вести себя с его немой болью, с его черной дырой горя. Фигурки героев на полках? Комиксы в ярких обложках? Игровые миры? Все превратилось в пыльные декорации, в цветной мусор, неспособный вызвать даже слабую искру былого интереса. Даже прогулка казалась бессмысленным блужданием по знакомому лабиринту боли. Он лежал, прислушиваясь к ссоре соседей за стеной – обычный бытовой спор из-за немытой посуды. Их раздраженные голоса, такие живые и земные, лишь подчеркивали его мертвенную отстраненность. С трудом, будто преодолевая сопротивление невидимой вязкой массы, он поднялся с дивана. Тело отяжелело, каждая мышца протестовала. На подоконнике, свернувшись в рыжий шар, дремал Помидорка. Кот лениво потянулся, выпуская когти в пустоту, и равнодушно посмотрел на хозяина желтыми глазами.
Утро растворилось в плотном сером тумане безвременья. Холодный душ, обжигающий кожу ледяными иглами, не смог прогнать внутренний холод. На кухне, среди горы вчерашней грязной посуды, он нашел единственную относительно чистую кружку. Засыпал туда ложку дешевого растворимого кофе – коричневого порошка, который Настя презирала, называя «химической бурдой». Она варила только свежемолотый, наполняя квартиру густым, бодрящим ароматом. Теперь здесь пахло застоявшейся водой и тлением. Он включил компьютер. Не для работы – просто для фона, чтобы заглушить гнетущую тишину. Запустил плейлист любимой группы КиШ – громкий, агрессивный, бунтарский. Но музыка не задела струн души. Она превратилась в бессмысленный грохот, в шумовую завесу, за которой можно было спрятаться от собственных мыслей. Он механически открыл файл дизайна для пекарни «Сдобная Лавка». Теплые желто-коричневые тона, аппетитные булочки на макетах, удобная навигация… Все было технически безупречно, выверено до пикселя. Но это была лишь оболочка. Без души. Без той искры, того внутреннего огня, который раньше гнал его вперед, заставлял искать идеальное решение, вкладывать частичку себя. Сегодня даже смотреть на это не хотелось. Пустота.
Он откинулся на спинку старого офисного кресла, нервно вращая стилус между пальцами. Взгляд скользил по полкам, забитым реликвиями прошлой жизни. Фигурка Бэтмена в угрожающей позе казалась теперь просто куском раскрашенного пластика. Стеки комиксов Marvel и DC – пачками цветной бумаги с картинками. Этот уголок, его личная крепость, его портал в миры, где добро побеждало зло, где герои находили выход из любой безвыходной ситуации… Сегодня крепость рухнула. Портал не открывался. Даже здесь, среди своих «побегов», он был пленником тоски. Она сгущалась вокруг, как туман, проникая в каждую клетку. Тишина квартиры звенела в ушах. Но это была не просто тишина отсутствия звуков. Это была тишина отсутствия нее. Ее легких шагов по коридору, ее смеха, заразительного и звонкого, ее голоса, который мог быть таким разным – нежным, сердитым, смешливым… Тишина после взрыва.
Суббота. За год до… Они валялись на этом самом диване, сбив подушки в нелепую гору. Настя уютно устроилась, укутавшись в его старую, растянутую футболку с выцветшим логотипом группы. По телевизору бубнила какая-то глупая, но милая комедия. Она вдруг фыркнула, затем рассмеялась, закинув ноги ему на колени. «Саш, перемотай! Быстро! Я пропустила самое смешное место!» Он лениво потянулся за пультом, его рука на секунду коснулась ее голой щиколотки. Она щекотно дернула ногой. Воздух был густым и теплым, пропитанным запахом свежесваренного кофе (его попыткой), чуть подгоревших тостов (тоже его «шедевр») и ее шампуня – сладковатого, как спелая клубника. У их ног, свернувшись калачиком, посапывала Булочка, их рыжая корги.
Саша резко встал, стул с грохотом отъехал назад. Надо было выйти. Просто выйти из этих стен, пропитанных воспоминаниями и тишиной. Куда угодно. Лишь бы двигаться, лишь бы что-то менялось перед глазами. Он на автомате натянул старые, потертые джинсы, ту самую синюю куртку, которая пахла теперь только сыростью и пылью. Влажные от вчерашнего дождя кроссовки неприятно холодили ноги. Сунул в карман связку ключей с пиксельным сердечком и потрескавшийся телефон. На пороге схватил наушники – броню против мира и собственных мыслей. Включил «Прыгну со скалы» – знакомый хриплый вокал, грохочущие гитары. Звук бил по барабанным перепонкам, оглушая, но не трогал ничего внутри. Пустота оставалась пустотой, лишь прикрытой шумом.
Двор встретил его картиной унылой обыденности: пара детей, безуспешно раскачивающих мокрые, скрипящие качели; стайка пенсионеров на лавочке, молчаливо наблюдающих за происходящим. Он зашагал, не выбирая направления. Ноги, помня старые маршруты, сами понесли его по знакомой тропе. Через дворы-колодцы, мимо серых, обшарпанных пятиэтажек-хрущевок, мимо вечно переполненной мусорной площадки, где ржавели скелеты разбитых машин и воняло гнилью даже сквозь сырость. Город вокруг жил своей шумной, равнодушной жизнью. Саша шел сквозь него, как призрак.
Он не планировал, но ноги привели его в парк. Вернее, в их скверик – небольшой клочок зелени, зажатый между домами, с разбитыми асфальтовыми дорожками и небольшим, давно заросшим тиной прудом. Здесь прошли отрочество и юность. Здесь они, еще нескладные подростки, гуляли допоздна, болтая о чем угодно. Здесь, у этого самого пруда, под сенью старой плакучей ивы, он впервые, дрожа от страха и восторга, поцеловал Настю. Здесь же, на покосившейся скамейке с отколотой краской, они, уже почти взрослые, строили планы: о квартире, о путешествиях, о детях… Саша избегал этого места как огня после… Слишком много теней прошлого оживало здесь, слишком остро резало по незажившим ранам. Но сегодня что-то незримое привело его сюда. Музыка в наушниках все еще гремела, но он ее почти не слышал, погруженный в свои мысли. Шел по знакомой аллее, мокрые листья под ногами хрустели с тихим, похожим на вздох звуком. Свернул к пруду. Вода была темной, маслянистой, покрытой пленкой тины и плавающим мусором. Грунт вокруг, особенно у скамейки, был разбит недавним ливнем, превратившись в месиво из грязи и травы.
Вдруг нога, ступив на особенно скользкий участок, наступила на что-то твердое и неожиданно гладкое, спрятанное под слоем грязи. Саша поскользнулся, потеряв равновесие. Рука инстинктивно выбросилась вперед, уперлась в холодный, мокрый ствол старой березы, удержав его от падения в грязь. «Черт возьми!» – вырвалось у него хрипло, больше от досады, чем от испуга. Он отряхнулся, снял наушники (музыка внезапно показалась нелепой) и посмотрел под ноги. В густой, почти черной грязи, на месте его неудачного шага, что-то блеснуло. Он присел на корточки, разгреб грязь носком кроссовка. В ямке лежали… часы. Наручные. Но какие-то необычные.
Саша нахмурился. Потеряшка? Но выглядели они слишком… инородно для этого места. Матово-черный корпус, выполненный из какого-то незнакомого, не похожего на металл или пластик материала, выглядел одновременно просто и дорого. Кожаный ремешок глубокого черного цвета. Но самое странное – циферблат. Вернее, его отсутствие. Вместо привычных цифр, стрелок или даже дисплея – идеально гладкая, глубокая черная поверхность. Как черная дыра, втягивающая взгляд. Ни малейшей царапины. По бокам корпуса – только две небольшие, едва выступающие кнопки. На одной – едва заметное углубление в виде спирали. На другой – схематичный домик. Никаких логотипов, надписей, индикаторов. Полная загадка.
Он огляделся. Парк был пустынен. Никто не бежал сюда в панике, не искал потерянную вещь. Только шелест мокрых листьев да отдаленный гул города. Саша снова посмотрел на часы. Футуристичные. Почти инопланетные. Любопытство, давно дремавшее где-то глубоко, шевельнулось. Он осторожно поддел находку носком кроссовка. Часы легко выскользнули из липкой хватки грязи. И… были абсолютно чистыми. Ни капли грязи, ни малейшего следа влаги. Как будто только что сошли с витрины дорогого бутика. Как новые.
Саша поднял их. Материал корпуса оказался на удивление тяжелым для своего размера, гладким, как отполированный камень, и… теплым. Не теплом от руки, а своей собственной, едва уловимой внутренней теплотой. Он повертел находку в руках. Никаких швов, застежек, разъемов. Загадка. Решившись, он примерил часы на запястье левой руки. В тот же миг гладкий ремешок… ожил. Он мягко, беззвучно сдвинулся, плотно и комфортно обхватив запястье, идеально подогнавшись под его размер. Концы ремешка слились воедино без видимой застежки. Саша вздрогнул от неожиданности. Что за чертовщина? Он поднес руку к лицу, разглядывая черную поверхность. И в этот момент на абсолютно гладкой черноте мелькнули тонкие, как волосок, синие линии – сложный, быстротечный узор, напоминающий схему микропроцессора или карту звездного неба. И тут же исчезли, оставив поверхность снова абсолютно черной и безжизненной. «Навороченная какая-то штука…» – пробормотал он, ощущая легкий озноб по коже. Потеряшка или нет, но в этот тоскливый день это было хоть какое-то приключение. Маленькая тайна. Он решил оставить находку. Постоял еще немного у мрачного пруда, глядя на черную воду. Теплота от часов на запястье была странно успокаивающей, как грелка. Затем развернулся и пошел обратно. Тяжелая тоска в груди, казалось, чуть отступила, уступив место настороженному любопытству.
Дома он первым делом, даже не снимая куртки, бросился к компьютеру. Откинул наушники, запустил браузер. Начал искать: «необычные умные часы черные без дисплея», «футуристичные часы спираль домик», «часы с саморегулирующимся ремешком», «гладкий черный корпус часы». Страницы выдачи пестрели рекламой обычных смарт-часов, спортивных трекеров, дорогих швейцарских хронометров. Ничего. Вообще ничего, хотя бы отдаленно напоминающего его находку. Он листал форумы гиков, сайты о гаджетах будущего, даже нишевые блоги о концепт-дизайне – ноль. Как будто таких часов не существовало в природе. Или… существовали, но не в его мире.
Саша снял часы (ремешок мгновенно разомкнулся по легкому прикосновению) и стал разглядывать их при свете настольной лампы. Матово-черный корпус поглощал свет, не давая бликов. Никаких швов, винтов, индикаторов заряда. Только две загадочные кнопки. Он нажал кнопку с домиком – коротко, уверенно. Никакой реакции. Часы лежали на столе инертной черной каплей. Он нажал еще раз, подержал дольше – результат тот же. Тогда палец нерешительно потянулся к второй кнопке – со спиралью. Сердце почему-то забилось чаще. Глупо, конечно. Что может случиться? Он нажал.
Мир взорвался.
Нет, не взорвался – поплыл. Как краска на мокром холсте. Цвета стен, мониторов, книг на полках – все смешалось в калейдоскопический вихрь абстракции. Звуки – гул системного блока, тиканье часов в коридоре, отдаленный шум улицы – слились в оглушительный, бессмысленный грохот, заполнивший все существо. Физические ощущения были самыми жуткими: его резко бросило вниз, как в лифте, сорвавшемся в шахту, одновременно пронзив все тело разрядом статического электричества. Давление в висках стало невыносимым, как будто череп вот-вот треснет. Все это длилось меньше секунды, но ощущалось как вечность. И так же резко прекратилось.
Он сидел. Не на стуле. Не в комнате. Сидел на холодной, влажной земле. Голова гудела, в глазах плавали темные пятна. Первое, что он почувствовал – воздух. Он был другим. Резким, с отчетливым запахом озона, как после сильной грозы, но с каким-то странным, жгучим и сладковатым одновременно оттенком… жареной саранчи? Он с трудом поднял голову, пытаясь протереть глаза. И замер.
Паника, ледяная и всепоглощающая, сжала горло.
Он был не в парке. Не в своем районе. Не в своем городе. Возможно, не на своей планете.
Перед ним, подпирая серо-лиловое небо, высились здания невероятных форм и масштабов. Небоскребы, но не из стекла и бетона, а словно выточенные из гигантских кристаллов дымчатого кварца или черного обсидиана. Их грани светились изнутри холодным, переливающимся светом – синим, фиолетовым, изумрудным. По широким, идеально гладким дорогам неслись бесшумные транспортные капсулы – обтекаемые, без видимых колес, похожие на капли ртути. Они скользили в воздухе в сантиметре от покрытия, оставляя за собой легкие светящиеся шлейфы. В небе, гораздо выше, с резким, почти неслышным жужжанием промелькнул аппарат, напоминающий гигантскую механическую стрекозу с мерцающими крыльями.
Люди. Вернее, существа, похожие на людей. Они двигались по тротуарам быстрыми, целеустремленными шагами, одетые в облегающую, функциональную одежду из странных, переливающихся тканей. Но больше всего Сашу поразили их лица. У многих в области висков, на скулах или прямо на глазных яблоках светились маленькие, сложные узоры – голубые, зеленые, красные. Импланты? Биотехнологические украшения? Он не понимал. Рекламы в привычном понимании не было. Вместо нее в воздухе парили яркие, динамичные голограммы, изображавшие незнакомые продукты, места, существа. Они не молчали – из них доносилась громкая, ритмичная речь на абсолютно незнакомом языке, звуки которого резали слух своей странностью, напоминая щелчки, шипение и модулированные синтетические тона.
Саша вскочил, охваченный животным ужасом. Мир закачался. Волна тошноты подкатила к горлу. Он не успел сдержаться – резко наклонился, и его вырвало прямо на странную, гладкую плитку тротуара. Прохожие – эти люди с мерцающими отметинами – просто обходили его стороной, не проявляя ни малейшего интереса или отвращения. Их лица оставались бесстрастными. Только один мужчина в костюме из ткани, напоминавшей жидкое серебро, остановился, посмотрел на Сашу своими холодными, нечеловечески яркими глазами (без имплантов, но от этого не менее чужими) и что-то резко крикнул на том же режущем слух языке. Его интонация не сулила ничего хорошего.
Инстинкт самосохранения кричал в панике, заглушая все остальное: ДОМОЙ! СЕЙЧАС ЖЕ! Рука в панике рванулась к запястью, к черным часам. Пальцы судорожно нащупали кнопку с домиком. Он вдавил ее изо всех сил, зажмурившись, мысленно умоляя о спасении.
Мир снова потерял опору. Тот же кошмарный водоворот цвета и звука, то же сдавливающее давление в висках, то же ощущение падения в бездну. Короткий, но бесконечный миг дезориентации.
Он очнулся, лежа на спине на холодном линолеуме. В своей комнате. Голова раскалывалась на части, каждый удар пульса отдавался нестерпимой болью в висках. Сердце бешено колотилось, пытаясь вырваться из груди. В ноздрях все еще стоял тот странный, чужой запах – озон и жареная саранча. Он поднял дрожащую руку. Часы сидели на запястье, как ни в чем не бывало. Черные. Чистые. Теплые. Как спокойный, загадочный свидетель его безумия. Он с трудом, помогая себе руками, дополз до дивана и свалился на него, уткнувшись лицом в подушку. Тело трясло, как в лихорадке.
Это не галлюцинация. Не сон. Не нервный срыв. Слишком реальны были ощущения, слишком ярок и детален был тот чужой мир. Часы… Часы были не просто гаджетом. Они были порталом. Билетом в другие реальности. Мостом между мирами.
И тут, сквозь боль, сквозь остатки паники, сквозь гул в голове, мысль ударила с такой силой, что он буквально вскинулся, снова сел на диване. Мысль, от которой сердце не просто заколотилось – оно замерло, а потом рванулось в бешеной скачке, вытесняя боль дикой, невероятной, ослепительной надеждой.
Если существует бесконечность миров… Если есть реальности, где летают стрекозы-машины, а люди носят светящиеся импланты… То должен быть мир… Должен существовать хотя бы один мир… где в тот роковой день черный внедорожник не вылетел на перекресток. Где скорая спокойно доехала до больницы. Где Настя… жива. Здорова. Счастлива. Где она родила их дочку – Машеньку, о которой они мечтали. Где они все вместе – он, она, их маленькая Маша, Булочка… Где его жизнь не превратилась в серую пустыню. Должен быть! Логика мультивселенной требовала этого!
Боль, копившаяся годами, тоска, апатия – все это рухнуло под натиском этой безумной, ослепительной надежды. Она заполнила пустоту с силой цунами. Найти её. Найти свою Настю. Найти свой потерянный мир. Его взгляд, лихорадочный, полный новой жизни, устремился к стене над диваном – к той фотографии, где Настя смеется, запрокинув голову, ловя лепестки цветов. Ее глаза сияли счастьем. «Должен быть…» – прошептал он хрипло, голос сорвался. В груди бушевал ураган эмоций: страх перед неизвестностью, перед этими прыжками, ужас от столкновения с чужим – все это смешивалось, переплавлялось в одну всепоглощающую жажду – надежду. Боль от первого прыжка, страх, дезориентация – все это было ничтожной платой за этот шанс. Единственный шанс.
Часы на его запястье перестали быть просто странной находкой. Они стали Ключом. Золотым билетом. Билетом в мир, где его Настя дышит, смеется, живет. И он был готов пройти сквозь сотни чужих реальностей, чтобы найти ту, единственную. Свою.
Глава 3. Зеркала без отражений.
Энергия от вчерашнего прыжка в город будущего иссякла, оставив лишь сильную усталость и ноющую головную боль. Саша проснулся поздно. За окном выл ветер, пробираясь сквозь щели старой хрущевки. Свет, пробивавшийся сквозь грязные стекла, был тусклым и холодным. Он лежал, глядя в знакомую трещину на потолке, пытаясь осмыслить безумие вчерашнего дня. Часы. Прыжок. Тот странный город. Не галлюцинация. Ощущения были слишком реальными: странное давление во всем теле, мучительная тошнота, незнакомые запахи. Слишком реальным было тепло от часов на запястье – молчаливого доказательства путешествия в невозможное.
Он поднял руку. Часы плотно и тепло облегали запястье. Только две кнопки: спираль и домик. Ключи к бесконечным мирам. Или к безумию. Его пальцы зависли над кнопкой со спиралью. Страх сжал горло – страх перед болью, рвотой, страхом навсегда потеряться. Но под страхом бушевало другое – дикая, всепоглощающая надежда. Настя. Живая. Здоровая. Возможно, ждущая его где-то там. Эта надежда светила ярче солнца.
Он встал, чувствуя каждую мышцу, будто после марафона. Голова кружилась. В ванной он умылся ледяной водой, пытаясь прогнать остатки тошноты. В зеркале отразилось бледное лицо с темными кругами под глазами. «Соберись», – прошептал он, но голос звучал слабо и неуверенно. Если это правда… Он должен попробовать найти ее. Ради шанса снова увидеть ее улыбку, услышать ее смех. Рискнуть всем.
На кухне он вскипятил чайник, заварил крепкий чай – кофе казался слишком резким. Пока пил, его взгляд блуждал по залу: фигурка Бэтмена казалась просто пластмассовой игрушкой, постер «Стражей Галактики» – детской сказкой, экран компьютера – символом его замершей жизни. Обычные вещи. Невероятно, что они существуют рядом с часами на его запястье. Он вспомнил фильмы и игры про путешествия между мирами. Там герои управляли прыжками. Концентрировались на цели. Может, и он сможет? Мысль казалась безумной, но другой надежды не было.
Настя. Ее смех, когда он неуклюже уронил торт ей на колени. Ее глаза, щурящиеся как будто от солнца на пляже. Ее рука, крепко сжимающая его. До всего этого. Ее голос: «Саш, ну ты и…». Ее запах – клубника и ваниль, смешанные с легким запахом больницы после долгой смены.
Он поставил кружку. Закрыл глаза. Сосредоточился не на картинке, а на ощущении. Ее присутствии рядом. Найди её живой. Найди её одну. Найди мир, где для меня есть место рядом с ней. Его палец нашел кнопку со спиралью. Сердце колотилось, как бешеный барабан. Пожалуйста… Он нажал.
Мир вздрогнул и поплыл. Давление сдавило уши, виски, всё тело. Как будто его сжали в гигантском кулаке. Цвета и звуки слились в оглушительный рев. Все длилось мгновение. Его вышвырнуло.
Новый мир. Он стоял… на тротуаре. Воздух был холодным, чистым, с легким запахом выхлопных газов и… дорогого кофе? Он открыл глаза, едва сдерживая подкатывающую тошноту. Голова гудела. Его качнуло, он ухватился рукой за холодную стену здания. Похоже на центр Москвы. Но… чище? Богаче? Здания были историческими, но сияли, как новые. Витрины магазинов сверкали люксовыми товарами. Люди спешили, одетые стильно и дорого. Машины на улице – сплошь премиум: «Мерседесы», «БМВ», бесшумные и блестящие.
Саша сделал шаг, опираясь на стену. Он чувствовал себя чужим – в поношенной куртке, помятых джинсах. Прохожие косились на него. Он игнорировал их, пытаясь понять, где он. Его взгляд упал на большой рекламный билборд.
Ледяной укол пронзил сердце. Он перестал дышать.
На билборде было его лицо. Не похожее – его. Фотография крупным планом. Он выглядел старше, лет на сорок, увереннее, с усталой улыбкой человека, достигшего всего. Волосы аккуратно уложены, в глазах – глубина и пресыщенность. Под фото – крупными буквами:
«АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ. РЕТРОСПЕКТИВА. ТВОРЧЕСТВО ГЕНИЯ. ГАЛЕРЕЯ «МОДЕРН». ОТКРЫТИЕ СЕГОДНЯ В 19:00.»
Александров. Его фамилия. Александр. Его имя. Ретроспектива. Гений. Саша замер, не в силах оторвать взгляд от собственного лица. Сердце бешено стучало. Художник? Я? Он, Саша Александров, дизайнер логотипов и сайтов для мелкого бизнеса? Автор «гениальных» картин? Мозг отказывался верить.
Как завороженный, он пошел по указанному адресу. Галерея «Модерн» была рядом – большое светлое здание с огромными окнами. Внутри – люди в вечерних нарядах. Он прилип к холодному стеклу, заглядывая внутрь.
Просторный белый зал. Толпа нарядных людей с бокалами шампанского. Они разглядывали большие картины – абстрактные композиции из ярких пятен и ломаных линий; странные скульптуры из металла и стекла. Искусство, которое он не понимал. Искусство «гения».
И вот он увидел Его. Себя. Того самого «Александра Александрова» с плаката. Он стоял в центре группы, в идеальном темном костюме. Что-то говорил, лицо оживленное, жесты уверенные. Он излучал успех. Саша почувствовал себя призраком, наблюдающим за жизнью другого человека – человека, которым он мог бы стать, но не стал. Или стал… здесь.
И потом… Она. Настя. Она стояла рядом с ним, чуть сзади. В элегантном синем платье, подчеркивающем фигуру. Волосы уложены идеально. Макияж безупречен. Легкая, сдержанная улыбка. Она смотрела на Александрова, и в ее зеленых глазах… был свет. Гордость? Любовь? Она положила руку ему на рукав, что-то тихо сказала. Он улыбнулся в ответ, взгляд смягчился, став почти… знакомым. Тем самым взглядом, которым его Саша смотрел на свою Настю.
Острая, режущая боль пронзила грудь. Саша ахнул, схватившись за сердце. Она жива. Здорова. Прекрасна. Рядом с ним. С его блестящим двойником. Его ноги понесли его к входу. Он толкнул тяжелую дверь, ворвавшись в зал. Гул голосов, запах дорогих духов и шампанского накрыл его. Он не знал, что будет делать. Кричать? Броситься к ней? Услышать её голос?
Он пробирался сквозь толпу, чувствуя недоуменные и брезгливые взгляды. Он был здесь лишним, пятном на безупречном вечере. Настя смеялась над чьей-то шуткой. Её смех – чистый, звонкий – пронзил Сашу насквозь. Она повернула голову, и их взгляды встретились.
На миг. В ее глазах мелькнуло удивление, потом – вежливое, холодное любопытство. Взгляд на странного незнакомца с лицом её мужчины. Но не было и тени того тепла, что было в ее глазах, когда она смотрела на другого Сашу. Она видела в нем помеху. Чужого.
В этот момент другой Александров тоже заметил его. Его взгляд скользнул по Саше – от стоптанных кроссовок до бледного, растерянного лица. В его глазах не было злости. Было… легкое презрение? Недовольство? Как будто увидел назойливого насекомого. Он что-то тихо сказал стоящему рядом мужчине в строгом костюме – охраннику. Не отводя взгляда от Саши.
Саша почувствовал, как жар стыда заливает лицо. Он стоял перед ними – нищий духом и телом перед их сияющим, недостижимым счастьем. Его Настя была мертва. А эта… была частью другого мира, другой истории, другого Саши. Он не имел прав на нее. Не имел права разрушать этот мир, эту ее жизнь. Принцип – «Не разрушать чужое счастье» – встал перед ним стеной. Он не смог. Не посмел.
Он отшатнулся. Повернулся и пошел прочь, расталкивая изумленных гостей. Слышал за спиной нарастающий гул голосов, возможно, шаги охраны. Ему было все равно. Нужно было уйти. Сейчас же.
Он вырвался на улицу, в холодный воздух. Дышал прерывисто, рваными глотками. Слезы жгли глаза. Он не искал кнопку «Домой». Его пальцы судорожно нащупали кнопку со спиралью. Любой мир. Только не здесь. Только не видеть их вместе. Он нажал на кнопку со спиралью.
Разрыв. Давление. Падение. Тошнота снова подкатила волной. Прибытие.
Хаос. Он стоял посреди руин. Обломки колонн, куски статуй без лиц и рук, засыпанные пылью и пеплом. Воздух был густым, едким, пахло гарью, пылью и… кровью? Свежей кровью. Где-то вдалеке – крики боли и ярости, звон металла о металл, глухие удары. Небо было красно-багровым, как раскаленный металл. Никаких следов современности. Только разруха и война.
Паника сжала горло. Где он? Он огляделся. Никого рядом. Только груды камней, остовы разрушенных зданий. Он сделал шаг и споткнулся о что-то мягкое. Посмотрел вниз. Тело. Человека в странной одежде, похожей на кольчугу. Лицо, залитое запекшейся кровью, было перекошено в последнем крике. Глаза стеклянные, пустые. Мертвый. Недавно.
Саша отпрыгнул назад, вскрикнув от ужаса. Его снова вырвало – от вида смерти, от удушливого запаха. Он оперся на обломок колонны, дрожа всем телом. Война? Конец света? Какое время?
Резкий свист, потом глухой чпонк! в камень рядом! Осколки гранита брызнули в лицо, оцарапав щеку. Стрела! Кто-то стрелял в него!
Инстинкт самосохранения пересилил ужас. Он рванул с места, ныряя за груду мраморных обломков. Сердце бешено колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Он выглянул осторожно. Вдалеке, на фоне пылающего здания, несколько фигур. Люди в рваных плащах, с луками и мечами. Лица дикие, озлобленные. Один снова натягивал тетиву, целясь в его укрытие.
Бежать! Но куда? Он был как мишень в своей синей куртке на фоне серых камней. Он судорожно нащупал кнопку «Домой» на часах. Пальцы дрожали, покрытые липким холодным потом. Стрела просвистела над головой, вонзившись в обломок позади. Нажал!
Сбой. Мир поплыл. Давление. Боль. Крики преследователей оборвались. Прибытие.
Он упал плашмя на пол своего зала, содрогаясь от сухого кашля. Его выворачивало желчью. Голова раскалывалась на части. Он лежал на холодном линолеуме, чувствуя лишь одно – он дышит. В носу – стойкий запах гари и крови. В ушах – свист стрелы. Перед глазами – мертвое лицо солдата и холодные, не узнавшие его глаза Насти из галереи. Ад и иллюзия рая. Оба – без него.
Прошло минут десять, прежде чем он смог пошевелиться. Дополз до дивана, с трудом вскарабкался на него. Сидел, обхватив голову руками, дрожа мелкой дрожью. Тело было разбито, каждая мышца горела. Душа – опустошена, выжжена дотла. Он нашел Настю живой. И это оказалось хуже, чем не найти вовсе. Он увидел смерть вблизи. Сам едва не погиб. Он прыгнул в надежде, а вынырнул в кромешном аду.
Он посмотрел на часы. Они сидели на запястье, черные, теплые, как живое существо. Ключи в иной мир, которые могли убить его в следующую секунду. Но они же… могли привести его к ней. К его настоящей Насте. Не к жене знаменитого художника, не к призраку из прошлого, а к его девчонке, которая смеялась над его дурацкими шутками, ворчала на вечный беспорядок в зале. К той, которая была его.
Страх был огромным, как океан. Боль – реальна, как царапина на щеке от осколка камня. Но надежда… надежда оказалась сильнее страха смерти. Сильнее тошноты. Сильнее всего. Она теплилась в нем маленьким, но упрямым огоньком. Он должен попробовать снова. Найти мир, где она жива и одна. Где ему есть место. Где он не будет призраком на чужом празднике. Где он сможет подойти и сказать: «Я здесь. Я нашел тебя».
Он поднялся, шатаясь, пошел на кухню. Пил воду прямо из-под крана большими глотками, смывая противный привкус желчи и гари. Потом открыл ящик стола, достал старую школьную тетрадь в клетку и шариковую ручку. Нужно было записать. Доказать себе, что это не бред и не сон. Он открыл тетрадь на новой странице. Запись о вчерашнем дне была короткой:
Будущее. Летающие капсулы. Голограммы. Язык непонятный. Шок. Рвота. Вернулся.
Москва, но богаче. Я – художник Александр Александров. Успех, признание. Настя жива. Здорова. Она его жена. Счастлива с ним. Ушел. Больно.
Руины. Война. Стреляли из луков. Увидел мертвого солдата. Едва сбежал. Страх. Рвота.
Он посмотрел на записи. Коротко. Сухо. Как отчет из кошмара. Его рука дрожала. Он вспомнил презрительный взгляд своего богатого двойника, холодные, чужие глаза Насти, свист стрелы, искаженное болью лицо мертвого человека. Тело ломило, голова гудела. Но внутри теплился тот самый огонек. Он нашел ее живую. Значит, это возможно. Значит, шанс есть. Даже если следующий прыжок принесет новую боль. Даже если он окажется в еще более жутком месте. Он должен искать. Пока часы на его руке теплые. Пока он дышит. Пока надежда не погасла.
Он повалился на диван, накрывшись старым клетчатым пледом, который все еще пах ее духами – сладковатым клубнично-ванильным шлейфом. Вечер только начинался, но сил не было ни на что. Он закрыл глаза, и перед ним снова встала она. Сияющая в галерее, холодная и далекая. И где-то там, в бесконечности миров, должна была быть та самая. Его. Он найдет её. Даже если каждый прыжок будет отнимать кусочек его души. Даже если путь будет усеян болью и страхом. Он должен найти. Потому что альтернатива – эта серая, безрадостная пустота его одинокой квартиры – казалась хуже любой смерти в чужом, страшном мире.
Глава 4. Живой призрак.
Тошнота от прыжка была уже знакомой, но всё равно ужасной. Она накатила волной, горькая и противная. Саша упал на колени, упёршись руками в холодную, мокрую землю, и его вырвало. Голова гудела, в висках стучало. Он дышал тяжело, прерывисто. Воздух был холодным, пах прелыми листьями, сырой землёй и… дымом? Не заводским, а скорее печным, древесным. Знакомым.
Он поднял голову, вытирая рот рукавом куртки. Слёзы застилали зрение. Он был в парке. Их парке. Тот самый скверик с кривыми дорожками, заросшим прудом и старой покосившейся скамейкой у воды. Но что-то было не так. Знакомые деревья стояли голые, чёрные ветви тянулись к свинцовому небу. Трава пожухла, покрылась первым инеем и мокрыми листьями. Осень. Поздняя осень. Но не его ноябрь с мокрым снегом – здесь чувствовалась настоящая предзимняя стужа.
Сам парк казался заброшенным. Дорожки ещё больше разбиты, заросли бурьяном. Пруд покрыт маслянистой плёнкой тины и плавающим мусором. Скамейка у воды была исписана грубыми словами, одна ножка сломана. Ни души. Только ветер выл в голых ветвях. Где-то вдалеке гудели редкие машины. Город звучал глухо и устало.
Саша медленно поднялся, опираясь на ствол знакомой берёзы – той самой, где нашёл часы. Тело ныло. Он посмотрел на запястье. Чёрная поверхность часов была тёплой и загадочной. Кнопка «Домой» манила теплотой, обещанием его привычной, пусть и болезненной, реальности. Но он не нажал. Он должен был искать.
Он вышел из парка на знакомую улицу. Те же серые хрущёвки, тот же двор с переполненными мусорными баками, старыми, ржавыми качелями. Но всё выглядело хуже. Угрюмее. Дома были ещё более обшарпанными, окна часто завешаны тёмными, неподвижными шторами. На стенах подъездов – не просто надписи, а угрожающие символы, похожие на перевёрнутые кресты или черепа. Граффити «А.А. – Герой!» и «Помним!» на трансформаторной будке заставили его содрогнуться. А.А.? Александр… Александров? Холодная догадка начала кристаллизоваться в его голове.
Людей было мало. Они шли быстро, кутаясь в тёмные куртки, воротники подняты. Лица напряжённые, замкнутые. Взгляды, брошенные на Сашу, были не просто недружелюбными – они были настороженными, враждебными. Как будто он был угрозой. Или чужим. Что, по сути, было правдой.
Он дошёл до своего подъезда. Дверь в подъезд была выбита, висела на одной петле. Внутри – знакомый коктейль запахов: сырость подвала, хлорка, жареная картошка, но сильнее обычного. И ещё – въедливый запах плесени. Лифт не просто не работал – его кабины не было, зияла чёрная дыра шахты. Саша пошёл по лестнице. На стенах – угрожающие граффити, окурки, следы грязи. На его площадке – три двери. Его квартира – крайняя слева. Он остановился как вкопанный.
Дверь была та же. Но на ней висел маленький траурный венок из чёрных искусственных цветов. И под глазком – маленькая, аккуратная табличка: «Соколова А.Н.». Только Настя. Его имени не было. Холодная догадка стала тяжёлой и неопровержимой.
Они стоят на пороге этой квартиры, только что получив ключи. Настя прыгает от счастья, обнимает его: «Наш угол, Саш!» Она целует дверной косяк, смеётся: «Здравствуй, дом!» Он смеётся, подхватывает её на руки, заносит через порог: «Чтобы счастье не утекло!» Булочка суетится у ног. Воздух пахнет свежей краской и будущим.
Сейчас запах был другим. Затхлым, старческим, с резкими нотками лекарств и апатии. Саша глубоко вдохнул, собираясь с духом. Его рука потянулась к кнопке звонка. Замерла. Что он скажет? Кто он здесь? Он не знал. Но он должен был увидеть её. Узнать.
Он нажал звонок. Пронзительный звук разорвал тишину подъезда. Ничего. Ни шагов, ни голоса. Он нажал снова. Опять тишина. Отчаяние сжало горло. Может, её нет? Может, она… не одна? Он попробовал потянуть дверь. Заперто. Он сунул руку в карман куртки. Ключи. Его ключи от его квартиры в его мире. Абсурдная мысль – а вдруг? Он достал связку, нашёл самый старый ключ. Вставил в замок. Повернул. С трудом, со скрежетом металла, но… щёлк. Замок поддался. Дверь открылась.
Сердце Саши бешено заколотилось, ударяя по рёбрам. Он толкнул дверь и шагнул в прихожую.
Запах ударил в нос – сильный, густой. Затхлость, пыль, едкий запах лекарств и… едва уловимый, но живой, как укол, – запах её духов. Клубника и ваниль. Затерянный, но её. Саша замер, затаив дыхание. Прихожая была тесной, но завалена мешками с мусором, стопками пожелтевших газет, пустыми бутылками из-под воды. Обувница пуста. На вешалке – один старый, потертый пуховик.
Он услышал шорох из зала. Шагнул вперёд, застыв в дверном проёме.
Комната. Их зал. Но это была крепость отчаяния и запустения. Занавески плотно задернуты, в полумраке висела тяжёлая пыль. Воздух стоял спёртый. Диван был завален скомканными одеялами и подушками. Перед ним – стол, заваленный пустыми чашками, обёртками от еды, пачками таблеток, переполненной пепельницей, пустыми бутылками из-под дешёвого вина. Телевизор выключен, покрыт слоем пыли. Рабочий стол Саши… был в хаосе. Мониторы погашены, клавиатура в крошках, графический планшет валялся на полу. Полки стояли криво, некоторые фигурки лежали разбитыми у подножия. Постеры висели косо, один был порван. Фотографии… их фотографии… над диваном отсутствовали. На их месте – лишь тёмное пятно на обоях, как незаживающая рана.
И посреди этого хаоса, этого склепа, сидела Она.
Настя.
Она сидела на самом краю дивана, сгорбившись, кутаясь в огромный растянутый свитер – его старый университетский свитер. Он сползал с одного плеча, обнажая тонкую ключицу. Ноги босые, в синяках. Волосы тусклые, жирные, стянуты в неопрятный, сползающий пучок. Лицо… Саша едва сдержал стон. Лицо было бледным, как бумага, осунувшимся, с глубокими синюшными тенями под огромными, нездорово блестящими глазами. Щёки впалые, губы сухие, потрескавшиеся. Она курила дешёвую сигарету, затягиваясь глубоко, нервно, глядя в пустоту перед собой. Дым струился сизой лентой. Вся её поза, каждый мускул кричали об изнеможении, неподдельном горе и полном безразличии ко всему. Это была не его Настя. Это была тень. Сломанная кукла, лишённая стержня.
Они на кухне. Настя, с маленьким, едва заметным животиком, в его футболке, пытается испечь печенье. Мука на носу, на щеке. «Саш, оно почему-то зеленое?» Он смеётся, обнимает её за талию: «Печенье Халка! Эксклюзив!» Она бьёт его ложкой по плечу, но смеётся, и весь кухонный воздух звенит от её смеха.
Сейчас от неё пахло табаком, потом и безнадёжностью.
– Настя? – его голос сорвался, хриплый, чуждый в гнетущей тишине.
Она вздрогнула, как от удара током. Голова медленно повернулась. Глаза уставились на него, сначала мутные, невидящие. Потом – в них мелькнуло непонимание, а следом – щемящая, мучительная надежда, осветившая лицо на миг. Губы дрогнули, беззвучно сложились в шепот: «Са…?». Потом, словно пелена спала, надежда погасла, сменилась ледяным, всепоглощающим разочарованием. Она отвернулась, снова уставившись в пепельницу, сделала глубокую затяжку.
– Уходи, – её голос был низким, хриплым от сигарет и слёз. Без интонации. Без жизни. – Не продаю, не покупаю. Соседи знают – не тревожить. Уходи.
Саша стоял, как парализованный. Он видел эту вспышку надежды. Он знал, кого она увидела на миг. Его сердце рвалось к ней. Обнять. Утешить. Зарыдать вместе. Сказать: «Я здесь». Но он не мог. Он был не её Сашей. Её Саша был мёртв. Его приход был лишь жестоким напоминанием, причиняющим ещё больше боли.
– Я… я не сосед, – пробормотал он, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. – Я… проходил мимо. Дверь была открыта… Я услышал шум… подумал, может, помощь нужна.
Она фыркнула. Выдохнула струю дыма с презрительным звуком.
– Помощь? – она повторила слово, как нелепую шутку. – Какая помощь? Мир рухнул. Помощи нет. Уходи. Запри дверь. Слышишь?
Саша не двигался. Он видел её руки – тонкие, с обкусанными до крови ногтями, дрожащие. Видел, как она съёживается в свитере, пытаясь стать меньше. Видел её – свою сияющую Настю – погребённую под грудой неподъёмного горя.
Саша и Настя на курсах для будущих родителей. Настя внимательно слушает акушерку, делает заметки в блокноте. Потом практика – купание резиновой куклы. У неё неловко получается, вода расплёскивается. Она краснеет, смеётся смущённо: «Он же скользкий!». Он стоит рядом, положив руку ей на плечо, улыбается. Чувство огромной ответственности и переполняющей любви. Это должно было стать их будущим.
Сейчас будущего не было. Был только этот затхлый склеп настоящего. И Настя, замурованная в нём заживо.
– Настя… – он сделал шаг вперёд, рука непроизвольно потянулась к ней.
– УБИРАЙСЯ! – она вдруг взорвалась. Вскочила, свитер сполз на пол. Глаза загорелись безумной, животной яростью. – УБИРАЙСЯ ОТСЮДА! ТЫ КТО ТАКОЙ? ЧТО ТЕБЕ НАДО? ДОКУМЕНТЫ? ДЕНЬГИ? ВСЁ ВЗЯЛИ! ВСЁ ЗАБРАЛИ! ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ! ОСТАВЬ МЕНЯ С НИМ! – она закричала, захлёбываясь рыданиями, указывая дрожащим пальцем на пустое место рядом на диване. Она схватилась за голову, сгорбилась, рыдания сотрясали её тело, вырываясь наружу сухими, надрывными звуками. – Уходи… пожалуйста… просто уйди… – это уже был стон.
Саша отпрянул, словно получил пощечину. Его сердце разрывалось на части. Он отчаянно хотел броситься к ней, зажать её крик в объятиях. Но он видел её безумие, её бездонное отчаяние, её неразрывную связь с призраком её Саши. Он был чужим. Его присутствие усиливало её агонию. Принцип «не разрушать чужое счастье» здесь трансформировался в «не разрушать чужое горе». Её горе было последним, что связывало её с миром, с памятью о нем. Отнять это – значило добить её.
Он молча отступил к двери. Его взгляд упал на полку у входа. Там стояла маленькая фотография в простой деревянной рамке. Он подошёл ближе, сердце сжалось. Это была та самая свадебная фотография. Солнечный день. Она смеётся, запрокинув голову, ловя лепестки. А он смотрит на неё. Настоящий он. Её он. В его глазах – весь мир, сжатый в одном человеке. Фотография стояла здесь, как единственная святыня. Доказательство того, что счастье было.
Саша схватился за дверной косяк, чтобы не упасть. Боль была почти физической, режущей. Он видел себя мёртвым в её глазах. Он обернулся. Настя всё ещё сидела, сгорбившись, трясясь от беззвучных рыданий. Одинокая. Абсолютно разбитая.
Искушение было огромным, почти непреодолимым. Остаться. Сказать правду? Но поверит ли она? Притвориться дальним родственником? Другом? Попытаться вытащить её из этой ямы? Стать её опорой? Заменить погибшего? Он мог. Он знал её как себя. Знакомые привычки, любимые блюда, её страхи и мечты. Он мог стать для неё всем. Дать шанс снова жить. Быть рядом. Любить. Спасти.
Но он был не её Сашей. Он был самозванцем, похитителем лица. Его присутствие оскверняло её священное горе, её память о нём. Она любила того Сашу, который погиб здесь. Попытка заменить его, даже из лучших побуждений, была бы предательством её любви, её боли, её самой.
Он не имел права. Не смел. Даже ради спасения. Любое спасение должно быть честным.
Он молча повернулся и вышел. За ним раздался сдавленный, безнадёжный всхлип. Он не оглянулся. Закрыл дверь, услышав щелчок замка. Стоял на площадке, прислонившись лбом к холодной, шершавой стене. Дышать было нечем. Он должен был уйти. Сейчас. Но он не мог просто оставить её так. В этой грязи, с пустыми бутылками, в одиночестве с призраком. Он вспомнил её сияющие, полные жизни глаза на свадебной фотографии. Вспомнил её заразительный смех. Она заслуживала хотя бы капли заботы, напоминания о том, что она не совсем одна в этом мёртвом мире.
Саша спустился вниз, вышел во двор. Он нашёл работающий магазин – мрачноватую «продуктовую клетку» с решётками на окнах. Купил самое простое, но питательное: тёплую курицу-гриль, пакет картофельного пюре быстрого приготовления (просто залить кипятком), пачку печенья «Юбилейное», которое она всегда любила, несколько бутылок чистой воды, пачку хорошего чёрного чая и… коробку конфет «Каракум». Её любимые с детства. И пачку влажных салфеток. Потому что пыль, пепел на столе, её руки… Он видел.
Он вернулся, поднялся на пятый этаж. Поставил пакет с едой и водой аккуратно у её двери. Прислонил к нему яркую коробку конфет. Потом достал из кармана старый блокнот для эскизов и ручку. Написал на чистом листе, стараясь выводить буквы разборчиво, не своим обычным почерком:
Алина (если это ваше имя). Я не знаю, что случилось. Я проходил мимо, увидел открытую дверь. Услышал. Мне стало не по себе. Я не могу помочь по-настоящему. Но оставил у двери кое-что поесть, чай, воду. Пожалуйста, поешьте. Выпейте воды. Мир… он иногда кажется мёртвым. Но иногда нужно искать лучик света во всём.
Он не подписался. Положил записку сверху на пакет. Потом постоял несколько секунд, глядя на закрытую дверь, за которой слышался приглушённый стон. Повернулся и быстро пошёл вниз, почти побежал. Ему нужно было уйти из этого мира немедленно. Он не мог видеть, как она найдёт пакет. Увидит ли? Поверит ли? Выбросит? Он сделал то немногое, что мог. Анонимная подачка милосердия. Капля в бездонном море её горя. Он зашагал обратно в парк. Его шаги гулко отдавались в пустоте подъезда и двора. В голове звучали её рыдания. Её истеричный крик: «Уходи! Оставь меня с ним!». И её лицо. Измученное, потерянное лицо тени.
Они в этом парке, жаркое лето. Настя бежит по аллее, Булочка на поводке тянет её вперёд к пруду. Она смеётся, звонко, беззаботно, оборачивается: «Саш, давай быстрее! Булочка хочет к воде!». Она ловит его взгляд – её глаза сияют, губы растянуты в широкой, счастливой улыбке. Он ускоряет шаг, сердце переполнено. «Иду, солнышко!».
Контраст был невыносим, как удар ножом. Саша упал на колени у грязного пруда, не в силах сдержать рыдания. Его трясло. Он плакал о ней. О той, сияющей и живой. О той, счастливой и беззаботной. О себе, погибшем здесь. О чудовищной несправедливости миров. Он плакал о своём искушении остаться и спасти и о мучительной, неопровержимой правоте своего отказа. Он любил её больше жизни. Но его любовь не давала ему права ломать её реальность, осквернять её верность его памяти.
Он нащупал часы. Кнопка «Домой». Он нажал её, зажмурившись, отчаянно желая, чтобы физическая боль прыжка заглушила невыносимую душевную муку хоть на секунду.
Разрыв. Давление. Падение. Мир рухнул в бездну. Прибытие.
Он упал на пол своего зала. Его снова вырвало – от горечи и всепоглощающего чувства вины. Он лежал, прижавшись щекой к холодному линолеуму, и смотрел сквозь слёзы на фотографии над диваном. На ту, где она смеялась, обняв подушку, беременная их Машей. На их будущее, которому не суждено было случиться нигде.
Он не спас её. Он не смог. Он сбежал. Оставив её в её личном аду. С жалкой запиской и пакетом еды. Ничтожный, беспомощный жест. Но другой возможности не было. Вина грызла его изнутри, острая и беспощадная. Он нашёл Настю живой. И это оказалось самым страшным, самым душераздирающим адом из всех. Это была смерть души при живом теле. И он был бессилен. Он дополз до дивана. Достал тетрадь. Рука дрожала, но всё-таки Саша вывел размашистым, неровным почерком:
Я погиб. Как? Не знаю. Настя жива. Сломана горем. Разруха в доме. Алкоголь? Таблетки? Искушение остаться, помочь, заменить его. Отказ. Принцип: Не нарушать её горе, её связь с НИМ. Оставил еду, воду, записку. Ушёл. Чувство вины и бессилия. АД.
Он бросил ручку. Закрыл глаза. Перед ним встало её лицо – в тот миг ослепительной, наивной надежды, когда она прошептала «Са…?». И её лицо в следующее мгновение – искажённое ледяным разочарованием и болью. Он не был её Сашей. Он был Призраком. Вестником чужих трагедий. И его путь через зеркала без отражений только начинался, усеянный осколками разбитых сердец.
Глава 5: Чужое счастье
.
Боль от прыжка в другой мир снова пронзила Сашу. Мир выбросил его из темноты перехода не на землю, а прямо в густой куст сирени. Колючие ветки хлестнули по лицу, оставив царапины. В нос ударил запах пыльных листьев и увядших цветов. Саша рухнул на колени в мягкую, мокрую от недавнего дождя землю. Его мутило. Желудок был пуст, желчи не было, но тошнота выворачивала его наизнанку, заставляя судорожно сжиматься. Голова гудела, словно в нее вбили гвоздь, в висках стучало в такт бешено колотящемуся сердцу. Он вцепился руками в холодную, мокрую землю, впиваясь пальцами в вязкую грязь, пытаясь ухватиться за что-то реальное, пока качающийся мир вокруг не перестал двоиться.
Он был в саду. Чужом саду. Небольшом, но ухоженном. Ровные грядки с подвязанными помидорами и огурцами, кусты смородины, усыпанные почти спелыми ягодами, клумба с яркими, чуть поникшими после дождя бархатцами. Вдалеке виднелся дом – не хрущевка, а крепкий кирпичный коттедж в два этажа, с террасой, увитой виноградом. Воздух был чистым, пахло мокрой землей, зеленью и… свежей выпечкой? Откуда-то доносился этот теплый, уютный запах хлеба. И звуки. Детский смех. Чей-то возглас: «Папа, смотри!»
Саша замер, затаив дыхание, стараясь слиться с кустом. Страх от неожиданности смешался с диким любопытством и… новой волной ужаса. Где он? Чей это дом? Чьи дети? И самое главное – она здесь? Его инстинкты, обостренные прошлыми прыжками, кричали об опасности, о том, что нужно немедленно жать кнопку «Домой». Но надежда, эта упрямая травинка, пробивающая асфальт отчаяния, снова тянула его вперед. Найди ее. Увидь. Убедись.
Он осторожно раздвинул ветки сирени. На лужайке перед домом, под большой яблоней, играли дети. Мальчик лет пяти, с темными волосами и озорными глазами, гонял ярко-желтый мяч. Девочка поменьше, года три, с двумя хвостиками и в розовом платьице, пыталась его догнать, смешно переваливаясь на коротких ножках и звонко смеясь. Рядом, в плетеном кресле, сидел мужчина. Крепкий, загорелый, в простой футболке и рабочих штанах. Он что-то чинил, похожее на детский велосипед, и поглядывал на детей с улыбкой. Обычный отец. Уверенный в себе. Саша не узнал его. Но его взгляд скользнул дальше, к открытой двери на террасу. И там… Она. Настя.
Она стояла в дверях, вытирая руки о фартук с яркими подсолнухами. Она смотрела на детей, на мужчину, и на ее лице была спокойная, теплая улыбка. Улыбка глубокого, привычного счастья. Уверенности. Она выглядела… другой. Не той хрупкой девушкой, которую он помнил, и не той сломленной тенью из мира, где он погиб. Она была крепче, здоровее, излучала силу и покой материнства. Светлые густые волосы были собраны в хвост. Лицо – без следов усталости или горя, только легкие морщинки у глаз от смеха. Простая одежда – джинсы, белая блузка, фартук. И она была невероятно красивой и наполненной жизнью.
Они в парке. Настя осторожно садится на одеяло, которое он постелил под деревом. Животик большой, круглый. Она берет его руки и прижимает к нему: «Чувствуешь? Толкается! Сильная, как папа!» Ее лицо светится от счастья, хоть и устала. Он чувствует под ладонью толчок маленькой ножки, и сердце замирает от любви и страха. «Наша дочь будет футболисткой», – смеется он, целуя ее в висок. Она прижимается к нему, ее рука лежит поверх его руки на животе. «Главное – чтобы здоровая. И счастливая». Солнце светит сквозь листья, Булочка спит у их ног. Мир кажется идеальным.
Сейчас она была счастлива. Без него. С другим мужчиной. С их детьми. ИХ детьми. Боль ударила Сашу в самое сердце, острая и глубокая, как нож. Он вжался в куст, чувствуя, как земля холодеет под коленями, как слезы подступают к глазам. Это был не тот мир, где она сияла рядом с его богатым двойником. Это было что-то иное. Более… обыденное. Более настоящее. Более жестокое. Здесь не было знаменитого художника. Здесь было простое человеческое счастье. Семья. Дом. Дети. Все, о чем они мечтали. Все, что он не смог ей дать. Все, что здесь подарил ей другой.
– Мама! Смотри, как я могу! – закричал мальчик и неуклюже перекувырнулся через мяч, шлепнувшись на траву.
– Ванечка, осторожно! – крикнула Настя, но в голосе не было страха, только легкое предупреждение и смех. – Не порви новую рубашку!
– Молодец, сынок! – громко сказал мужчина, откладывая гаечный ключ. – Почти как папа в молодости!
– Папа врет! – засмеялась девочка, показывая пальчиком на отца. – Бабушка сказала!
– Ой, Настенька моя предательница! – мужчина вскочил, подхватил девочку на руки и закружил. Она визжала от радости.
Настя улыбалась, глядя на них. Потом ее взгляд скользнул в сторону, прямо на куст, где прятался Саша. Он замер, вжался в землю, сердце замерло. Увидела? Узнала? Но ее взгляд был рассеянным, задумчивым. Она смотрела сквозь куст, куда-то вдаль, на забор. Никакой искры узнавания. Ни капли того тепла, что было в ее глазах, когда она смотрела на мужа или детей. Просто мимолетный взгляд в пустоту. Потом она повернулась и ушла в дом, наверное, проверить тот самый пирог, запах которого витал в воздухе.
Саша остался сидеть в грязи, дрожа от холода и потрясения. Его не узнали. Совсем. Она посмотрела на него, как на пустое место. Как на часть пейзажа. И почему-то это ранило сильнее, чем презрение в мире художника или страх в мире войны. Здесь не было ненависти. Не было отторжения. Было… полное безразличие. Он был никем. Пылинкой. Неважной деталью в ее идеальной, счастливой жизни.
Они дома, в своей хрущевке. Настя кормит Булочку с руки кусочком сыра. «Вот, гляди, Саш, она так смешно жует!» Она строит рожицу, подражая собаке. Булочка виляет хвостом, тычется носом в ладонь. Он снимает это на телефон, смеясь: «Два клоуна у меня!» Она бросает в него подушку: «Сам клоун!» Потом подходит, обнимает сзади, кладет голову ему на плечо. «А серьезно, Саш… Мы когда-нибудь… вот так? С детишками? В своем доме?» Он поворачивается, целует ее: «Обязательно, солнышко. Я обещаю». Она прижимается к нему, и в ее глазах – полная вера в это будущее.
Обещание, которое он не сдержал. Будущее, которое здесь принадлежало другому. Другой мужчина ловил их дочь, кружил ее под яблоней. Другая Настя пекла пирог в доме, о котором они мечтали. Саша почувствовал странное чувство – не только острую боль от потери, но и… облегчение? Да. Грустное, горькое, но облегчение. Она была жива. Здорова. Счастлива. Не сломлена горем, не заточена в культе его памяти, не борется за жизнь в руинах. Она была счастлива. По-настоящему. И это счастье не требовало его жертвы. Не требовало его вмешательства. Оно просто… существовало. Без него.
Он осторожно выбрался из куста, стараясь не шуметь. Одежда была в грязи, лицо исцарапано ветками. Он выглядел как бродяга, забредший в чужой благополучный мир. Что делать? Уйти? Просто так? Не увидев ее поближе? Не услышав ее голос? Жажда хотя бы краем глаза увидеть это счастье была сильнее страха. Он обошел дом, прячась в тени деревьев и кустов, вышел на улицу. Это был тихий пригород, с аккуратными домами за невысокими заборами, чистым асфальтом, цветами у калиток. Машин почти не было. Он нашел место напротив их дома – небольшую аллею с лавочкой, скрытую разросшимся кустом сирени (похоже, это растение тут популярно). Сел, стараясь быть незаметным.
Он наблюдал. Как мужчина починил велосипед, и мальчик сразу попытался на нем прокатиться под восторженные крики сестры. Как Настя вышла на террасу, поставила поднос с чашками и только что испеченным, дымящимся пирогом – пахло яблоками. Как они сели за столик на террасе – вся семья. Как дети наперебой что-то рассказывали, размахивая руками, а родители улыбались, поправляли им волосы, клали куски пирога. Как Настя налила мужу чай, их руки случайно коснулись, и он улыбнулся ей той самой улыбкой – теплой, своей, полной любви и понимания. Как она ответила ему взглядом, в котором читалась вся их совместная жизнь, все преодоленные трудности, вся нежность.
Они завтракают на их маленькой кухне. Настя в его огромной футболке, с растрепанными волосами. Она жарит яичницу, он режет хлеб. Играет радио. «Саш, не забудь купить молока вечером», – говорит она, переворачивая яйцо. «И хлеб», – добавляет. «И хлеб», – повторяет он, улыбаясь. Она ставит перед ним тарелку с яичницей, как он любит. «Солнышко мое», – бормочет он, целуя ее в макушку. Она фыркает: «Ешь, болтун». Простое утро. Простое счастье.
Сейчас она ставила пирог перед другим. И этот другой целовал не ее макушку, а руку. И говорил что-то, от чего она смеялась – звонко, свободно, ее настоящим смехом, который Саша не слышал три года. И это было прекрасно. И невыносимо.
Саша сидел на лавочке, сжавшись, стараясь не шуметь. Он не плакал. Слезы будто застыли внутри. Он просто смотрел. Впитывал картину этого чужого счастья. Каждый смех ребенка был уколом. Каждая нежная улыбка Насти в адрес мужа – ножом в сердце. Каждое движение мужчины – уверенного, хозяина, отца – напоминало ему о его собственном провале. О его пустой квартире. О его нерожденной дочке. О его несдержанных обещаниях.
Но под этой болью, как ручеек подо льдом, пробивалось то самое облегчение. Она была здесь. Живая. Любимая. Любящая. Мать. Жена. Она не знала его. Она не нуждалась в нем. Ее мир был целым без него. И это было… правильно. Несправедливо для него? Да. Больно? Очень. Но для нее – это был правильный мир. Мир, где ее мечты сбылись. Где она сама и её ребенок не погибли под колесами пьяного депутата, а смеялись на лужайке. Где она пекла пироги в своем доме.
Он вспомнил мир, где сам погиб. Ее опустошенное лицо. Ее крик: «Оставь меня с ним!». Там ее счастье умерло и похоронено вместе с ним. Здесь же ее счастье цвело, как яркие бархатцы под окном. И он не имел права врываться сюда со своим горем, своей тоской, своей безумной историей о часах и других мирах. Он стал бы для нее не спасением, а бедой. Нарушителем покоя. Безумцем, пытающимся разрушить ее реальность. Он не мог сделать ей больно.
Дети наелись пирога и снова бросились играть. Мужчина что-то сказал Насте, взял инструменты и пошел к сараю. Настя осталась на террасе, собрала посуду на поднос. Она стояла, опершись на перила, глядя на играющих детей. Ее лицо было спокойным, умиротворенным. Взгляд мягким. Счастливым. Она подняла лицо к небу, где сквозь облака пробивалось солнце, закрыла глаза, вдыхая свежий воздух. Просто радуясь этому моменту. Миру. Своей жизни.
И в этот момент она снова посмотрела в его сторону. Прямо на лавочку, скрытую кустом. Их взгляды встретились. На этот раз не рассеянно. Она увидела его. Сидящего в грязной одежде, с исцарапанным лицом, прижавшегося к спинке лавочки, как пойманный зверь. Удивление мелькнуло в ее глазах. Потом – настороженность. Легкая тень тревоги. Она не узнала его. Но увидела чужого, подозрительного человека, наблюдающего за ее домом, за ее детьми. Ее рука инстинктивно потянулась к карману фартука – за телефоном? Она сделала шаг вперед, к краю террасы, приглядываясь.
Саша понял, что время кончилось. Он вскочил с лавочки. Его движение было резким, испуганным. Она заметила это, ее тревога усилилась. Она что-то крикнула – неразборчиво, но явно в его сторону. Может, «Эй!» или «Кто там?».
Он не стал ждать. Не стал пытаться объяснять необъяснимое. Он просто развернулся и побежал. Не оглядываясь. В ушах стучал его собственный пульс, в груди кололо. Он слышал за спиной ее второй, более громкий окрик, потом – ответный возглас мужчины из сарая. Но он уже свернул за угол, втиснулся в узкий проход между двумя гаражами, спрятался в тени.
Он стоял, прислонившись к холодной кирпичной стене, задыхаясь. Не от бега – от переполнявших его чувств. Боль. Горечь. Зависть? Да, и зависть тоже. К этому мужчине. К этому дому. К этим детям. К этому счастью, которое могло бы быть его. Но сильнее всего было чувство… завершенности. Грустной, но ясной. Это не его мир. Это не его Настя. Её сердце принадлежало другому. Их любовь здесь была другой – не лучше и не хуже той, что была у них, просто другой. И он не имел на нее права.
Они лежат в постели, уже поздно. Настя ворочается, не может уснуть. «Саш?» – шепчет она. «М-м?» – бормочет он, почти спя. «А ты никогда… ну… не захочешь уйти? К другой? Красивее? Моложе?» Он поворачивается к ней, обнимает, целует в нос. «Дурочка. Какая другая? Ты же моя единственная и неповторимая Настька-букаська. Никогда». Она прижимается к нему, довольная. «И ты мой», – шепчет. «Навеки», – отвечает он, и это не просто слова, а клятва.
«Навеки» здесь закончилось для другого Саши. И началось для этого мужчины. И это было… нормально. Жизнь шла дальше. Даже после потерь. Даже после него. Эта мысль была горькой, но и легкой.
Саша осторожно выглянул из укрытия. У их дома на лужайке стоял мужчина, оглядывал улицу, держа в руке что-то тяжелое – гаечный ключ? Настя стояла рядом, держала за руку девочку, мальчик жался к ней. Она что-то говорила мужу, показывая в сторону лавочки. Лицо ее было напряженным, озабоченным. Она защищала свой дом. Свою семью. От него. От призрака из другой жизни.
Сердце сжалось. Но не от злости. От жалости. К себе? К ней? Не знал. Он просто знал, что должен уйти. Сейчас. Не оставляя следа. Не сея страха в этом мирном месте.
Он дождался, пока мужчина, не найдя никого, обнял Настю за плечи и повел семью обратно в дом, успокаивая. Потом, крадучись, как вор, он выбрался из укрытия и пошел прочь по тихой улице, не оглядываясь. Его шаги гулко отдавались в тишине. Запах яблочного пирога еще витал в воздухе, смешиваясь с запахом мокрой земли. Он шел, и в душе бушевал странный вихрь: острая боль потери, горечь несправедливости, зависть к чужому счастью… и огромное, тихое облегчение.
Она счастлива. Без меня. Но счастлива. Жива. Здорова. Любима. У нее есть дети. Дом. Будущее. Я не нужен ей здесь. И это… хорошо. Это лучше, чем видеть ее мертвой. Лучше, чем видеть ее сломленной. Лучше, чем разрушать ее мир своим появлением.
Он вышел на окраину поселка, к полю, за которым виднелся лес. Было тихо, только шелест травы и крики птиц. Он нашел большой камень у края поля, сел на него, глядя на дымок, поднимавшийся из трубы ее дома вдалеке. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в розовые и золотые краски. Картина была мирной. Спокойной. Он достал из кармана помятый блокнот и старую ручку. Не для записей о мире. Он просто смотрел на дом и рисовал. Тот самый дом. С террасой. С яблоней. Он рисовал медленно, старательно, переводя боль в линии на бумаге. В памятник чужому счастью, которое он не смел потревожить.
Они сидят на полу в детской, которую готовят для малыша. Стены розовые, на полу – коробки с одеждой, игрушками. Настя держит в руках крошечный комбинезон с единорогами. «Смотри, Саш, какой! Нашему малышу будет в нем тепло». Ее глаза сияют. Он берет комбинезон: «Маленький совсем. Ты уверена, что она влезет?» Она смеется: «Они же растут, дурак!» Она кладет голову ему на плечо: «Представляешь, она вот тут будет ползать… а тут – её кроватка… а тут мы будем читать ей сказки…» Он обнимает ее: «Будет, солнышко. Все будет». В комнате пахнет краской и надеждой.
Сейчас в той комнате, наверное, спал ее сын. Или играл ее Ванечка. И сказки ему читал другой мужчина. Саша дорисовал детали дома на своем рисунке. Поставил точку. Закрыл блокнот. Грусть была огромной, как поле перед ним. Но она была чистой. Без злости. Без чувства вины, как в мире, где он погиб. Это была грусть по тому, что могло бы быть, но не случилось. По своей утрате. Но не по её. Её мир здесь был цел. Он посмотрел на часы. Кнопка «Домой» манила. Он нажал ее, глядя на дымок из трубы в последний раз. В этом мире он был Чужим. И это было правильно.
Резкий толчок. Давление. Падение. Мир растворился, унося с собой запах яблочного пирога, детский смех и образ Насти, спокойной и счастливой на пороге ее дома. Прибытие.
Он упал на пол своего зала, в знакомый запах пыли, одиночества и вчерашней растворимой лапши. Его не вырвало. Он просто лежал на спине, глядя в потолок с трещиной, чувствуя, как грусть медленно растекается по телу, тяжелая, но не разрывающая. Он достал тетрадь. Поставил дату. Долго думал, что написать. Потом вывел:
Настя жива. Замужем за другим. Двое детей (мальчик ~5 лет, Ванечка; девочка ~3 лет, Настенька). Дом. Счастье. Настоящее, глубокое. Не узнала. Увидел ее спокойной, умиротворенной. Искушения не было – только наблюдение. Боль и… облегчение. Она счастлива без меня. В своем мире. Своей жизнью. Ушел, не нарушив покоя. Грусть без гнева. Понял: ищу не просто ее, а НАС. Нашу любовь. Нашу историю. Здесь ее нет.
Он бросил ручку. Достал блокнот с рисунком дома. Долго смотрел на него. Потом аккуратно вырвал лист, сложил его вчетверо и сунул в тетрадь между страницами. Памятник. Миру, где она была счастлива. Миру, куда ему не было места.
Он поднялся, пошел на кухню. Включил свет. Помыл кружку. Поставил чайник. Пока вода закипала, он стоял у окна, глядя на темный двор своей хрущевки, на тусклые огни в окнах соседей. Там, за тысячами миров, она пила чай с яблочным пирогом в своем доме, укладывала спать своих детей. И это было… хорошо. Не для него. Но для неё. И этого, наверное, было достаточно. Хотя бы на сегодня.
Глава 6: Пламя справедливости.
Боль от прыжка была уже знакомой, как старая рана, но на этот раз ударила с новой силой. Его не просто вывернуло – ему казалось, будто его перемололи. Сашу выбросило не на землю, а прямо в грязную, вонючую лужу у тротуара. Он шлепнулся лицом вниз, вдохнув грязь, бензин и что-то кислое, пахнущее гнилью. Желудок скрутило спазмами, но рвать было нечем – только горькая желчь выплеснулась на асфальт, смешиваясь с городской грязью. Голова раскалывалась, в ушах стоял звон. Он лежал, прижавшись щекой к холодной, маслянистой жиже, пытаясь понять, где он и почему воздух пахнет отчаянием, выхлопами и чем-то едким, как слезоточивый газ.
Они в машине, едут на дачу. Настя за рулем, он рядом, гладит Булочку сзади. Окна открыты, ветер треплет Насте волосы. Она поет что-то под радио, фальшиво, но так весело, что он смеется. «Солнышко, ты медведю на ухо наступила!» – кричит он через шум ветра. Она строит ему рожицу: «Зато медведь доволен! Правда, Булочка?» Собака радостно тявкает. Пахнет асфальтом, полевыми цветами и ее духами – клубника и ваниль. Все просто. Легко. Будущее кажется такой же долгой и светлой, как эта дорога.
Гудок машины. Пронзительный звук заставил Сашу вздрогнуть и отползти на тротуар. Мир вокруг был знакомым и чужим одновременно. Москва. Но не его Москва. Это был город, дышащий гневом. Воздух дрожал от гула толпы где-то неподалеку. На стенах домов – не обычные надписи или реклама, а плакаты. Яркие, злые. Фотографии разбитых машин, лиц, искаженных горем и злостью. Крупные надписи: «ДОЛОЙ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!», «СУД УБИЙЦАМ!», «ПОМНИМ КАЖДУЮ ЖЕРТВУ!», «СКОРАЯ – НЕ МИШЕНЬ!». На одном плакате, прямо на трансформаторной будке, Саша с ужасом узнал лицо. Не Насти. Депутата. Того самого. Его ухмыляющаяся пьяная рожа была перечеркнута красным крестом. Подпись: «ЕГО МЕСТО – В ТЮРЬМЕ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ – СЕЙЧАС!».
Саша медленно поднялся, опираясь на мокрую стену. Одежда была в грязи, лицо тоже. Он почувствовал взгляды прохожих – не просто неприязненные, а злые, подозрительные. Люди шли быстро, сгорбившись, лица напряженные, глаза бегали. В воздухе висело напряжение, как перед грозой. Гул толпы нарастал. Он пошел на звук, инстинктивно пряча лицо в воротник куртки, хотя здесь было прохладно, как поздней весной.
Он свернул за угол и замер. Площадь перед зданием, похожим на мэрию, была забита людьми. Тысячи. Море голов, знамен, плакатов. Воздух гудел от скандирования, сливавшегося в один грозный рев: «Спра-вед-ли-вость! Спра-вед-ли-вость! Спра-вед-ли-вость!». Пахло краской с плакатов, пылью и чем-то едким – слезоточивым газом? – щипало глаза.
И на самодельной сцене из грузовика с опущенным бортом стояла Настя.
Но это была не его нежная Настя, не сломленная горем, не счастливая мать. Это была Воительница. Человек, превративший свою боль в оружие. Она говорила в микрофон, и ее голос, знакомый до боли, звучал металлом, резал воздух. Он был хриплым от крика, но сильным, полным ярости и уверенности, так что толпа затихала, а потом взрывалась новыми криками.
Она выглядела… измученной. Очень худой, с острыми скулами, глубокими тенями под огромными, горящими глазами. Волосы, которые у Насти были светлые и мягкие, сейчас были коротко, почти по-мужски стрижены, неровно, будто она сама их отрезала в гневе. Она была одета в простые темные джинсы и ветровку, на которой был значок – изображение «скорой», перечеркнутой красной чертой. Но в этой худобе, в этой стрижке, в этом огне глаз была огромная, почти страшная сила. Сила человека, которому нечего терять. Который сжег мосты и пошел напролом.
На сцене Настя говорила не о себе. Она говорила о других. О водителе «скорой», погибшем в той же аварии (Саша узнал об этом позже). О молодом враче, сбитом пьяным чиновником месяц спустя. О девочке, умершей, потому что «скорая» опоздала, застряв в пробке из-за кортежа какого-то важняка. Она называла имена. Фамилии. Должности. Она показывала фотографии – разбитых машин, плачущих родных, ухмыляющихся виновников, выходящих из судов. Ее голос дрожал не от слабости, а от сжатой ненависти и боли – не только своей, но и боли десятков, сотен таких же, как она.
«Они думают, что мы забудем?!» – кричала она, и толпа ревела: «НЕ ЗАБУДЕМ!». «Они думают, что их деньги, их связи, их кресла защитят их от ответа?!» – «НЕ ЗАЩИТЯТ!». «Они убивают нас на дорогах, в больницах, своим безразличием, своей безнаказанностью! И мы МОЛЧАЛИ! Но МОЛЧАНИЕ – ЭТО СОГЛАСИЕ! ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!»
Саша стоял на краю толпы, прижатый к ограде, чувствуя себя мелкой соринкой в этой огромной буре гнева. Сердце бешено колотилось, но не только от страха быть узнанным или задавленным. От стыда. Глубокого, разъедающего стыда. В его мире он зарылся в свою боль, как крот. Построил себе нору из тоски, игр и работы. Он ненавидел того депутата, в самых темных мыслях мечтал о его падении, но… он ничего не делал. Ничего, кроме бегства в другие миры в тщетной надежде спастись самому. А она… его Настя… или та, что могла бы быть его Настей… она поднялась. Она превратила свое горе в знамя. Она боролась не только за память о своем погибшем Саше (как он умер здесь? В той же аварии? Или по-другому?), но и за всех. Она стала голосом тех, кого лишили голоса.
Настя на кухне, разбирает пакеты с продуктами. Достает коробку дорогого чая, конфеты. «Это что?» – спрашивает он. «Для соседки, Тамары Петровны, – отвечает она, не глядя. – Ее сына вчера выписали… после операции. Она одна, пенсия маленькая, все на лекарства уходит». Он молчит. Знает, что у них самих не густо. «Насть, мы сами…» Она оборачивается, и в ее глазах – знакомый огонек, смесь упрямства и жалости. «Саш, мы есть друг у друга, мы справимся. У нее – только больная кошка и долги. Нельзя же просто… проходить мимо». Она идет к соседке, оставляя его с легким уколом стыда и гордости за нее.
«Проходить мимо». Именно это он и делал. Во всех мирах. Даже пытаясь помочь, как в мире, где он погиб, делал это тайком, трусливо, а потом сбежал. А она здесь не прошла мимо. Она встала посреди площади и закричала так громко, что ее услышали тысячи.
Толпа взревела с новой силой. Настя указала пальцем на здание администрации. «ОНИ ТАМ! СЕЙЧАС ОНИ ТАМ, ЗА ЭТИМИ СТЕНАМИ! ОНИ ПЬЮТ НАШИМ ГОРЕМ! ПОКАЖЕМ ИМ НАШЕ ГОРЕ! ПОКАЖЕМ ИМ НАШУ ЯРОСТЬ!»
Это был сигнал. Из толпы полетели пластиковые бутылки и банки в сторону здания. Засвистели петарды. Полиция, до этого державшаяся в стороне, напряглась. Щиты сомкнулись. Замелькали рации. Саша увидел, как Настя спрыгнула с грузовика и пошла в первых рядах наступающей толпы. Не сгорбившись, а с прямой спиной, высоко подняв голову, как знаменосец. Она шла на щиты. На дубинки. На возможную смерть. Ради справедливости. Ради того, чего он так безнадежно искал во всех мирах – не личного счастья, а простой правды и наказания за зло.
Саша почувствовал, как сжалось в груди. Не только стыд. Зависть? Да. Дикая зависть к ее силе, к ее ясной цели, к ее умению действовать. И… любовь. Страшная, мучительная любовь к этому яростному, прекрасному в своем гневе человеку, в котором еще угадывались черты его тихой, смешной Насти. Он хотел быть там, рядом с ней. В первых рядах. Подставить спину под дубинки. Кричать вместе с ней. Стать частью ее борьбы. Загладить свою трусость, свое бегство.
Он сделал шаг вперед, в гущу толпы. Его толкали, сжимали со всех сторон. Воздух стал густым от криков, пыли, пота. Он пробивался к ней, к этому пламени, которое могло сжечь его, но сулило очищение. «Настя!» – попытался крикнуть он, но голос потонул в реве тысяч голосов. «НАСТЯ!»
Она была уже метрах в двадцати, почти у самого оцепления. Он видел, как полицейские переглянулись, как один что-то сказал в рацию. Настя подняла руку, указывая на окно на втором этаже. «ВИДИШЬ ИХ? ВИДИШЬ, КАК ОНИ СМОТРЯТ СВЕРХУ? КАК СМОТРЕЛ ОН, КОГДА ДАВИЛ НАС?!»
И в этот момент их взгляды встретились. Не сквозь толпу. Прямо. Он пробился достаточно близко. Ее горящие глаза, полные ярости, скользнули по нему… и остановились. На миг – всего на миг – в них мелькнуло удивление. Что-то знакомое? Но тут же его смыла волна гнева, направленная прямо на него. Он видел, как ее брови сдвинулись, как губы скривились в презрительную усмешку. Она узнала в нем чужого. Не своего. Не бойца. Не жертву. Подозрительного парня в грязной куртке, который лез не в свое дело.
Они в ветеринарке. Булочка сломала лапу, прыгнув с дивана. Настя держит ее, успокаивает, сама плачет. «Я виновата, Саш! Я не доглядела!» Ветеринар делает укол, Булочка скулит. «Тише, солнышко, тише, – шепчет Настя, прижимая собаку к себе, целуя ее в лоб. – Сейчас все будет хорошо. Доктор поможет. Мы поможем». Ее слезы капают на шерсть Булочки. В ее глазах – чистая любовь и желание защитить, даже если она виновата.
Сейчас в ее глазах не было ничего, кроме ненависти и презрения к нему, влезшему в ее боль и борьбу. Он был для нее не другом, не потерянной любовью, а врагом. Лишним. Его попытка приблизиться, быть рядом, казалась ей оскорблением. Он мешал ей своей чужеродностью. Его отбросили к самому краю толпы, к ограде. За спиной раздался резкий хлопок – это полиция бросила светошумовые гранаты. Толпа взревела от злости и страха. Засвистели дубинки. Началась давка. Саша видел, как Настя, не отступая, швырнула камень в полицейский щит. Ее фигура на миг скрылась в клубах дыма и мельтешении людей.
Чувство вины накрыло его с головой, тяжелое, как мокрое одеяло. Он пришел сюда, как вор. Он хотел урвать кусочек её боли, её силы, её смысла для себя. Чтобы успокоить свою тоску. Он был мародером на её войне. Его поиски, его желание вернуть свое счастье, казались ему теперь жалкими перед ее настоящим подвигом – борьбой не за себя, а за всех. И он причинил ей боль. Своим вторжением. Своей попыткой влезть в её мир со своим горем. Она указала на него пальцем, как на врага. И она была права.
Ему нужно было бежать. Отсюда. От её гнева. От своего стыда. От этого мира, где он был лишним. Саша судорожно нащупал часы. Кнопка со спиралью. Не «Домой». Он не мог вернуться в свою пустую квартиру сейчас. Он не вынес бы тишины. Ему нужен был хаос, боль, опасность – что-то, что заглушило бы этот шум в ушах и стыд внутри. Что-то, что подходило бы к тому, что он чувствовал. Он нажал кнопку, не думая, отчаянно желая одного – исчезнуть.
Прыжок был особенно жестоким. Мир не просто исчез – он взорвался. Цвета слились в боль, звуки – в оглушительный визг. Ему казалось, будто его разорвали на куски и швырнули в черную дыру, полную битого стекла. Это длилось вечность. Его выкинуло.
Новый мир. Он упал не на асфальт, а во что-то мягкое, влажное, липкое. Грязь? Трава? Он лежал, задыхаясь, выплевывая землю, чувствуя вкус крови на губах – прикусил язык. Первое, что он почувствовал – тишина. Глубокая, звенящая, ненормальная тишина, нарушаемая только его хриплым дыханием и… странными, далекими звуками. Какими-то низкими ревами. И запах. Не выхлопов, не газа. Запах сырости, гниющих растений, болота и… чего-то звериного, тяжелого.
Он поднял голову. И замер.
Он лежал на краю густого, древнего леса. Огромные папоротники, деревья с толстыми, перекрученными стволами, обвитые лианами. Воздух был теплым, влажным, густым. Небо над деревьями – странного, желто-зеленого цвета. И тишина… она была обманчивой. Лес шевелился. Шуршал. Ждал.
Потом он услышал это снова. Рёв. Теперь гораздо ближе. Глубокий, дрожащий звук, от которого задрожала земля под ним и с деревьев посыпались листья. Но это был не рев знакомого зверя. Это было нечто… огромное. Древнее. Страшное. Саша медленно, со стоном повернул голову в сторону звука. На опушке леса, метрах в пятидесяти, в высокой траве, стояло Существо. Огромное, как дом. Массивное тело, покрытое бугристой, серо-зеленой кожей. Мощные ноги с когтями. Длинная шея, увенчанная маленькой головой с клювом, как у попугая, но размером с дверь машины. И маленькие, злые глаза, смотрящие прямо на него.
Трицератопс. Или что-то очень похожее. Оно опустило голову, выставив вперед три огромных, острых рога – два над глазами и один на носу. Из ноздрей вырывались клубы пара. Оно фыркнуло, и земля снова дрогнула. Оно его увидело. И оно не выглядело добрым.
Чистый, животный страх охватил Сашу, на миг затопив стыд и вину. Адреналин ударил в кровь. Он вскочил, еле устояв на дрожащих ногах. Его глаза метнулись к часам. Кнопка «Домой»? Или снова прыжок? Куда? В еще худший кошмар? Чудовище сделало шаг вперед. Земля дрогнула. Потом еще один. Оно пошло на него. Не быстро, но неотвратимо, как танк. Трава приминалась под его огромным весом. Рёв прокатился по воздуху – угроза, вызов.
Они в кино, смотрят «Парк Юрского периода». Настя вцепилась в его руку во время сцены с тираннозавром. «Боже, Саш, это ужасно! – шепчет она, прижимаясь. – Представить, что такие ходили по земле…» Он смеется, обнимает ее: «Хорошо, что нас с тобой тогда не было. Мы бы не выжили и пяти минут». На экране тираннозавр взревел, Настя взвизгивает и прячет лицо у него на плече. Он чувствует, как она смеется сквозь страх. «Дурак», – бормочет она, но не отпускает его руку до конца фильма.
Сейчас смеха не было. Был только чистый ужас перед тварью, для которой он был всего лишь досадной мошкой. Он развернулся и побежал. Не думая. Не глядя на часы. Просто бежал, спотыкаясь о корни, хлеща себя по лицу огромными листьями папоротников, вглубь этого зеленого, дышащего, враждебного леса. За его спиной нарастал грохот тяжелых шагов и победный рев существа, уверенного, что добыча не уйдет. Саша бежал, чувствуя, как слезы страха смешиваются с потом, как стыд за вторжение в мир Насти сменяется простым желанием выжить. Он искал спасения, а нашел только новые круги ада. И теперь этот ад дышал ему в спину горячим дыханием доисторического чудовища.
Глава 7. Искушение.
Нужно было убираться отсюда. Срочно. Саша нащупал кнопку спирали и судорожно нажал. Новый мир. Новая боль. Но пока только физическая. Уже приевшаяся. Саша почти свыкся с ней. Боль стала как родная. Когда его наконец выбросило, он не упал, а распластался на холодной, гладкой поверхности, не в силах пошевельнуться. Воздух пах странно: озоном, как после грозы, сладкой пыльцой незнакомых цветов и… жареными каштанами? Знакомый, уютный запах, не вязавшийся с адом, который он только что пережил.
Он лежал лицом вниз, щекой прижатый к чему-то твердому и прохладному – полированному камню или плитке. По телу бегали мурашки, тошнило, но вырвать не могло. В ушах звенело, заглушая все звуки. Постепенно звон стих, уступив место… тишине. Не мертвой, а живой. Шелест листвы где-то высоко. Чей-то смех. Звон колокольчика. И тиканье. Громкое, размеренное тиканье больших часов, доносящееся из дома.
Саша заставил себя открыть глаза. Он лежал на широкой каменной террасе с коваными перилами, увитыми плющом и незнакомыми белыми цветами. Перед ним открывался вид, от которого перехватило дыхание. Терраса принадлежала дому – нет, скорее… усадьбе? Небольшой, но красивой. Белокаменное здание, похожее на итальянскую виллу. А за перилами… раскинулся сад. Идеально подстриженные кусты, образующие узоры. Цветники с яркими цветами: красными, фиолетовыми, желтыми, синими – таких Саша не знал. Дорожки из светлого гравия вели к беседкам с розами. Фонтан с дельфинами в центре. Дальше – ровные ряды виноградников, спускающиеся к синей ленте реки. Солнце светило тепло, но не жгло. Воздух был чистым, свежим.
Этот мир не был адом, руинами или серой пустыней. Он был… идеальным. Богатым. Спокойным. Красивым до боли. Как картинка из рая, куда Сашу занесло по ошибке. Он почувствовал себя грязным пятном на чистом камне. Его поношенная куртка, мятые джинсы, стоптанные кроссовки – все кричало, что он здесь чужой. Он медленно, с трудом поднялся на колени, опираясь о холодный камень. Голова кружилась.
Саша и Настя стоят на балконе своей хрущевки, пятый этаж. Вид – на серые дворы, гаражи, старые качели. Настя обнимает его сзади. «Вот вырастем большие, Саш, – говорит она мечтательно, – купим себе домик. Не такой, конечно, – она машет рукой куда-то вдаль, – но свой. С садом. И розы. Обязательно розы». Он поворачивается, целует ее в лоб: «Будет у нас и домик, и розы. Главное – вместе!». Они стоят, смотря на унылый пейзаж, но видят в нем обещанное будущее. Запах ее волос – клубника и ваниль – смешивается с городской пылью.
Запах здесь был другим. Чистым. Дорогим. Без обещаний, но с исполнением. Саша встал, шатаясь. Едва не упал, ухватившись за перила. Отсюда вид был еще лучше. Дом стоял на вершине холма. Внизу, у реки, виднелся аккуратный поселок – черепичные крыши, ухоженные сады. Ни заводов, ни трущоб, ни мусора. Идиллия.
И тут он услышал голос. Женский. Звонкий, счастливый, знакомый до боли.
«Саш, смотри! Первая клубника!»
Сердце Саши остановилось, потом забилось с бешеной силой. Он замер, вжавшись в плющ у перил, стараясь стать невидимым. Голос доносился из сада, слева, из-за высокой зеленой стены из кустов.
«Уже? Где?» – ответил мужской голос. Низкий, спокойный, уверенный. Его голос. Но… не совсем. Более мягкий. Без привычной усталости или тревоги.
Саша осторожно выглянул. Дорожка вела к небольшой стеклянной теплице. Возле нее, на коленях перед грядкой, стояла Она.
Настя.
Она была в легком сиреневом платье, с плетеной корзинкой в руке. Волосы, светлые и густые, были собраны в небрежный пучок, выбивались солнечные пряди. Лицо сияло – не фанатичной верой, не материнской усталостью, а чистым, спокойным счастьем. Здоровьем. Она выглядела… ухоженной. Счастливой. Его Настей в лучшие дни, но еще лучше.
И рядом с ней, склонившись над грядкой, был Он. Александр. Но не успешный пафосный художник, не усталый дизайнер из хрущевки. Этот Саша был в белых льняных брюках и голубой рубашке с закатанными рукавами. Он выглядел… отдохнувшим. Сильным. Уверенным. Он срывал ярко-красную ягоду клубники и протягивал Насте.
«Первая. Для тебя».
Настя рассмеялась, взяла ягоду, откусила. Сок окрасил ее губы. «Вкусно! Но кисловатая еще». Она протянула ему остаток. Он взял, съел, потом наклонился и поцеловал ее в губы, смахивая сок. Легко, естественно.
«Сладкая», – прошептал он, глядя ей в глаза.
Она ответила ему взглядом, полным любви, доверия. Взглядом, который когда-то был обращен к нему. Саше из другого времени.
Боль ударила Сашу под ребра. Он схватился за перила, чтобы не закричать. Его ногти впились в металл. Это был не мир успешного художника, где Настя сияла рядом с чужим гением. Не мир чужих людей, где она была счастлива с другим мужчиной. Здесь она была с ним. С его двойником. С версией его самого, которая не потеряла ее. Которая жила в этом раю, собирала клубнику. Которая имела все, что он потерял.
Они в парке, ранняя весна. Трава еще редкая. Настя сидит на одеяле, он лежит, положив голову ей на колени. Она кормит его клубникой из пластикового контейнера, купленной по акции. «Вкусно?» – спрашивает она. «Сладкая», – бормочет он, закрывая глаза, наслаждаясь ее прикосновениями, солнцем. Булочка копается рядом. «Когда-нибудь у нас будет свой сад, – мечтательно говорит Настя. – С клубникой. И чтобы ты лежал вот так, а я кормила бы тебя прямо с грядки». Он берет ее руку, целует ладонь. «Обязательно, солнышко».
Здесь этот сад был. Клубника была. А он лежал в пыли чужого рая, призрак у перил, наблюдающий за воплощением своей же мечты. И мечта эта принадлежала другому.
Он наблюдал, затаив дыхание. Они закончили с клубникой, поднялись. Настя взяла его под руку, и они пошли по дорожке к дому. К этому дому. Саша видел, как легко они шли, как их плечи соприкасались, как они перебрасывались словами, смеялись. Он видел, как Настя что-то сказала, и он рассмеялся – его настоящим смехом, который Саша почти забыл. Смехом человека, который не знает горя.
Они скрылись внутри. Саша остался один на террасе, дрожа, хотя солнце припекало. Его мир был хрущевкой, тоской и часами-проклятием. Их мир – был воплощением всех их «когда-нибудь». Здесь не было погибшего ребенка. Не было пьяного депутата. Не было разбитой скорой. Здесь он был целым. И она – счастливой. С ним.
Мысль пришла внезапно, ясная и страшная: Убрать его.
Она была бы свободна. Одна. И он, настоящий он, мог бы… занять его место. Ведь он же он, по сути? Тот же человек, только… прошедший через ад. Разве она почувствует разницу?
Образ всплыл мгновенно: он подкрадывается к двойнику сзади, когда тот один. Камень? Тяжелая ветка? Он представлял, как тело падает на идеальную траву. Как кровь, алая, как клубника, растекается. Как он прячет тело… Потом он входит в дом. Настя оборачивается: «Саш?» Он улыбается ее улыбкой. «Я здесь, солнышко». Идет к ней. Обнимает.
Они в ванной. Настя моет Булочку после прогулки под дождем. Собака скулит, отряхивается. «Саш, держи ее!» – смеется Настя, пытаясь намылить собаку. Он пытается удержать вертлявую Булочку, сам весь мокрый. «Она же как угорь!» – возмущается он. «Ты же сильный!» – поддразнивает Настя. «Сильный, но не всесильный!» – парирует он, ловя собаку. Вода, пена, смех. Запах мокрой шерсти и ее шампуня. Простое счастье.
Разве он мог убить человека в таком мире? Разве мог принести насилие в этот сад? Осквернить её счастье смертью? Даже ради… своего счастья?
Отвращение к самому себе поднялось волной. Он сглотнул ком в горле. Нет. Не мог. Это было бы не спасением, а новым падением. Он убил бы себя. Ту версию себя, которая выиграла. Которая сохранила все самое дорогое. Он стал бы монстром. И Настя… если бы узнала правду… возненавидела бы его.
Но искушение не отпускало. Оно шептало: Он не заслужил этого счастья. Он просто удачливее. Он не прошел через твою боль. Ты сильнее. Ты заслуживаешь её больше. Образ падающего тела снова всплыл, маняще и отвратительно.
Саша оттолкнулся от перил. Ему нужно было уйти. Сейчас. Пока он не сдался. Он огляделся. Терраса была пуста. Дверь в дом приоткрыта. Оттуда доносились голоса, смех, звон посуды. Завтрак? Обед? Их счастливое утро.
Он не мог прыгать отсюда. Шум, вспышка – они могли заметить. Он крадучись спустился по широким каменным ступеням в сад, стараясь держаться в тени кустов. Его сердце колотилось громко. Каждый шаг по гравию хрустел. Он пробирался вглубь сада, к виноградникам, надеясь найти укромное место. Сад был огромен и идеален. Каждый лист сиял, каждый цветок был на месте. Не было диких уголков, где можно спрятаться.
Саша и настя заблудились в лесу за городом. Дождь начал накрапывать. Карта не работает. «Саш, мы потерялись?» – спрашивает Настя, но в ее глазах азарт. «Не потерялись, – уверенно говорит он. – Мы просто… исследуем другой путь». Она смеется: «Другой путь в бурелом?». «Самый интересный!» – парирует он, продираясь сквозь кусты. Они выходят к реке, мокрые, в грязи, но счастливые. Находят старую лодку. «Наш Титаник!» – объявляет Настя. Они кричат: «Мы короли мира!» Их смех разносится над рекой. Запах мокрой листвы и их молодости.
Здесь не было места заблудиться. Не было места приключениям. Все было предсказуемо. Как жизнь этого другого Саши.
Саша добрался до виноградников. Длинные, ровные ряды лоз тянулись вниз по склону. Здесь было тише. Пахло землей, виноградом и камнем. Он зашагал между рядами, ища место, где можно спрятаться и прыгнуть. Вдруг он услышал шаги. Легкие, быстрые. И снова ее голос, близко:
«Саш? Ты где? Я принесла тебе кофе!»
Он замер как статуя, затаив дыхание. Она шла по дорожке вдоль виноградника, неся две кружки. Её платье колыхалось. Она выглядела беззащитной и прекрасной. Она искала его. Другого. Но если бы она свернула в его ряд…
Саша бросился вглубь, за густую лозу, прижался к теплой земле у подножия каменной стены, поддерживающей склон. Сердце бешено стучало. Он слышал, как ее шаги замедлились. Как она прошла мимо его укрытия, в нескольких метрах.
«Саш?» – позвала она еще раз, уже с легким удивлением.
Он видел краешек ее платья, сандалии. Если бы она повернула голову… Но она не повернула. Шаги удалились.
Он сидел, прижавшись к земле, дрожа. Пот стекал по лицу. Не только от страха быть пойманным. От близости к ней. От невозможности выйти, крикнуть: «Я здесь! Смотри! Это я!» От осознания, что она ищет другого его. Что ее любовь – не для него.
Он пришел домой поздно, после аврала. Голова гудит. В прихожей пахнет едой. Настя встречает его. «Ты ела?» – бормочет он. «Ждала тебя», – улыбается она. Она ведет его на кухню, сажает за стол. Ставит тарелку с теплым ужином. «Ешь, любимый». Она садится напротив, смотрит, как он ест. Её взгляд теплый, усталый, полный любви. «Как там наша Машенька?» – спрашивает он. «Шевелится, – кладет его руку себе на живот. – Скучает по папе». Он чувствует толчок. Усталость отступает. Он дома. Он нужен. Запах еды и тихого вечера.
Здесь другой Саша приходил домой вовремя. И его встречали так же. Теплым ужином. Улыбкой. Рукой на животе. Это был его дом. Его жизнь. Украденная у него слепым случаем и пьяным депутатом.
Ярость, черная и горячая, поднялась из глубины. Не к депутату – к нему. К этому двойнику в белых брюках, который жил его жизнью, любил его жену! Почему он? Почему не Саша? За что? Просто удачливее! Слепая удача подарила ему все, а Саше – только боль и эти часы, ставшие не то проклятием, не то еще одним шансом на другую жизнь!
Мысль об убийстве вернулась с новой силой. Горячей, яростной. Он должен был это сделать. Не ради Насти – ради справедливости. Чтобы забрать свое! Чтобы доказать, что удача – ничто перед его болью!
Он вскочил. Глаза метались по земле. Камень? Тяжелый кусок дерева? Что-то, чем можно ударить. Тихо. Он шагнул из укрытия. Настя ушла. Виноградник был пуст. Солнце светило ярко. Внизу, у реки, он увидел фигуру. Он. Другой Саша. Стоял у маленького причала, смотрел на воду. Один. Идеальная мишень.
Саша двинулся вниз по склону, крадучись между лозами, как волк. Каждый лист, каждый камень под ногами казались предателями. Ярость кипела в нем, смешиваясь со страхом и стыдом. Он подобрал тяжелый, неровный камень – размером с кулак, шершавый. Вес его в руке был страшным. Орудие убийства.
Он приближался. Метров тридцать. Двадцать. Десять. Двойник стоял спиной. Саша видел его плечи, затылок – как у него в зеркале. Но более… спокойный. Не ссутулившийся под горем. Это плечо не держало гроб Насти. Эта жизнь была подарком.
Саша замер в тени последней лозы перед открытым пространством у причала. Рука с камнем дрожала. Сейчас. Быстро. Сзади. В затылок. Он не почувствует. Упадет в воду. Течение унесет… Мысли неслись, оправдывая ужасное. Он сделал шаг вперед, из тени. Камень был тяжел, как грех.
Темная комната. Только свет монитора. На экране – медицинская статья: «Последствия тяжелой травмы при беременности». Страшные слова. Прогнозы. Он читает и чувствует себя беспомощным. Ничтожным. Неспособным защитить ни ее, ни ребенка. Он хочет кричать. Но сидит тихо. Потом выключает компьютер. Ложится рядом с Настей на больничную койку, осторожно обнимает ее холодную руку. Шепчет: «Я здесь. Я с тобой». Она не реагирует. Только монитор тихо пищит. В эту ночь он понял, что такое настоящая беспомощность.
Цену беспомощности… и цену насилия. Что он хотел доказать этим убийством? Что он сильнее судьбы? Нет. Он хотел доказать, что он хуже. Что он готов на зло. Убийство двойника не вернуло бы ему Настю. Оно убило бы его самого. Окончательно. Оно сделало бы его монстром. Оно осквернило бы ту чистую любовь, которую он видел в ее глазах утром.
Камень выскользнул из его дрожащих пальцев и глухо стукнул о землю у его ног. Саша ахнул, как от удара. Он отшатнулся, глядя на камень, как на что-то страшное. Стыд накрыл его с головой. Что он только что замышлял? Каким чудовищем он чуть не стал?
Двойник у причала обернулся на звук. Их взгляды встретились через несколько метров.
Глаза двойника – его глаза – расширились от удивления. Он увидел Сашу – грязного, дикого, с безумным взглядом и лицом, искаженным стыдом. Увидел камень у его ног.
«Кто вы?» – спросил двойник, голос твердый, но без злобы. Скорее настороженный. Он сделал шаг вперед. «Что вы здесь делаете?»
Саша не ответил. Он не мог. У него сжало горло. Он видел в глазах двойника не страх, а… недоумение и тревогу. Тревогу за свой дом. За свой сад. За свою Настю. Он видел себя – защитника этого рая. Этот взгляд добил его.
Саша рванулся прочь. Не вниз, а вверх, обратно по склону, туда, где был дом. Бежал, спотыкаясь о лозы, срывая листья. Слышал за спиной окрик: «Эй! Стой!» Но он не останавливался. Бежал, как зверь, гонимый стыдом и ужасом.
Он выбежал на площадку перед домом. Настя стояла на террасе, держа кружки. Она увидела его, мчащегося через идеальный газон, оставляющего грязные следы. Увидела его лицо. Ее глаза широко распахнулись от шока и страха.
«Настя!» – закричал он хрипло, не зная, что сказать, просто выкрикивая ее имя.
Она вскрикнула, отшатнулась. Кружки упали на камень террасы, разбившись с грохотом. Горячий кофе брызнул на ее платье, на белый камень.
Саша не остановился. Он пронесся мимо террасы, мимо нее. Но куда? Не знал. Просто бежал. По дорожке к воротам. Ворота были открыты. Он вылетел на дорогу – узкую, асфальтированную, ведущую вниз, к поселку.
За спиной он слышал голоса. Двойника. Насти. Встревоженные. Зовущие кого-то? Он не оглядывался. Бежал, пока хватало дыхания. Потом споткнулся, упал на обочину, в грязь. Поднялся. Пошел шатаясь. Стыд горел на щеках. Он чуть не убил человека. Он напугал ее. Он ворвался в их рай, как безумец, оставив страх в её глазах.
Он шел по дороге, не зная куда. Поселок внизу казался мирным. Дети играли. Кто-то косил траву. Запах свежескошенной травы смешивался с пылью. Он видел их лица – счастливые. Они не знали, что рядом чуть не случилось убийство. Что по их дороге идет тот, кто едва не переступил черту.
Он поднял руку. Часы. Кнопка «Домой». Спасение. Но прыжок домой означал возвращение в пустоту. В осознание того, что он мог, но не сделал. И того, что он хотел сделать.
Нет. Он не мог вернуться домой. Не с этим. Он нуждался в наказании. В мире, где его стыд и злость найдут выход. Где его готовность к насилию будет направлена на кого-то… заслуживающего.
Его палец нашел кнопку со спиралью. Он не думал. Он думал только о бегстве. От себя. От своего стыда. От этого рая. Любой мир. Только не этот. Только не видеть ее испуганных глаз.
Он нажал кнопку, глядя на сияющий поселок внизу.
Красивая картинка растворилась в мешанине цветов и гула. Боль прыжка была ничто по сравнению с болью в душе. Он летел в неизвестность, унося с собой образ сияющей Насти с клубникой, ее испуганный взгляд на террасе и тяжесть камня, который он поднял и… уронил. Не бросил. Уронил от слабости. От страха. От остатков совести. Спираль…
Глава 8. Цена справедливости.
Саша упал лицом вниз. Его прижало к чему-то холодному. Медленно поднявшись на колени, он оперся о гладкий, современный парапет. Его одежда – та же поношенная куртка, мятые, прожженные в разных мирах джинсы, грязные кроссовки – выглядела грязным пятном на этой идеальной картине. Прохожие смотрели на него – не подозрительно, как в мире, где тот Саша умер, а Настя горевала и не смогла смириться с его смертью, а… с недоумением. С легким осуждением. Как на человека, который явно выбивается из общего порядка. Он почувствовал себя грязным тараканом на чистом больничном полу.
Они идут по Арбату вечером. Народу – море. Настя держит его под руку, смеется над уличным музыкантом, пародирующим известную певицу. Воздух густой от запаха жареных каштанов и сладкой ваты. «Боже, как душно! – кричит она ему в ухо, перекрывая шум толпы. – И везде мусор!» Она показывает на переполненную урну и окурок рядом. «Люди – свиньи, Саш!» Он обнимает ее за плечи: «Не все, солнышко. Вот мы с тобой – культурные». Она фыркает: «Культурные, но в этой толкучке нас скоро растопчут!» Они пробираются сквозь толпу, смеясь и ругаясь.
Здесь не было толкучки. Не было мусора. Был порядок. Чистый, почти пугающий. Саша встал, пошатываясь. Посмотрел на здания. И замер. На стене большого здания висел огромный плакат. Не агитка, не реклама. Это был… памятный плакат. Строгий, черно-белый. Фотография человека. Василия Петровича Крюкова. Того самого депутата. Но не ухмыляющегося, не самодовольного. На фото он был в полосатой робе, за решеткой. Лицо осунувшееся, глаза потухшие, полные безысходности. Крупная надпись: «Безнаказанность – Преступление. Памяти жертв!». Подпись поменьше: «Приговорен к пожизненному лишению свободы за ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения и злоупотребление служебным положением. Помним каждого».
Саша почувствовал, как подкашиваются ноги. Он схватился за парапет. Сердце колотилось теперь не от страха, а от чего-то невероятного. Его осудили? Пожизненно? В его мире, в другом мире этот человек был всемогущим. Здесь… его сломали. Система сработала. Справедливость восторжествовала. Воздух, которым Саша дышал, внезапно показался ему не просто чистым, а священным. Он сделал шаг, потом другой, двигаясь как во сне по этой идеальной улице. Замечал детали: на остановках автобусов – электронные табло с точным временем; мусорные баки – для разного мусора, ни один не переполнен; полицейские (их было мало) не хмурились, а просто наблюдали; на одном из зданий висела скромная табличка: «В память о сотрудниках скорой помощи, погибших при исполнении служебного долга. Их мужество – пример». В списке имен… он пробежал глазами, но не нашел того, чего боялся увидеть. Насти там не было.
Надежда, та самая упрямая травинка, которую он считал вытоптанной в мире «Искушения» и затоптанной в грязь в мире «Зеркального Зла», вдруг пробилась сквозь отчаяние и стыд. Острая, болезненная, ослепительная. Если Крюкова осудили… если система сработала… значит, авария, возможно, не была смертельной? Значит, Настя…
Он почти побежал, спотыкаясь, не замечая осуждающих взглядов. Ему нужно было найти ее. Сейчас. Узнать. Увидеть. Инстинктивно он повернул в сторону их старого района, к хрущевке, в которой они жили. Но разум подсказывал: в мире, где все так идеально, где правосудие свершилось, их старая развалюха вряд ли уцелела. И он был прав.
На месте их пятиэтажки стоял новый, аккуратный жилой комплекс. Не высотка, не помпезные башни, а что-то уютное, европейское, с зелеными двориками, детскими площадками и даже небольшим фонтаном. Саша остановился у входа, чувствуя себя призраком из прошлого, заглянувшим в слишком светлое будущее. Сердце бешено колотилось. Где искать? Больница? Но какая? Может, она все еще работает на «скорой»? Мысль казалась безумной. После такой травмы… если она выжила…
Они дома. Настя только вернулась с тяжелой смены. Лицо серое от усталости. «Два вызова подряд, Саш, – говорит она, снимая куртку, руки дрожат. – Первый – бабушка, инсульт, еле довезли… Второй – парень, мотоциклист…» Она замолкает, глотает ком в горле. «Он не выжил, да?» – тихо спрашивает он, подходя, беря ее холодные руки в свои. Она кивает, не глядя. «Двадцать два года… Мать приехала… Ее крик…» Она закрывает глаза, прислоняется лбом к его груди. «Иногда кажется, что мы просто возим трупы…» Он крепко обнимает ее, гладит по спине. «Нет. Ты даешь шанс. Каждый раз. Благодаря тебе». «Благодаря нам, – поправляет она слабой улыбкой. – Экипажу». Запах больничного антисептика, ее усталости и ужина, который они приготовили, чтобы она поела после смены.
Могла ли она, пережив аварию, вернуться работать фельдшером? В мир, где пьяные депутаты сбивали «скорые»? Но здесь депутатов настигло правосудие. Возможно… возможно, она смогла?
Он бродил вокруг комплекса, не решаясь войти. Его вид – грязный, дикий, с безумными глазами – точно привлечет охрану. Он заметил уютное кафе на первом этаже одного из домов – большие окна, столики внутри и снаружи. Подошел ближе, стараясь спрятаться в тени декоративных кустов. И замер.
За столиком у окна сидела Настя.
Она пила кофе, что-то читая на планшете. Выглядела… потрясающе. Здоровой. Сильной. Спокойной. Ни следа той сломленности, что была в мире, где погиб Саша, ни фанатичного огня мира, в котором Настя начала революцию. Волосы, светлые и густые, были аккуратно уложены. Лицо – немного повзрослевшее, с едва заметными морщинками у глаз, но без следов глубокого горя или изматывающей борьбы. Она была одета элегантно, но удобно – темные брюки, блузка, легкий пиджак. На запястье – не часы, а тонкий фитнес-браслет. Рядом на стуле лежала кожаная сумка.
Саша вжался в кусты. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Она была жива. Здорова. Не сломлена. И сидела здесь, в этом идеальном мире, где убийца ее мужа (его двойника? Как он умер здесь?) получил по заслугам. Слезы брызнули из глаз, горячие, соленые. Облегчение? Да. Огромное. Он наблюдал, затаив дыхание. Она отложила планшет, допила кофе, посмотрела на часы (наручные, тонкие, женственные). Потом подняла взгляд… и улыбнулась. Тепло, широко, своей настоящей улыбкой, которую Саша не видел три года. Улыбнулась человеку, подходившему к столику.
Саша почувствовал, как мир вокруг него рушится. Снова.
К столику подошел Он. Александр. Его двойник. Но не изможденный дизайнер, не самодовольный художник, не уверенный хозяин поместья. Этот Саша выглядел… нормальным. Здоровым. Уверенным в себе, но без напускного величия. Он был одет в хорошие джинсы, рубашку с открытым воротом, легкую куртку. Его лицо было спокойным, умиротворенным. Ни следов бессонных ночей за компьютером, ни глубоких морщин от горя, ни тени вечной тревоги, которая жила в его собственном взгляде. Он выглядел… счастливым. Устроенным. Целым.
Они сидят на кухне в их хрущевке. Рассвет. Саша допивает третью чашку кофе, тупо уставившись в экран ноутбука. Сроки горят. Глаза слипаются. Настя, уже одетая для смены, ставит перед ним тарелку с бутербродами. «Ешь, – говорит она мягко, но настойчиво. – И ляг хоть на час. Ты же упадешь». Он мычит что-то невнятное, стирая ладонью лицо. «Саш, посмотри на себя, – голос ее тревожный. – Ты убиваешься. Эта работа…» «Деньги нужны, Насть, – прерывает он хрипло. – На Машу. На твой декрет». Он пытается улыбнуться, но получается гримаса усталости. Она садится напротив, берет его руку. «Деньги – не главное. Главное – ты. Твое здоровье. Наше будущее». В ее глазах – страх за него.
Тот Саша у столика не знал такой усталости. Не знал такого страха. Он подошел к Насте, наклонился, поцеловал ее в щеку. Легко, естественно. Она ответила ему улыбкой, сказала что-то. Он рассмеялся – его настоящим, глубинным смехом, который Саша почти забыл. Смехом человека, который не носит в себе черной дыры утраты. Который не сжег себя на работе, пытаясь убежать от горя. Который… жил.
Саша сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль была ничто по сравнению с той агонией, что разрывала его изнутри. Это был не тот мир, где она была с другим мужчиной. Не мир, где она была с другим Сашей. Это был его мир. Тот самый. Но… исправленный. Где Крюкова осудили. Где система сработала. Где он выжил. Или… где авария вообще не произошла? Но памятная табличка… плакат с Крюковым… Нет. Что-то случилось. Но они живы. Оба. И были вместе. Счастливы. В этом идеальном, справедливом мире.
Его двойник сел за столик, заказал что-то официантке. Они разговаривали. Настя что-то оживленно рассказывала, жестикулируя. Он слушал, улыбаясь, кивая. Их руки лежали рядом на столе, пальцы едва касались. Саша видел ту самую искру, то самое глубокое понимание, которое было когда-то между ним и его Настей. Оно было здесь. Живое. Настоящее. Принадлежащее другим.
Боль ударила под дых, острая, как нож. Он прислонился к холодной стене дома, чувствуя, как слезы текут по лицу, смешиваясь с грязью. Зависть? Да, дикая, всепоглощающая. К этому Саше, который жил его жизнью. Который имел все, что он потерял. Который не знал горечи трех лет без нее, безумных прыжков через миры, стыда за свои темные мысли. Этот Саша не лежал в грязи под дубинками полиции как в другом мире. Не прятался в кустах, наблюдая за ее счастьем с другим мужчиной. Не поднимал камень, чтобы убить своего двойника. Не стоял, дрожа от стыда и ярости, перед дверью Насти-тени в мире, где погиб Саша. Этот Саша просто… жил. С ней. В справедливом мире.
Они в маленьком магазинчике детских вещей. Настя на шестом месяце, животик уже заметный. Она держит в руках крошечный комбинезончик с уточками. «Смотри, Саш! Он же идеальный!» Ее глаза сияют. «Думаешь, ей не будет жарко?» – сомневается он, трогая ткань. «Ты что! – смеется она. – Они же маленькие, мерзнут быстро!» Она берет другую вещичку – крошечные носочки. «А эти? С мишками!» Он улыбается ее восторгу. «Бери все, что найдешь. Лишь бы Маше было тепло и уютно». Она прижимает комбинезон к животу, мечтательно: «Представляешь, она вот в этом будет дома ползать…» Он обнимает ее, целует в висок.
Сейчас эта Маша, наверное, бегала где-то на идеальной детской площадке этого комплекса. Или сидела рядом с ними в кафе, уплетая мороженое. Саша огляделся, ища взглядом ребенка, который мог бы быть их дочкой. Но не увидел. Может, она была в саду? У бабушки? Или… мысль ударила, как обухом: а что, если в этой реальности авария все же случилась, но позже? И ребенка… не было? Но они выглядели счастливыми. Целыми. Как будто ничего не случилось. Как будто кошмар его жизни был всего лишь дурным сном.
Он не мог больше стоять в кустах. Ему нужно было увидеть. Убедиться. Услышать ее голос. Хотя бы краем уха. Он вышел из тени, стараясь выпрямиться, смахнуть грязь с лица. Прошел мимо столика, за которым они сидели, стараясь не смотреть прямо, но всем существом ощущая их присутствие. Уловил обрывок фразы Насти: «…вечером заедем к маме, она пирог испекла…». Голос. Её голос. Немного ниже, может быть? Или это ему показалось. Но тембр… тот самый. Музыка, от которой у него перехватило дыхание.
Он вошел в кафе. Запах свежесваренного кофе, выпечки, дорогого дерева. Чистота. Порядок. Он чувствовал себя чужим, как будто влез в чужой храм. Подошел к стойке, заказал самый дешевый эспрессо. Платил смятыми купюрами из своего мира – они выглядели подозрительно старыми, но бариста, молодой парень, лишь вежливо поднял бровь и принял их. Саша взял крошечную чашку, отошел к высокому столику у стены, откуда мог видеть их столик у окна, не будучи слишком заметным.
Они завтракали. Настя ела йогурт, он – омлет. Разговаривали тихо, смеялись. Обменивались какими-то бумагами – возможно, он показывал ей проект, а она давала комментарии. Она что-то нарисовала пальцем на столе, объясняя. Он кивал, улыбался. Саша видел, как их ноги касались под столом. Видел, как он поправил ей прядь волос, зацепившуюся за сережку. Видел ее ответную улыбку. Видел, как их пальцы сплелись на секунду. Это была не страсть первых лет. Это была глубокая, тихая, бытовая близость. Та самая, которой ему не хватало больше всего. Та самая, которую он потерял.
Воскресное утро. Они валяются в постели. Булочка устроилась между ними, громко похрапывая. Матроскин и Помидорка спят друг на друге у их ног. Настя читает книгу, он листает ленту на телефоне. Льет дождь за окном. «Саш?» – шепчет она, не отрываясь от книги. «М-м?» – бормочет он. «А давай сегодня никуда не поедем? Ни к моим, ни к твоим. Ни в магазин. Просто… побудем здесь. Втроем». Он откладывает телефон, смотрит на нее. Видит усталость в уголках ее глаз. «Договорились. Валяемся. Смотрим кино. Едим пиццу». «Идеально, – она улыбается, закрывая книгу, прижимается к нему. – Главное – вместе». Запах теплой постели, шерсти домашних животных и абсолютного покоя.
«Вместе». Это слово резануло Сашу, как бритва. Они были вместе. Здесь. В этом мире справедливости и порядка. А он… он был призраком. Наблюдателем. Чужим на празднике чужого счастья, которое по праву могло бы быть его.
Он допил эспрессо, горький, как полынь. Его рука потянулась к часам. Кнопка «Домой». Бежать. Бежать от этой пытки. Вернуться в свою пустую хрущевку, в свою тоску, в свой мир, где справедливости не было и, видимо, никогда не будет. Где Настя лежала в могиле, а Крюков… где был Крюков в его мире сейчас? Наверное, пил коньяк в своем кабинете, подписывая бумаги, гарантирующие ему очередной срок неприкосновенности. Мысль вызвала волну такой яростной, бессильной ненависти, что его затрясло.
Но он не нажал кнопку. Не мог. Жажда увидеть ее еще, услышать, узнать, что с ней, пересиливала боль. Они собирались уходить. Настя надела пиджак, он расплатился. Они вышли из кафе. Саша бросился следом, держась на почтительном расстоянии, сливаясь с редкими прохожими.
Они шли неспешно, разговаривая. Минули пару кварталов, свернули в тихий переулок. Остановились у подъезда еще одного аккуратного, но не помпезного жилого дома. Он достал ключ-карту, приложил к считывателю. Дверь открылась. Они вошли.
Саша замер у входа. Его не пустит охрана или консьерж. Он остался снаружи, глядя на закрытую дверь. Их дверь. В их доме. В мире, где все было правильно. Где зло было наказано. Где они были живы и вместе.
Боль была невыносимой. Он опустился на ближайшую лавочку, спрятав лицо в ладонях. Рыдания душили его, беззвучные, сухие. Это было не облегчение, это было крушение. Крушение последней надежды. Потому что этот мир был альтернативой. Доказательством, что все могло быть иначе. Что могла быть справедливость. Что они могли выжить. Быть счастливыми. Вот они, рядом. Живые, здоровые, любящие. Все, о чем он мечтал все эти годы. Все, ради чего прыгал через миры. Но это счастье принадлежало другим. Версиям их самих, которые прошли через иную точку выбора. Которые не стали жертвами его реальности.
Он сидел на лавочке, не зная, сколько времени прошло. Мимо проходили люди – ухоженные, спокойные, спешащие по своим делам в этом справедливом мире. Никто не обращал на него особого внимания – просто еще один опустившийся тип, которых, видимо, и здесь хватало, хоть и меньше. Солнце клонилось к закату, окрашивая идеальные фасады в золотистые тона.
Дверь подъезда открылась. Вышла Настя. Одна. Она была в легком пальто, с сумкой через плечо. Посмотрела на часы, пошла быстрым шагом в сторону, противоположную кафе. Саша вскочил, пошел следом. Инстинкт гнал его вперед. Увидеть. Услышать. Хотя бы еще раз.
Она шла уверенно, знала куда. Свернула за угол, вошла в небольшой сквер с фонтаном и скамейками. Села на одну из них, достала из сумки книгу. Но не стала читать. Просто сидела, глядя на струи воды; лицо в мягком свете заката было спокойным, задумчивым. Саша нашел укрытие за толстым стволом старого дуба, метрах в десяти от нее. Он мог видеть ее профиль. Каждую знакомую черточку. Дышать одним воздухом.
Искушение было мучительным. Выйти. Подойти. Сказать: «Настя! Это я! Саша! Твой Саша! Из другого мира!» Что он увидел бы в ее глазах? Ужас? Недоверие? Сочувствие? Смех? Любой вариант был пыткой. Он не имел права нарушать ее покой. Ее счастье. Даже если это счастье было для него ножом в сердце.
Он достал из внутреннего кармана куртки потрепанный блокнот и карандаш. Тот самый, куда он зарисовывал дом из мира, где Настя была с другим мужчиной. Открыл на чистой странице и начал рисовать. Не дом. Ее. Сидящую на скамейке в лучах заката. Ее профиль. Линию шеи. Пучок волос. Сосредоточенное выражение лица. Он рисовал жадно, стараясь запечатлеть каждую деталь, каждый оттенок света на ее коже. Превратить боль в линии. В память. В последний подарок самому себе от этого жестокого мира справедливости.
Они в парке. Осень. Золотые листья. Настя сидит на скамейке, рисует в своем скетчбуке (она всегда мечтала научиться, но не хватало времени). Он стоит рядом, держит поводок Булочки, которая нюхает листву. «Покажи!» – просит он. Она стеснительно отворачивает блокнот: «Нееет, я только учусь!» «Покажи!» – настаивает он, подходя ближе. Она вздыхает, показывает – набросок дерева, скамейки, силуэта человека (его) с собакой. «Саш, это же ужасно!» – морщится она. Он берет блокнот, рассматривает. «Солнышко, это прекрасно. Потому что это наш день. Наша осень. Наше дерево». Он целует ее в макушку. Она улыбается, забирает блокнот: «Ладно, льстец». Запах прелых листьев, ее духов и обещания будущего, где у нее будет время на рисование.
Теперь она рисовала свою жизнь. Без него. И она была прекрасна. Как этот набросок.
Внезапно она подняла голову. Не в его сторону. К тропинке. Саша последовал ее взгляду. По аллее шел он. Другой Саша. Он нес две бумажные кружки, из которых шел пар. Подошел к скамейке, протянул одну Насте. «Капучино, как ты любишь, с двойной пенкой». Она улыбнулась, приняла кружку. «Спасибо, дорогой». Он сел рядом, обнял ее за плечи. Они сидели молча, попивая кофе, глядя на фонтан. На закат. На их мир.
Саша замер за деревом, чувствуя, как последние остатки сил покидают его. Он видел их. Вместе. Целых. Счастливых. В мире, где правосудие свершилось. Это был самый жестокий удар из всех возможных. Потому что это была альтернатива. Реальная, осязаемая. И она была недоступна.
Он судорожно сунул блокнот в карман. Его пальцы нащупали часы. Кнопка со спиралью. Не «Домой». Он не мог вернуться сейчас. Не мог смотреть на пустоту своей квартиры, зная, что где-то они сидят вместе и пьют кофе. Ему нужен был хаос. Боль. Опасность. Что-то, что заглушило бы этот рев бессилия и зависти в душе. Что-то, что соответствовало бы его внутреннему состоянию – разрушенному, яростному, потерянному.
Он нажал кнопку, не глядя, отчаянно желая одного – исчезнуть из этого проклятого мира справедливости, где его счастье принадлежало другому.
Переход был неожиданно резким. Мир не растворился плавно.
Он взорвался. Звук их тихого разговора, плеск фонтана, шелест листьев – все смешалось в оглушительный гул, обрушившийся на его голову. Идеальные здания поплыли, закружились, разлетаясь на осколки света и цвета. Боль ударила с новой силой – не сжимающая, а рвущая на части. Он увидел, как Настя на скамейке резко обернулась в его сторону, ее глаза широко распахнулись – не от узнавания, а от шока, от ужаса перед чем-то невероятным, разрывающим ее реальность. Увидел, как он, другой Саша, вскочил, заслоняя ее собой, его лицо искажено непониманием и инстинктивной защитой.
Потом все исчезло. Его вырвало в черную пустоту перехода, унося с собой последний образ – ее испуганное лицо и его защитный жест. И запах капучино с двойной пенкой. Символ чужого, идеального, недоступного счастья.
Он рухнул во что-то мягкое, влажное и невероятно вонючее. Гниющая трава. Тина. Запах болота, смешанный с запахом крови и чего-то кислого, металлического. Воздух был теплым, влажным, тяжелым. В ушах еще стоял гул взрыва реальности, но постепенно его сменили другие звуки. Писк насекомых. Бульканье воды. И… рычание. Низкое, глубокое, хищное. Совсем близко.
Саша поднял голову, отплевываясь от грязи. Он лежал на краю зловонного болота. Кругом – гигантские, причудливые растения с мясистыми листьями и острыми шипами. Странные, похожие на папоротники деревья с черными стволами. Небо было затянуто густой, ядовито-зеленой дымкой, сквозь которую тускло светило багровое солнце. Тишина была обманчивой, полной скрытой угрозы.
Рычание повторилось. Ближе. Саша медленно, со стоном повернул голову. Из-за гигантского, покрытого слизью корня, метрах в пяти, на него смотрели два горящих желтых глаза. Крупные, с вертикальными зрачками. Принадлежащие существу, похожему на помесь крокодила и скорпиона, покрытого бугристой броней. Оно открыло пасть, полную игловидных зубов, и издало шипяще-рычащий звук. Слюна, густая и тягучая, капала на гниющую листву.
Мир Справедливости с его чистотой, кофе и счастливой Настей казался сном. Кошмарным или райским – он уже не мог понять. Здесь была только грязь, вонь, боль и хищник, видящий в нем легкую добычу. Саша судорожно нащупал часы на запястье. Кнопка «Домой»? Или прыжок? В другой ад?
Существо сделало шаг вперед. Его когтистые лапы вязли в трясине, но двигалось оно уверенно. Голодно. Саша вскочил, едва удерживаясь на ногах. Его рука с часами дрожала. Он видел кнопки сквозь пелену грязи и отчаяния.
Они на диване. Помидорка спит у их ног. По телевизору идут дурацкие «Охотники за привидениями». Настя смеется: «Смотри, Саш, они такие неуклюжие! Как мы с тобой, когда пытались собрать тот шкаф из Икеи!» Он целует ее в висок: «Зато мы справились. Команда». Она прижимается к нему: «Всегда команда». Простота. Тепло. Уверенность в завтрашнем дне.
Команды не было. Был он. Один. В болоте. Перед пастью чудовища. И часы, которые принесли ему только боль и показали самое жестокое из возможных видений – счастье, которое могло быть его, но навсегда принадлежало другому.
Существо бросилось. Саша нажал первую попавшуюся кнопку. Спираль.
Глава 9. Беглянка в тени власти.
Боль от прыжка была ужасна. Не огнём и не льдом. Не сдавливающей и не растягивающей. Она была… как гниение. Чувство, будто каждую клетку его тела медленно разлагают изнутри с мерзким чавканьем. Время в переходе стало густым, как патока, и пахло тленом и безнадёжностью. Сашу не падал и не приземлялся – его выплюнуло, как что-то несъедобное, во что-то мягкое, мокрое и вонючее. Он упал лицом вниз, вдохнув полной грудью сладковато-тошнотворный смрад гниющих растений, смешанный с химической горечью и пылью.
Он лежал, прижав щеку к холодной, липкой массе, не в силах пошевелиться. Легкие горели, отказываясь дышать этим ядом. В ушах стоял навязчивый гул – не звон перехода, а низкое, непрерывное жужжание мух. Тысяч мух. Постепенно гул стих, уступая место другим звукам: далёкому металлическому скрежету, приглушённым крикам, сирене, прорывающейся сквозь городской шум где-то вдалеке, и… тиканью. Тихому, ровному, неумолимому. Рядом.
Они на кухне в их хрущевке. Вечер. Настя моет посуду, напевая что-то под нос. Саша сидит за столом, рисует эскиз логотипа для компьютерного клуба. Булочка дремлет у его ног, рыжий мейн-кун Помидорка грациозно обходит лужу воды возле раковины. Второй кот, черно-белый Матроскин (подобранный год назад у мусорных баков и теперь упитанный, как плюшевая игрушка), мурлычет у Насти на плече, пока она возится с губкой. «Саш, не забудь купить завтра кошачьего корма, «Премиум» тот, что Матроскину нравится, – говорит она, не оборачиваясь. – И молока. И хлеба». Он отрывается от планшета, улыбается ее спине, ее небрежному хвостику, Матроскину, млеющему на ней. «Хлеба, молока, корма «Премиум». Записал, командир». Она фыркает, брызгает на него водой: «Сам командир!» Запах моющего средства «Лесная свежесть», теплого хлеба, оставшегося с ужина, и домашнего уюта, такого хрупкого.
Запах здесь был полной противоположностью. Смертью. Тошнотой. Запустением. Саша заставил себя открыть глаза. Он лежал в куче мусора. Не в мусорном баке – на стихийной свалке, разросшейся в тёмном, заброшенном дворе между глухими стенами каких-то заводских построек. Клочья целлофана, битое стекло, пустые банки, гниющие объедки, использованные шприцы – всё покрыто слоем липкой серой слизи и кишит личинками. Мухи густым облаком вились над ним и над свалкой.
Кнопка «Домой» светилась тусклым, но ровным светом. Как хотелось домой! Но серость жизни без его Насти заставила Сашу остаться в этом угрюмом, неприветливом мире. Нужно сначала понять, где он. Куда его занесло на этот раз.
С трудом оторвавшись от липкой массы, Саша поднялся на колени. Одежда – та же поношенная куртка, джинсы, испачканные в мирах пепла и справедливости – была пропитана вонью. Он выглядел и чувствовал себя последним отбросом. Огляделся. Двор был зажат высокими, мрачными зданиями с выбитыми окнами. Надписи на стенах – не яркие граффити, а угрюмые слова: «И.Ц.», «Долой!», «Помним», замазанные чёрной краской, но видные. Воздух дрожал от тяжёлой, давящей атмосферы страха. Не как в мире зеркального зла – там страх был перед системой. Здесь страх был всеобщим, липким, как грязь под ногтями. Страх перед невидимым, но вездесущим злом.
Он выбрался со свалки на узкую, грязную улочку. Фонари горели тускло и редко, создавая больше теней, чем света. Люди шли быстро, ссутулившись, лица прятали в воротники или капюшоны. Никто не смотрел по сторонам, никто не разговаривал. На стенах – плакаты. Но не агитки и не памятники справедливости. Здесь плакаты были с одним лицом. Василия Петровича Крюкова. Но не ухмыляющегося депутата и не осуждённого преступника. Здесь он был изображён как икона. «Наш Лидер», «Гарант Стабильности», «Отец Нации». На одном особенно большом плакате, висящем криво на ржавой решётке, было написано: «Порядок через Силу. Сила через Единство. Единство через Лидера». Лицо Крюкова смотрело на Сашу холодными, всевидящими глазами. И в этих глазах не было ни капли человечности. Только власть. Полная и безнаказанная.
Они смотрят телевизор. Репортаж о назначении Крюкова на какой-то важный пост. Настя морщится, отодвигает тарелку с пельменями. «Опять этот тип. Смотри, какая ухмылочка. Как у кота, который съел не только сметану, но и всю посуду». Саша смеется: «Точно подмечено. Уверен, за ним шлейф из таких дел, что волосы дыбом встанут». «И все равно пролез, – вздыхает Настя. – Система, Саш. Она для них. Они – для нее. А мы… мы просто фон». Она берет его руку, сжимает. «Главное, чтобы нас с тобой это не зацепило. Чтобы наша Маша жила в нормальном мире». Он целует ее в лоб: «Будет жить, солнышко. Мы ее в этой системе не потеряем».
Сейчас «нормального мира» не существовало. Система здесь была не просто коррумпированной – она была Крюковым. Его воля – закон. Его интересы – государственный интерес. Его безнаказанность – священна. Саша почувствовал ледяную дрожь, не связанную с холодом. Здесь он был не просто чужим. Он был мишенью. Вся его грязная, измученная внешность кричала о его уязвимости.
Он двинулся наугад, стараясь слиться с тенями. Город был серым, угрюмым, пропитанным страхом и нищетой. Роскошных кварталов не было видно – только унылые, обшарпанные дома, заборы с колючей проволокой, бесконечные камеры наблюдения на каждом углу. Их красные огоньки мигали, как глаза хищных насекомых. Надпись «Е&П Секьюрити» встречалась на каждом шагу – на щитах охранников у подъездов, на бортах патрульных электромобилей, на форме полицейских, чьи лица были скрыты шлемами, а движения – точны, как у машин. Полиция здесь была не продажной силой, а отлаженным карательным механизмом. Часть Системы. Часть Крюкова.
Саша видел, как двое таких «механизмов» грубо прижали к стене парня в потрёпанной куртке. Без слов, без вопросов – быстрые, чёткие движения, наручники, заталкивание в чёрный фургон без опознавательных знаков. Прохожие моментально отводили глаза и ускоряли шаг. Никто не возмутился. Никто даже не замедлился. Страх не просто витал в воздухе – им разило за много километров.
Ему нужно было понять, что здесь случилось с Настей. Инстинкт подсказывал: она не в роскоши и не в могиле. Она в тени. В бегах. Искать её в их старой хрущёвке было безумием. Искать в больницах – самоубийством.
Он свернул в ещё более тёмный и узкий переулок. На стене, едва видимая в полумраке, была нацарапана стрелка и надпись: «Безопасность? Спроси у К.Ц.» – и сразу же замазана чёрной краской. И.Ц.? Что-то знакомое… И вдруг он вспомнил. У Насти была коллега по «скорой», Ирина. Её все звали «Цыпа». Она была маленькой, юркой, с острым языком и ещё более острым умом. Настя говорила, что Цыпа – «ходячий компромат» на всех начальников и чиновников в городе. «Она знает, где кто кости зарыл, – смеялась Настя. – И если что, она знает, где спрятаться». Возможно, «К.Ц.» – это «Цыпа»? Надежда слабая, но другой не было.
Саша стал искать глазами другие метки. Нашёл ещё одну стрелку, нарисованную мелом на асфальте возле заколоченного подъезда – почти стёртую. Потом – крестик на водостоке. Он шёл по этим меткам, как по нитке в лабиринте страха. Они привели его к неприметной двери в глубине тёмного двора. Дверь была старая, металлическая, вся в ржавых подтёках. Ни звонка, ни глазка. Только маленькая, почти невидимая царапина в форме ящерицы у самой земли. Знак Цыпы? Саша постучал. Сначала тихо, потом чуть громче.
За дверью – полная тишина. Потом – скрип шагов. Щелчок мощного замка. Дверь приоткрылась на сантиметр, придержанная цепью. В щели блеснул глаз – не испуганный, а оценивающий, острый, как бритва.
«Чего?» – голос был низким, хрипловатым от сигарет.
«Я… я ищу Цыпу. Ирину», – прошептал Саша, стараясь не дышать на дверь своим запахом помойки.
Глаз сузился. «Нет тут Цыпы. Проваливай».
«Скажите ей… скажите, что я от Насти. От Насти Соколовой», – выдавил Саша. Это был его последний шанс.
Пауза затянулась. Глаз изучал его с головы до ног, задерживаясь на лице. Потом цепь с грохотом упала. «Быстро. Внутрь».
Саша проскочил в узкий, тёмный коридор. За ним дверь захлопнулась, щёлкнули три замка. Его толкнули вперёд, в небольшую комнату, заставленную стеллажами с электроникой, проводами, старыми мониторами. Воздух пах паяльником, пылью и дешёвым кофе. В кресле перед одним из мониторов сидела женщина. Маленькая, худенькая, в мешковатом свитере и потёртых джинсах. Волосы коротко стрижены и выкрашены в ядовито-рыжий цвет. Это была Цыпа. Но не та болтливая, ехидная девчонка, которую он помнил по рассказам Насти. Эта Цыпа выглядела на десять лет старше. Лицо осунулось, глаза глубоко запали, но горели тем же острым, неубитым умом. И бесконечной усталостью.
«От Насти?» – спросила она, не оборачиваясь. Голос был ровным, но в нём чувствовалась стальная сила. «Настя Соколова три года назад сгорела в своей «скорой» вместе с водителем и пациентом. Разбил Крюков. Пьяный. Как всегда. Так что ты либо призрак, либо провокатор. Что выбираешь?»
Саша почувствовал, как подкашиваются ноги. Опять. Всегда одно и то же. «Она… она умерла? И здесь?».
Цыпа наконец повернулась к нему. Её взгляд был острым. «Физически? Нет. Но та Настя, которую ты мог знать, мертва. Её стёрли. Как стирают данные с диска. Осталось… что-то другое». Она жестом остановила его вопрос. «Почему ты здесь? Кто ты? И пахнешь ты, будто тебя вытащили из самой грязной дыры этого города».
Саша глубоко вдохнул. Говорить правду? Здесь? Цыпе? «Меня зовут Саша. Саша Александров. Я… я знал Настю. В другом месте. В другом времени. Я ищу её. По всем мирам». Он видел, как в глазах Цыпы мелькнуло недоверие, смешанное с больным интересом. «Ты сошёл с ума? Или это новый вид провокации от «Единорогов»?» («Единорогами» здесь, видимо, называли людей Крюкова).
«Нет. Я не отсюда. И я могу доказать это». Он поднял руку, показал часы. «Эти часы… они переносят меня. В другие миры. Я прыгаю, ищу мир, где она жива и…» Он запнулся. «…и где я могу быть с ней».
Цыпа долго смотрела на часы, потом на его лицо. Её взгляд был беспощаден. «Ты выглядишь как последний отброс, Александров. И пахнешь соответственно. Но… сумасшедшие так не пахнут отчаянием. И глаза… в них слишком много дерьмовых миров, чтобы быть подделкой». Она резко встала. «Ладно. Допустим, я тебе верю на пять процентов. Но если ты шпион «Единорогов», если ты привёл их сюда…» Она не договорила, но жест к тяжёлому гаечному ключу на столе говорил сам за себя. «Покажи мне, что ты не пустое место. Почему ты ищешь здесь?»
«Потому что в мире, где Крюков всемогущ… если она выжила, то не на виду. Она прячется. Как и ты».
Цыпа хмыкнула. «Логично. Тупой, но логичный. Значит, слушай, «прыгун». Настя здесь жива. Чудом. Её выбросило из машины до взрыва. Но…» Она сделала паузу, её лицо исказила гримаса боли и злости. «Она выжила, чтобы попасть в ад. Крюков не просто убийца. Он садист. Он сделал её жизнь невыносимой. Сначала были «несчастные случаи» – сломана рука, поджог её квартиры. Потом – давление через больницу. Её уволили по надуманной причине. Потом началась травля в газетах – её обвиняли в халатности, в том, что она сама виновата в аварии, что она наркоманка. Её родители…» Цыпа сглотнула ком. «…они не выдержали давления. Мать умерла от инфаркта. Отец спился. А потом… потом её объявили в розыск. За «распространение клеветы на высшее должностное лицо». Это был приговор».