Спитак. Студенты
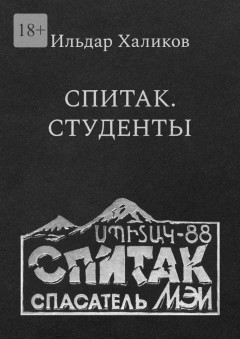
Корректор Елена Тепляшина
© Ильдар Халиков, 2025
ISBN 978-5-0067-5753-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Каждый раз, когда на экране телевизора мелькают кадры разрушенных стен, кучи мусора, совсем недавно бывшие чьим—то имуществом, вещами, которые кто-то несколько часов назад надевал, гладил, брал в руки, играл, я думаю о том, что еще недавно эти предметы хранили тепло людских тел и рук. И вот теперь они разбросаны возле стен разрушенных домов, на них наступают чьи-то равнодушные ноги, их яркие когда-то цвета превратились в однообразную, покрытую серой пылью массу.
И неважно, что явилось причиной этого кошмара: землетрясение, взрыв бытового газа или происки террористов – это всегда трагедия, сломанные судьбы и чей-то незаметный труд, попытка хоть как—то, хоть чем—то изменить страшный исход судьбы.
Я преклоняюсь перед работой спасателей МЧС, тех, кто всегда первыми приходят на помощь, чей номер телефона знает даже трёхлетний карапуз и глубокие старухи. Но никакой процесс, даже спасение людей в трудных ситуациях, не происходит сам по себе. У него есть свой путь, своё начало, продолжение и конец. И я горжусь тем, что мне посчастливилось быть в самом начале этого пути, в его отправной точке – в Армении, страшном декабре 1988 года.
Прошло уже больше 30 лет с того момента, когда страшный удар стихии стёр с лица земли несколько армянских городов. Спитак был разрушен полностью. Иные в этот момент мирно спали. Кому-то уже не суждено было проснуться…
Мне сейчас часто приходит в голову вопрос: «Что же заставило молодых ребят, студентов, большинству из которых на тот момент было 22—23 года, принять чужую боль как свою собственную и как в омут броситься на помощь чужому, в общем—то, народу, в чужой для них стране?».
Ответов может быть много, но одно я знаю точно. Это не корысть и не желание заработать на этом какие- то дивиденды. Хотя потом, уже после возвращения из Спитака, за нашими спинами звучали тихие шепотки: «Как сумели выгодно съездить! И слава, и почёт!». Какая слава?! Когда едешь в пустоту, не имея представления о том, где будешь жить, чем будешь питаться, что тебя ожидает, без всяческих гарантий продолжения учебы в институте, хотя обучению в нём уже отдано несколько лет. Когда тобой движет единственное желание помочь другим людям, разделить их беду независимо от национальности, языка и обычаев.
Это было время заката социалистической эпохи. Множество тогдашних терминов уже начинали утрачивать свою комсомольско-пионерскую привлекательность. И если бы тогда нам кто—то сказал об интернационализме, вряд ли это вызвало бы всеобщий восторг. Но уже только сейчас, почти через 30 лет, думая и размышляя о тех событиях, я начал явственно понимать, что это и был интернационализм в чистом виде, без коммунистической пропаганды. Когда впервые в истории современного мира маленькой стране, пережившей страшную трагедию народу, помогал весь мир, кто чем мог, без призывов и лозунгов.
Вспомнить о них, моих друзьях, ребятах, отправившихся в этот путь и проживших вместе со мной несколько недель среди руин жилых домов, трупов людей и человеческого горя и о событиях, происходивших тогда с нами, и есть задача этой книги.
И когда я пишу эти стоки, у меня перед глазами снова они – студенты Московского энергетического института, бросившие дом, учёбу и привычное студенческое житьё ради призрачного призыва «помочь людям». Тех, кого я сейчас смело могу назвать «последними романтиками уходящей советской эпохи…».
1. Всё началось с телевизора…
«Ты помнишь, как всё начиналось…»
А. Макаревич
Если бы в тот момент мне, студенту—дипломнику факультета электрификации промышленности и транспорта Московского энергетического института (МЭИ), которому осталось меньше полугода до заветной защиты диплома о высшем образовании, как говорится в старой студенческой присказке «пять минут позора, и ты инженер», кто-то сказал о том, что завтра мне предстоит оказаться за много километров отсюда, в далёкой Армении, я никогда бы в жизни этому не поверил.
И лестница в общаге, где я жил и по которой спускался тогда, приведёт меня и несколько десятков других ребят в другой мир, страшный, серый, который большинству людей знаком только из теленовостей да из немногочисленных книг.
А лестница спускала меня с этажа на этаж, на площадку, где стоял человек, сыгравший важнейшую роль в моей жизни, – Ваня Севченко. Невысокого роста, коренастый, с живыми горящими глазами, он всегда сыпал весёлыми шутками, остротами и оригинальными идеями. Так, однажды ему достались, уж не знаю от кого, в наследство роликовые коньки тогдашнего советского производства – с кожаными ботинками и металлическими полозьями, на которые крепились резиновые колесики.
Тогда, в 1988 году, они были большим дефицитом, как, впрочем, и много чего еще. Это теперь ими, уже пластиковыми, с множеством наворотов, больше похожими на обувь для катания с горных склонов, никого не удивишь, и мой младший сын с четырех лет гоняет на них по двору в окружении друзей в такой же новомодной обувке.
Иван, похоже, не снимал их ни днём, ни ночью. Я в одном был уверен: в институте он их снимал, наверное, с громадным сожалением. Но зато всё оставшееся время он проводил, катаясь по длинным коридорам факультетской общаги, и снимал их, как нам казалось, только когда ложился спать. А может, и не снимал…
Но тогда это выглядело бы весьма забавно. Ваня спит, а из—под одеяла торчат две ноги, обутые в чёрные блестящие ботинки с колёсиками, ещё вращающимися от безумной гонки.
Ване доставляло огромное удовольствие с грохотом мчаться по старому, давно не циклёванному паркету длинного общажного коридора, заставляя местных девчонок, спешащих с горячим ужином в кастрюльках из общей кухни в комнаты, прижиматься к стенам, в ужасе не знающих, за что им крепче держаться: за посуду в руках или за полы халатиков, распахивающихся от производимого Ваней ветра и обнажающих их молодые белые ноги.
Вот и сейчас на нём были роликовые коньки несмотря на то, что давно уже был одиннадцатый час. Стоя на лестничной площадке, он то и дело поскальзывался, и все его тело постоянно дергалось, отчего Ваня, против воли кивавший головой, походил на большую птицу с усами. Чтобы удержать равновесие, он хватался за деревянные, крашенные отвратительной коричневой краской перила.
– Ты про Армению слышал? Про землетрясение? —увидев меня, спускающегося по лестнице вниз, спросил Ванька.
А я, честно говоря, слышал об этом совсем чуть—чуть, краем уха. Телевизора и радио у нас в комнате не было. Газет мы не выписывали, да по большому счёту и не читали. Разве только «Московский комсомолец» и то в основном «Звуковую дорожку» Артура Гаспаряна.
– Ну, слыхал. А чего? —чтобы не ударить в грязь лицом, ответил я.
– Мы туда на помощь рвануть собираемся! Ты как, с нами не желаешь? Хотя ты, конечно, теперь дипломник. Тебя лопатой с кровати не поднимешь! —съехидничал Ванёк. Может, из-за намека на лопату и то, что ею поднимают почему-то с кровати, а может быть, что-то ещё, но я почувствовал себя задетым.
– Почему это!? Может, и поеду! —разозлился я.
– Тогда давай через полчаса в комнату к Сабликову Женьке. Там будут новости по телеку. Соберутся все, кто хочет ехать. Ты поговори со своими, может кто—то ещё из дипломников с нами?! —Ванька сорвался с места, и, со страшной силой громыхая роликами, помчался вниз, снова собирать народ.
За эти полчаса я постарался собрать как можно больше информации о произошедших событиях. Оказалось, что в ночь на 8 декабря сильнейшее землетрясение практически стёрло с лица земли город Спитак, сильно разрушены были Кировакан (теперь он называется Ванадзор), Ленинакан (нынешний Гюмри) и Степанаван. Разрушения в каждом из них были различны, но, как сообщали советские СМИ, именно Спитак был городом, где разрушения носили самый массовый характер. Можно сказать, что город был полностью снесен с лица земли.
Оканчивался 1988 год. Шла горбачёвская перестройка. В советских республиках активизировалось национальное движение за отделение от Советского Союза. Между Азербайджаном и Арменией шло вооружённое противостояние за Нагорный Карабах, где проживало множество этнических армян. Эти схватки порою перерастали в настоящую войну. Ненависть и злоба двух народов друг к другу всё чаще прорывалась наружу. В речах телевизионных комментаторов слышалась большая растерянность и полная неготовность к действиям. Катастрофа, словно огромный плуг, вскрыла всю неспособность государства чётко и быстро реагировать в сложившейся ситуации. И поэтому в самом обществе появились люди, взявшие на себя груз ответственности за жизни и судьбы других людей.
Я в первую очередь решил поговорить о поездке со своим соседом по комнате Вадимом. Его реакция была, в общем-то, для меня абсолютно понятной. Сам он был с Украины и всегда твёрдо стоял на земле, всегда предпочитая толстую синицу в руках худосочному призрачному журавлю.
– Диплом на носу. А у меня ещё конь не валялся. И какие гарантии, что меня потом на диплом выпустят, дадут защититься? —спросил он меня.
– О каких гарантиях ты говоришь? Я тебе что, декан? Или его родственник? Сам ничего не знаю. Для меня сейчас это не главное. Там люди под завалами, а те, кто живы, помощи ждут, которой нет и когда появится – непонятно.
– А ты чего в это лезешь, ты что, правительство или партия? Ты поступай, как хочешь, а я рисковать не буду. Ты ведь даже деканат в известность об этом, как я понял, поставить не успеешь, если завтра с утра ехать собрался?
– Не успею, но желающие об этом рассказать наверняка найдутся, поэтому можно не заморачиваться.
Я развернулся и быстро вышел, понимая, что дальнейший разговор не имеет смысла. В других комнатах реакция была примерно такой же. Кто—то просто спокойно отказался, а кто—то посмеялся, покрутив пальцем у виска. И все хором напоминали мне о возможных последствиях этого «безумного», с их точки зрения, поступка. Похоже, Ваня был прав. Дипломника можно сдвинуть с места только чем—то весьма значительным, даже лопата казалась слишком нежным инструментом для этого дела.
Но вот там, куда я пришёл после переговоров с сокурсниками, эмоции кипели очень бурно. Группа ребят, человек пятнадцать, большинство из которых я знал, но тесно не общался, сидела возле экрана телевизора и смотрела, не отрываясь, последние новости. Информация была туманная и обрывочная. И что самое главное, её было слишком мало для того, чтобы ясно представлять, что же там сейчас на месте катастрофы происходит. Да, были толчки, большие разрушения, много жертв среди населения, так как удар стихии пришёлся на ночное время, когда жители городов мирно спали в своих домах.
После двухминутных новостей в комнате повисла гробовая тишина. Все молчали и глядели друг на друга.
– Я не знаю, как там и что, но сидеть здесь сложа руки не могу, – вдруг раздался чей-то решительный голос. Это заговорил Женька Сабликов. Есть люди, чьи лидерские способности не вызывают сомнений. За ними готовы идти сразу и безоговорочно, потому что их слова и действия вызывают внутри абсолютную уверенность в том, что, не смотря на все трудности, всё будет хорошо. Женька – человек этой категории. Он успел пройти через Афган – служил десантником, охранял Кабул, где занимался разминированием. Сапёры вообще люди уникальные, они обладают удивительным умением концентрироваться в сложные и опасные моменты, когда совершенно непозволительно давать выход своим эмоциям и тревогам. Хотя внешне они совсем не производят впечатления людей холодных и рассудочных, лишённых каких-либо чувств.
Вот и короткая речь, которую произнёс Женька, была произнесена с такой страстью, с такой яркостью и выразительностью, что никто не мог оторвать от него глаз. Он говорил о себе, о том, что чувствует, когда видит эти кадры, и внутри у каждого из нас появлялась и крепла уверенность в том, что мы не просто хотим помочь людям в беде; мы можем им помочь.
– Никому ничего обещать не могу. Я был в деканате, особенного понимания не встретил, единственное, о чём удалось договориться – это что, может быть, дадут академический отпуск и потом позволят восстановиться. Может быть… – ещё раз многозначительно подчеркнул он.
– Но это же только через год, – разочарованно протянул сидевший рядом со мной третьекурсник.
– Да, поэтому и не хочу ничего от вас скрывать. Скорее всего, все уехавшие и, соответственно, не успевшие сдать зачёты для допуска к сессии, будут отчислены. Прямо так сказано не было, но намёк прозвучал. – Лицо Женьки стало твёрдым, скулы резко обозначились на лице. – Но для меня это сейчас не главное. Главное – максимально быстро туда добраться и приступить к работе.
– А что мы там можем сделать? – задал вопрос кто-то из сидящих на подоконнике. В небольшой комнате все собравшиеся с трудом помещались, и поэтому каждый устроился, где мог.
– Странный вопрос. Думаете, дел мало будет? Завалы разбирать, вещи собирать, да всё, что может принести хоть какую-то пользу людям.
– А куда и когда едем? – прозвучал новый вопрос.
– Едем в Спитак. Попробуем самолётом до Еревана, там найдём какой-нибудь транспорт до места. Питание и палатки берём с собой, может, придется выйти в совершенно разрушенном месте, пригород или деревня какая-то. Там связи, электричества и водопровода нет, на тепличные условия можно не рассчитывать. И, конечно, нужны с собой деньги на дорогу.
– Так, ладно. – Со стула поднялся Димка Темник, высокий светловолосый, чем-то напоминающий былинного богатыря из фильмов Ромма. Он имел большой авторитет среди второкурсников и к тому же успел обзавестись семьёй, что для студентов этого курса было большой редкостью. К его мнению прислушивались даже старшекурсники.
– Давайте определяться. Сейчас расходимся и через час собираемся снова, но только те, кто окончательно решил ехать. Кто собрался, пусть посмотрит свои запасы, пройдёт по своему этажу и «настреляет» всего, что может быть полезным. Берите консервы, палатки вещмешки, котелки, тёплую одежду и одеяла для себя. Тех, кто не придёт, ни в чём винить не будем. Каждый решает сам.
Народ шумно поднялся и по одному потянулся из комнаты. Часть пацанов тормознулась в курилке, которой служила площадка между этажами. Я тоже достал сигарету и закурил вместе со всеми.
– Дипломники не поедут. Я один. Обошёл всех, но никто не захотел.
– На ваших никто особенно и не рассчитывал, – откликнулся Вася Васильков, невысокий худощавый парень из Чимкента. Темные глаза на скуластом монгольском лице горели, как угли.
Мы с ним не были особо знакомы, но он мне нравился. Меня привлекала его спокойная уравновешенность, однако потом, через несколько дней, я понял, что за спокойствием и хладнокровием скрываются, как за бронёй, такие пламенные страсти, позавидуют герои мыльных сериалов. Ко всему, что его захватывало, он относился с таким энтузиазмом, что это невольно вызывало уважение окружающих. Мне он казался каким-то ожившим восточным божком. Скуластое, точно вырезанное из дерева лицо, чёрные жёсткие волосы, редкие усики, похожие на птичьи перья, узкие глаза-щёлочки, похожие на блестящий антрацит, неподвижные позы, скупые движения – всё это вызывало жуткий интерес. Он мог в любой момент, прислонившись спиной к чему-нибудь твёрдому, присесть на корточки в позу «орла», в его руке тут же появлялась зажжённая сигарета, которая прочно устраивалась в уголке его рта, и всё Васино тело застывало, приобретая сходство с вырезанной из тёмного дерева или камня фигуркой, вокруг которой курился какой-то священный дым. А в довершение всего Васёк в общаге постоянно ходил в тёмно-синем чапане, стёганом среднеазиатском халате. Завяжи его платком на поясе, надень тюбетейку, которую он тоже иногда носил – и получится готовый узбек русского происхождения.
– Да никто никого за яйца не тянет. Я вот сам себя гадом считать буду, если вспомню потом, что мог помочь и не помог, в Москве остался, – смачно плюнув в угол, где стояла железная урна, выкрашенная в ядовито-зелёный цвет, добавил к словам друга Сашка Марченко, по прозвищу Марчелло.
Они с Васькой были друзья не разлей вода. Даже внешне были друг на друга похожи, одинакового роста, скуластые, энергичные, только Сашка, в отличие от Васька, был светловолосый и голубоглазый, да и фигурой выглядел покрепче, не в пример субтильному, но жилистому приятелю.
– Ладно, пошли рюкзаки собирать! – Хлопнув дружбана по спине, Васька поднялся. Привычка часами сидеть на корточках и чувствовать себя в таком положении исключительно комфортно меня в нём тоже удивляла. Я мог так просидеть не более пятнадцати минут. Потом ноги начинали затекать, а если потерпеть и остаться в этой позе дальше, то встать мне уже получалось только с чужой помощью или уцепившись и подтянувшись за что-нибудь руками.
Я тоже напоследок затянулся «Явой», щелчком отправил окурок в урну и пошёл собираться.
На сборы времени ушло совсем немного. У меня богатый туристический опыт, и всё, что необходимо для похода, всегда лежит в моём шкафу. Телогрейка, строительный подшлемник, выпрошенный у приятеля по этажу, постоянного участника различных студенческих стройотрядов, тёплый шарф – мамин подарок, два тяжёлых шерстяных одеяла, являющихся собственностью общаги, а значит, и энергетического института.
– Ладно, хоть здесь шерсти клок, – усмехнулся про себя я, заталкивая одеяла в рюкзак.
– А что ты там есть будешь? – лёжа на кровати в ярких разноцветных кроссовках – кроссовки, которые он «оторвал» после двенадцатичасового стояния в ЦУМе, были его гордостью – сказал Вадим, отрывая взгляд от книги, которую он читал, и поглядывая на мои титанические усилия по заталкиванию шерстяных носков в карманы рюкзака.
– Не знаю, у меня с прошлого похода осталось две банки тушёнки, да у девчонок на этаже пару банок «братской могилы» стрельнуть удалось. Хлеба завтра купим, ну и что ещё найдём в магазине.
Надо сказать, что времена тогда ещё не были такими, как в последние годы правления Горбачёва, когда крупу выдавали по талонам, а из-за отсутствия сигарет в ларьках рабочие устраивали сидячие забастовки. В магазинах водилась колбаса, сахар и масло давали без ограничения, нужно было только постоять часок в очереди. Поэтому консервы найти было можно. Однако тушёнка – королева всех консервированных мясных продуктов – была настоящим дефицитом. Её мне присылали родители из Западной Сибири, куда она поставлялась по государственной линии вместо мяса. И частенько в моём родительском доме были на столе одновременно суп-лапша с тушенкой, гречневая каша с ней же и салат «оливье», ввиду отсутствия курятины заправленный вместо мяса кусочками консервов, тщательно очищенных от толстого слоя замёрзшего жира.
«Братской могилой» студенты называли консервированную кильку в томатном соусе. Это название консерва получила от ощущений, которые ты испытывал, когда открывал банку с рыбой, где в кроваво-красном соку лежали аккуратными рядками тушки мелкой рыбёшки с глядящими на тебя чёрными глазами-бусинками. Но лучшей закуски по тем временам сыскать было трудно. Я и теперь люблю в отсутствии своих домашних сварить целиком очищенную картошку и съесть её с тайком купленной банкой кильки, опасаясь, что близкие поднимут меня на смех.
С отечественными мясными консервами в то время было туго, и магазины столицы заполняли продукты, произведённые нашими братскими странами—соседями: Болгарией, Венгрией, Чехословакией и другими, за поставку которых мы щедро рассчитывались нефтью и газом.
А из всей поставляемой зарубежной продукции мы, туристы, особенно ценили консервы, на этикетке которых значилось «Зрелая фасоль с колбасой». Как будто можно готовить консервы из незрелых бобовых… Болгария – братская страна, которая щедро делилась со старшим братом зрелой фасолью в томатном соусе, где под толстым слоем фасоли скрывался где-то в глубине банки маленький кусок колбасы или сосиска. Но всё же это было мясо, которого так не хватало советским студентам и туристам, а в сочетании с фасолью оно давало быстрый эффект «сытого» желудка.
Потому-то, когда мы снова собрались у Сабликова для того, чтобы определиться с ресурсами на поездку, я предложил купить этого, на мой взгляд, чудесного продукта. Но среди основной массы участников это предложение не вызвало большого энтузиазма.
– Кого как, а меня с фасоли пучит, – заявил Серёга Иваньковский, любимец всех девчонок на своём курсе, любитель побренчать на гитаре и обладатель мягкого приятного баритона, так завораживающе действующего на женский пол голоса.
– Не бойся, мы тебе отводную трубку в окошко выведем, – мрачно сказал Марчелло.
Серёга промолчал, так как по голосу Сашки было ясно: если что, то слова у него с делом не разойдутся.
Васёк беззвучно затрясся, сидя по-узбекски на кровати, и его голова закачалась, как у китайского болванчика. Он, видимо, ярко представил себе спящего Серёгу с воткнутой в зад отводной трубкой, которая змеёй уходит из-под одеяла в маленькое окно палатки.
– Если там ещё хоть одна собака водится, то без мяса вы не останетесь… – неожиданно сказал присутствующий на собрании Темник совершенно серьёзным голосом.
Всеобщий смех резко прекратился, теперь всем участникам стало совсем не до веселья…
Многие знали, что Димон приехал учиться с Дальнего Востока, где искусству приготовления собак научился у местных корейцев, однако перспектива питаться мясом бездомных бродячих животных не радовала никого. Димка обвёл всех прищуренным взглядом и строго пообещал:
– Еще за добавкой в очередь будете становиться…
Это немного успокоило пацанов, и решением общего собрания меня и Темника, как самых старших и опытных в ведении хозяйства, на следующий день отправили за продуктами, ссудив необходимой суммой из собранных на общак денег.
Продукты оказались хоть и самой интересующей всех проблемой, но не самой главной. Хуже всего дело обстояло с палатками. Народу набралось куда больше, чем имевшихся в наличии палаток, и по расчетам получалось спать по шесть человек в каждой. Палатки были туристические, двухместные, в них и вчетвером поместиться сложно, так что спать в них пришлось бы только на одном боку: ни на другой бок, ни на спину уже не повернешься.
– Я в такой позе спать не могу, мне свобода нужна, – сказал Игорь Гирев, по прозвищу Гарик или Гиря, как его ещё называли, крепкий здоровяк из Подмосковья, большой любитель женщин и хорошей выпивки.
– Не бойся, мы тебя так приголубим, что заснёшь как младенец, – опять мрачно пошутил Марчелло.
– Я не понял, мы туда работать едем или развлекаться? – стараясь перекричать всеобщий гогот, спросил Гарик, да он и сам смеялся.
– Ничего, одно другому не помеха, – давясь от смеха, продолжил прикалываться за другом Васька.
Хохот стоял такой, что из общего коридора к нам в комнату стали заглядывать любопытные.
Шуточки на «половую» тематику вообще популярны среди студентов. А уж если собирается мужская компания, то берегись, будь внимательнее, следи за тем, что говоришь, иначе тут же попадёшь на острый язык пацанов, а ещё хуже – приклеится какое-нибудь прозвище, хорошо, если приличное, а то, может, такое, что будешь скрывать от остальных своих знакомых всю жизнь, если удастся. Так, один парень, выразивший желание заниматься очень популярной в то время аэробикой, спортом, на взгляд пацанов, сугубо женским, тут же получил прозвище Аэробус. Фамилию его по прошествии времени все уже забыли, но при малейшем упоминании о нём кто-нибудь обязательно говорил: «Это который Аэробус, что ли?».
Когда смех поутих, Женька встал, вытер набежавшие от смеха на глаза слёзы и уже совершенно серьёзным голосом сказал, обводя всех взглядом:
– Всё! Отбой! Завтра в 10 часов мы с Юркой Алановым пойдём в райком комсомола. Может, помогут как-то добраться до Армении. Юрик там знакомых имеет через профком института, может, там сумеем хоть какой-то помощи добиться.
Юрка встал рядом с Женькой:
– Попробуем, а вот насчет палаток давайте попросим Серёгу Чупрова. Он сейчас в институтском прокате спортивного инвентаря подрабатывает. Может быть, палатки и ещё чего полезного у него добудем.
К Серёге вызвались идти Ваня и Васька. Когда они изложили ему суть проблемы, он молча выслушал их рассказ, зачем и для чего нужен инвентарь и палатки, залез под кровать, и достал оттуда топор. Увидев в их глазах немой вопрос, Серёга усмехнулся и сказал:
– Пошли. Не бойся!
Было уже за полночь, когда они втроём подошли к двери институтского проката на соседней улице. Серёга достал папиросу, прикурил и сказал:
– Ключи у моего сменщика. Он только завтра появится, столько времени потеряем. А может и вообще не приехать. – Ухватив поудобнее топор, он с силой двинул обухом по висячему замку. Замок жалобно лязгнул, но мужественно остался висеть. Звон на пустынной улице послышался такой, что казалось, всё вокруг должно было проснуться. Но нет, тихо. Свет нигде не зажегся, испуганные лица в окнах не появились.
Серёга двинул ещё раз. Замок снова оглушительно лязгнул, но опять остался на месте.
– Дай-ка мне, – сказал Ванька. Забрав у Серёги топор, он цепко схватился за ручку обеими руками, подняв его высоко над головой, и сильно выдохнул: – Хе!
Лезвие топора описало в воздухе блестящую дугу и с оглушительным звоном обрушилось на железную дужку. Замок разломился на две части.
– Ну вот! «Я же всё-таки бывший плотник», – удовлетворённо сказал Ваня.
– Ага, плотник… Где ж ты плотник, так замки на дверях вскрывать научился? – съязвил Вася. Серёга тем временем уже заходил внутрь затхлого полуподвального помещения.
Щёлкнул выключатель, и тусклый свет слабой электрической лампочки осветил стены с полками, на которых ровными рядами лежали одинакового грязно-зелёного цвета палатки, рюкзаки и прочий инвентарь туристического клуба МЭИ.
– Завтра новый повешу. Чего вам там нужно? – проговорил Серёга, уверенно продвигаясь по узкому проходу.
Много лет спустя, рассказав эту историю на нашем ежегодном собрании спасателей МЭИ, я узнал, что Сергей наш «взлом» не стал превращать в криминальную историю. После нашего отъезда в Спитак он пришёл в комитет ВЛКСМ института, честно рассказал обо всём, что произошло, и документально оформил изъятие этих небольших, но всё же материальных ценностей, что и было отмечено в списке предметов, увезённых студентами из Москвы, приложенного к отчёту командира отряда Виктора Толкачева.
Через полчаса ещё четыре палатки, два котелка, два топора и десяток спальных мешков легли на пол комнаты Сабликова. Теперь степень нашей экипированности была весьма высокой, и, что самое удивительное, все сборы заняли в общей сложности около шести часов.
А ведь мало было просто собрать команду единомышленников; следовало еще обеспечить ребят питанием, инструментами и огромным количеством всяческих мелочей, таких незаметных, но необходимых в ситуации, когда надо рассчитывать только на себя. Задача «быстро выехать, устроиться и приступить к действиям незамедлительно» чётко прослеживалась в действиях организаторов и в том энтузиазме и поддержке, которые проявлял и оказывал каждый из участников.
– Главное – продержаться на своих запасах неделю-другую, а там подойдёт основная помощь, я думаю, – говорил всем Женька, и все были готовы к такому варианту развития событий.
И вот утром, в 10.00, вся команда вновь собралась на этаже у комнаты Сабликова. Зрелище было, конечно, экзотическое… Разномастные телогрейки, у кого-то с вырванными кусками ткани и торчащей из дыр ватой, брезентовые рыбацкие плащи поверх тёплой одежды, армейские сапоги, гражданские ботинки на меху, вязаные финские шапочки и строительные подшлемники. Сейчас наша команда напоминала бы группу гастарбайтеров, приехавших зимой на заработки и сбежавших от полицейских.
Но, что важно, уныния и обречённости никто не испытывал. Шутили, разговаривали на разные темы, ожидая послов из горкома ВЛКСМ. И вот они появились.
– Всё, мужики, едем организованно. Райком комсомола берёт поездку в свои руки, курирует профком института, нас с Юркой принял секретарь горкома, и мы ему с порога: так, мол, и так, хотим ехать в зону бедствия, есть бригада во столько-то человек, экипированная, помогите туда добраться, – возбуждённо рассказывал Женька.
– А нам говорят: мы в курсе… Когда узнать успели? Ну да какая разница, главное – весь институт поднимается. Сегодня в обед от институтского «сачка», площади перед главным корпусом института, пойдут автобусы до аэропорта Внуково, а там самолётом, спецрейсом до Еревана.
У всех невольно вырвался вздох облегчения. Сейчас, конечно, можно рассказывать, что мы не боялись трудностей, которые неминуемо ожидали нас в поездке. Нет, страх был, он жил внутри каждого из нас, и скрывать это значило бы лгать самим себе. Скорее, сознание того, что будет трудно, и готовность к трудностям двигали нами. Но получить неожиданный подарок судьбы, снимающий с нас немного опасений за будущее, было приятно. Как будто тебе дарят что-то такое, о чем ты давно мечтаешь, но никак не ожидаешь приобрести, и вдруг… Вот оно, подставляй руки и принимай!
Расходились мы шумно, обсуждая новый поворот истории, радуясь, что появилось ещё три часа времени, которые можно потратить на то, чтобы перебрать вещи, в спешке брошенные в рюкзак, сбегать в ларёк за сигаретами, чтобы запастись ими впрок, сходить на почту позвонить родным, сказать, что ты летишь в Армению, но «беспокоиться не нужно, всё организовано на высшем уровне, никакой опасности» и т. д. и т.п., то есть всё то, что обычно говорят дети своим родителям, когда едут куда то, чтобы успокоить их тревожные сердца…
А мне нужно было попрощаться со своей девушкой Катей, которая училась на другом факультете и жила в общаге, которая находилась достаточно далеко от нашей. События развивались так быстро, что я просто не успел сбегать к Кате и всё ей объяснить.
2. Катя
Моё знакомство с Катей проходило также по всем законам студенческого жанра. В то время многие студенты, не поступившие с первого раза в институт, шли работать, чтобы на следующий год попытать счастья снова. Однако если в следующем году удача вновь отворачивалась от потенциального студента, то у неудачников появлялась ещё одна возможность поступления – подать заявление на подготовительный факультет, чтобы, занимаясь там в течение года, подготовиться к новому поступлению. Понятно, что этим способом могли воспользоваться только девчонки, которых не забирали в армию, или парни, которые уже успели отдать ей свой долг. И в случае обучения на подфаке вероятность поступления была практически стопроцентная, даже если ты был туп как берёзовое полено. У нас на курсе учился парень из Казахстана – Боря Жасупов, который мог в простом слове «молоко» сделать две ошибки и написать «малако», а по-русски говорил с таким ужасающим акцентом, что его принимали за монгола, приехавшего в наш институт по программе международного обучения. Так вот, он сумел поступить только потому, что, отслужив в рядах Вооружённых сил, научившись там более или менее говорить по-русски и кое-как писать, отучившись на подготовительном отделении, каким-то волшебным образом сумел сдать экзамены, а они для студентов подфака проводились отдельно, и поступить в наш знаменитый институт.
Так вот, в нашем общежитии, ввиду его больших возможностей по размещению студентов и гостей института, обычно жили студенты подготовительного факультета, заочники и командировочный люд, что давало местным студентам дополнительные возможности для завязывания знакомств и романов, а приехавшим из глубинки студенткам поближе познакомиться с культурой и любовью студенческой Москвы. Эти события на циничном языке студентов МЭИ назывался «завозом мяса», так как большинство приезжих были толстыми тётками с сильным провинциальным акцентом.
Но то, что я увидел в длинном полутёмном коридоре студенческой общаги, абсолютно выпадало из привычного для этой категории формата. По коридору двигалась японская гейша, то есть, как я себе представлял японских гейш: семенящая невысокая детская фигурка в цветастом кимоно, в белых носочках, на ногах традиционная японская обувь с ремешками между пальцами, волосы убраны в высокую причёску, заколотую деревянными спицами. Она шла, нет, плыла по нашему коридору, одной рукой прижимая к боку огромный металлический таз, а другой придерживая распахивающиеся при ходьбе полы, которые никак не могли скрыть белизну округлых колен и бёдер.
Я остановился как вкопанный, мне казалось, что это мне мерещится. Но чудо продолжалось, и когда оно всё той же семенящей походкой вошло на кухню, чтобы забрать там вскипевший чайник, я сумел справиться с первым потрясением с видом беспечного слоняющегося гуляки зашёл туда же.
Да, конечно, это не была гейша в том виде, в каком она представлялась мне по картинкам из журнала «Вокруг света». Кимоно при нормальном освещении обернулось обычным цветастым байковым халатом, высокая японская причёска – короткой стрижкой, причём эффект деревянных спиц, торчавших из неё, создавали отдельные непослушные прядки. Обувь оказалась обычными «вьетнамками», которые продавались в любом спортивном магазине, с той лишь разницей, что белые носки, поразившие меня в коридоре, действительно имели место, только были просунуты в резиновые перепонки изделий братского Вьетнама.
Теперь уже совершенно другое заставляло моё сердце стучать быстро и отрывисто. Представьте себе юное лицо 16-летнего ребёнка, волшебным образом приставленное к телу зрелой женщины. Волосы, похожие на пух только что вылупившегося из яйца цыплёнка, нежные, слегка приподнятые бровки, такие светлые, что их почти не видно над глазами, ребячески припухлые губы, сложенные в слегка удивлённую улыбку, и выражение лица, какое бывает только у детей, когда кажется, что они вот-вот или заплачут, или весело рассмеются. Но как только взгляд опускался ниже шеи, становилось ясно, что это уже далеко не ребёнок. В запáхе халата виднелась мраморно-белая кожа и нежные ключицы, а ниже – складка между белоснежных грудей, величину, которых скрывал покрой одеяния, но даже это не мешало пониманию их истинного великолепия. Тонкую талию стягивал поясок, ниже круглились бедра столь соблазнительные, что пуговицы халатика, казалось, вот-вот выстрелят в того, кто находится напротив. Разрез халата внизу соответствовал приличиям, но колени, сияние которых привело меня в шоковое состояние ещё в коридоре, отливали такой молочной белизной, что слепили глаза.
Хорошо, что девушка немного задержалась перед закипевшим чайником, пытаясь поудобнее схватить его за раскалённую ручку. Это дало мне несколько драгоценных мгновений и общую стратегию дальнейшего поведения.
– Горячий чайник-то? – глупо спросил я, как будто сам не видел её попыток пристроить тряпку к чайнику, чтобы подхватить его поудобнее.
– Да, – просто ответила она, не поднимая на меня своих глаз.
– А можно я вам помогу его отнести? – пугаясь собственной смелости, спросил я, бросаясь с этим вопросом как в воду с высокого обрыва.
Девушка подняла на меня глаза, и я окончательно утонул в светло-зеленом омуте. Нежное лицо моментально окрасилось румянцем, веки снова опустились, и тихий голос прошептал: «Спасибо!»
Она шла впереди меня, покачивая из стороны в сторону своими налитыми бёдрами, солнечный свет проходил через ее по-детски пушистые волосы, а изящный затылок был так трогателен, что хотелось приблизиться и прикоснуться к нему губами.
Но это невинное счастье было недолгим: девушка остановилась у покрашенной в жуткий коричневый цвет двери, тронула ручку, повернулась, забрала из моих рук чайник, снова прошептала «Спасибо!» и совершенно неожиданно улыбнулась детской трогательной улыбкой, а потом скрылась в комнате. Между мной и моим предметом обожания возникла преграда в виде страшной деревянной двери.
Я стоял перед ней, тупо улыбаясь, и что самое странное – мне совершенно не хотелось уходить. Меня переполняло блаженство, в голове не было ни единой мысли. Только окрик проходящего мимо курильщика: «Спички есть?» вернул меня в осознанное состояние. А потом я стоял на площадке между этажами, которая служила нам курилкой, дымил сигаретой и продолжал улыбаться, снова и снова прокручивая в голове всё, что со мной произошло.
С этого дня моё существование резко изменилось, хотя чисто внешне мое поведение осталось прежним. Каждая частичка моего тела и души стремилась к заветной двери, но, видимо, судьба не хотела моей встречи с «японкой». Прошло два дня, и вот на третий случилось то, о чём я тайно мечтал все эти дни.
Где же такая встреча могла произойти в студенческом общежитии? Ну, конечно, снова на кухне… Только на этот раз я уже был подготовлен к ней. Опыт ухаживания у меня имелся, а еще в моём арсенале был «неубиваемый» прием – искусство. Да, великое искусство, перед которым не может устоять ни одна женщина. Пусть ты лысоват, тощ или, наоборот, похож на пивную кружку, но если ты обладатель прекрасного голоса, играешь на каком-нибудь музыкальном инструменте или танцуешь как бог, то интерес со стороны женской половины тебе всегда обеспечен.
Я обладал определёнными способностями в этих областях, немного играю на гитаре, пою, люблю танцевать, но, во-первых, уровень моих талантов весьма невысок, а во-вторых, ты же не подойдёшь к понравившейся тебе девушке, чтобы страстно прошептать: «Пойдём, я тебе на гитаре поиграю…» В лучшем случае она удивлённо отстранится, может покрутить пальцем у виска, а может ответить: «Пойди у себя в штанах поиграй!».
Мой подход заключался в том, что, по моему глубокому убеждению, ни одна женщина не может устоять перед великим искусством театра. Во времена всеобщего дефицита посещение театральных залов Москвы считалось делом очень и очень престижным. А уж если ты можешь позволить себе пригласить девушку в такое культурное заведение, как Театр Ленинского Комсомола, то отказ абсолютно нереален.
Только одно было сложным в достижении желанного результата: как бы добыть эти самые вожделенные билеты… В советской Москве существовало много различных течений и направлений, о которых официально не упоминалось ни в средствах массовой информации, ни в каких-то других источниках, однако множество жителей столицы знали о них, а определённые группы москвичей активно занимались этой деятельностью.
В одном из таких направлений, который назывался «театральный лом», принимали деятельное участие московские студенты самых различных вузов, как весьма престижных, так и не особо. Смысл этого, как потом, во времена перестройки, стали говорить, «неформального» движения заключался в следующем…
Под руководством определённых людей, в просторечии называемых «театральной мафией», студенты собирались в группы и выезжали ночью к кассам какого-либо театра. Понятно, что в этом случае котировались престижные театры, где шли новые яркие интересные спектакли, а не только русская классика и произведения о трудовых подвигах советских людей. Классика тоже приветствовалась, но в рамках только одного Большого театра, потому что в советское время простому человеку туда попасть было практически нереально. Нужно было либо покупать билет у торгашей втридорога, либо попытать счастья и отстоять в очереди в кассу.
Но очередь люди приходили занимать с утра, так как она была только живой, по списку, который контролировала та же «театральная мафия», а наличие «живой» очереди создавали как раз студенты, которые выезжали к кассе ночью и стояли там, пока касса не открывалась. Понятно, что такими студентами были в основном обитатели институтских общежитий: им-то не нужно было объясняться перед родителями, куда они на ночь глядя собрались и почему вернутся только на следующее утро.
Так примерно происходило со всеми более-менее престижными с точки зрения тогдашнего человека театрами. Если в классическом направлении первенство было за Большим театром оперы и балета, то в среде драматических пальма первенства принадлежала Театру имени Ленинского комсомола. Затем шли Театр сатиры, «Таганка», театр имени Маяковского, в простонародье «Маяк», «Современник», ну и дальше все остальные.
Я ни в коем случае не хочу умалить достоинства того или иного театра, просто констатирую факты, которые существовали в понимании простых людей того времени. Когда-нибудь я захочу написать новую книгу об этом неформальном движении, которое существовало в советской Москве 1980-х годов, об известных людях-участниках этого движения, о том, как оно появилось, как развивалось и благополучно умерло с приходом коммерциализации, подобно многим другим явлениям советской России, помимо комсомола и партии, которые тихо угасли с приходом перестройки и мира чистогана.
Не знаю, как обстоят дела сейчас, но в советское время все театральные кассы Москвы продавали билеты только на следующую неделю, и продажа начинала осуществлять обычно в 11 часов утра в пятницу. Поэтому в четверг вечером общежития огромного количества московских вузов превращались в жужжащий улей, где по этажам ходили одетые в телогрейки, в подшлемники и лыжные шапочки молодые ребята, собираясь в группы, чтобы уже поздним вечером покинуть тёплые здания общежитий и успеть на последних поездах метрополитена доехать к зданию театра, где им предстояло провести бессонную ночь, а утром приобрести заветные билеты на вожделенный спектакль.
Однако отстоять ночь за здорово живешь московские студенты не могли, да и мафия понимала, что просто померзнуть ночью, чтобы потом в награду обрести нужные билеты нормальному студенту неинтересно. И тогда были придуманы «театральные войны».
Сами по себе театры были поделены на сферы влияния; тот или иной клан «театральной мафии» регулировал и контролировал процесс приобретения билетов в театры, находившиеся на его территории. Но, с одной стороны, чтобы создать определённый интересу простых «бойцов» -студентов, а с другой – достичь собственных политических целей, стоявших у касс студентов того или иного института сталкивали со представителями другого учебного заведения. Это и получило название «театральные войны».
Война в прямом смысле не велась, то есть оружие не использовалось, друг друга не убивали и даже не ранили, но в остальном всё было по-настоящему. У каждой «армии» имелся свой штаб, студенческая масса делилась на бригады, во главе которых находились командиры – бригадиры, которые, в свою очередь, объединялись по факультетам, которыми командовали факультетские командиры. Была и своя разведка. Составлялись стратегические и тактические планы, заключались союзы и перемирия. Имелся даже свой банк – билетный и денежный, который вёл собственный «банкир».
Деньги шли на покупку билетов, так как собственных средств у студентов, живущих в общагах, частенько не хватало. Ценностями в виде билетов оплачивались выезды бойцов, премировались лучшие участники «лома». Они обменивались на спектакли в других театрах, причём существовала чёткая система стоимости билета при обмене в зависимости от рейтинга спектакля и самого театра.
Кроме того, театральные билеты прекрасно менялись на другие советские «ценности», которые были в дефиците, например, на торты «Птичье молоко» или кроссовки. Каждую пятницу после того, как все билеты в театрах были раскуплены, театральные банкиры собирались в саду «Эрмитаж», напротив Театра имени Моссовета, где проводили время за всеми этими операциями.
Боевые действия на театре проходили следующим образом. Студенты, стоявшие «в карауле», плотной группой собирались у дверей в кассу. Часть группы, стоявшая прямо у входа, называлась «головкой», её задачей было любой ценой защитить вход от проникновения противников. Вкруг них, схватив друг друга под руки, плотными цепями выстраивались «бойцы». При этом стоящие в цепи сзади обхватывали передних за пояс, в результате чего образовывался плотный человеческий клубок, закрывающий проход к кассовой двери.
Задача противника состояла в том, чтобы разорвать цепи, защищающие кассу, «проломиться» – так и появился термин «театральный лом». Далее нужно было оттолкнуть стоявших у кассы людей в сторону и занять предкассовое пространство самим, а потом образовать новую живую цепь, защищая путь к кассе от тех, кто не сумел его отстоять.
Бить друг друга по законам «лома» категорически запрещалось, можно было только толкаться, тянуть, дёргать противников за руки, тело и одежду. Несмотря на такие достаточно «мягкие» условия, страсти у театральных касс творились нешуточные. Одежда, головные уборы и даже рубашки рвались на три счёта, а уж об эмоциях, физических усилиях и поте говорить не приходилось.
Победившая сторона, сумевшая оттолкнуть своих противников или, наоборот, защитившая свои позиции, дожидалась открытия театральных касс и приобретала нужные билеты. При этом билетов давали ограниченное количество в одни руки, например, в Театре Ленинского комсомола не более одной пары, а вот в театре на Таганке (и только там) давали по две, поэтому руководители театрального «лома» требовали выкупа в первую очередь самых престижных и интересных для зрителей спектаклей.
Я начал заниматься театральным «ломом» ещё на первом курсе и к своему дипломному году имел уже определённую известность как в кругу простых бойцов, так и командиров своего института. Поэтому мой личный опыт посещения театров к тому времени был уже достаточно велик, и думаю, что не всякий москвич, проживающий в столице с рождения, успел посетить столько спектаклей различных московских театров.
Поэтому у меня всегда была возможность сходить самому или пригласить на просмотр понравившуюся мне девушку, а уж дальше развитие событий во многом зависело уже только от меня и неё.
Итак, моя новая встреча с Катей состоялась на той же кухне нашего этажа… Я зашёл туда, чтобы забрать свой вскипевший чайник, а она пришла, чтобы поставить свой.
– Привет! – сказал я, улыбнувшись, всем своим видом демонстрируя радость от нашей встречи, как будто знаю её уже много лет.
– Добрый день! – тихо ответила мне она и молча направилась к плите.
– Как дела? Хорошо чай попили? – продолжая развивать разговор, спросил я.
– Когда? —Её маленькие детские брови удивлённо дёрнулись вверх. Такого поворота событий я честно не ожидал, так как был абсолютно уверен в том, что уж меня-то она после нашей встречи обязательно заполнила…
– Ну, тогда, помнишь, я помог тебе горячий чайник отнести… – проблеял, заикаясь, я, совершенно не рассчитывая на такой поворот событий.
– А-а… – абсолютно равнодушно протянула она, к тому моменту закончив ставить чайник на плиту и зажигая огонь. Она повернулась спиной к плите и уже собиралась уходить из кухни. Мой тщательно продуманный и простроенный в голове план беседы рухнул…
Тогда я сделал то, что собирался сделать небрежно, в самом конце моего глубоко продуманного плана.
– Ты мне нравишься… – Она резко остановилась, но продолжала стоять спиной, не поворачиваясь ко мне. – Можно я приглашу тебя в театр? – хрипло сказал я, уже ни на что не надеясь.
– Можно, – ответила она и пошла дальше по коридору.
– В какой театр ты хочешь пойти? – не веря своему счастью, преодолевая спазм в горле, спросил я.
Катя повернулась, внимательно посмотрела на меня и очень серьёзно, без тени кокетства ответила:
– Мне всё равно, я пока ни в каком не была…
Её пушистые ресницы опустились, лёгкий румянец залил её нежные щеки, а голос тихо произнёс:
– Можно даже просто погулять…
Мы ходили с ней каждый день вечером по нашему Лефортово, находя совершенно новые теперь уже для нас обоих места, о которых я раньше даже не слышал и не имел никакого представления. Центр Москвы был исхожен вдоль и поперёк, конечно, мы были с ней и в театре, и в кафе, но огромное удовольствие было просто идти с ней по вечерним малоосвещённым улицам города, держась за руки, и болтать обо всём на свете, а иногда и просто молчать. В такие вечера целовать её было истинным наслаждением, чувствовать запах её кожи, еле касаться губами её губ и чувствовать лёгкие прикосновения её нежных, как у ребенка, пальцев на своём лице.
Лишь один-единственный раз я попытался добиться чего-то большего… Её соседки уехали на выходные к себе домой, и комната, в которой они все вместе проживали, осталась свободна. Катя сама позвала меня в гости, мы пили чай с домашним вареньем, которое прислала мне из дома мама, за столом, который освещался ночной лампой на стене, а потом упали на постель… И тот момент, когда должно было произойти то, что в таких ситуациях происходит между мужчиной и женщиной, она вдруг неожиданно для меня резко остановилась, её тело стало твёрдым, руки резко упёрлись мне в грудь. Она прошептала:
– Извини, я не могу…
И увидев моё изумлённое лицо, она прижала ладони к моему горячему лицу, погладила его своей прохладной ладонью и снова прошептала:
– Прости, пожалуйста, я очень тебя люблю… Но я не могу сейчас…
– Почему? – мой голос звучал хрипло от страсти, непонимания и обиды.
– Я не знаю… Правда, не знаю… Я очень хочу, чтобы у нас с тобой всё было, как у всех нормальных людей, но сейчас я не могу перешагнуть через себя. Понимаешь?
– Хорошо, – ответил я. Она нежно поцеловала меня в губы, повернулась ко мне спиной, прижалась ко мне всем телом, положила мне голову на плечо, закрыла глаза и тихо заснула. Я обнял её за плечи, зарылся лицом в её легкие, как пух, волосы и тоже заснул.
Я понял и простил её в тот вечер, потому что, когда любишь другого человека, ты должен быть готов идти на уступки, которые важны для него. Из таких уступок и строится совместная жизнь, а браки разрушаются чаще всего тогда, когда личные эгоистические желания сталкиваются с такими же требованиями, только с другой стороны.
Моя мама всегда говорила, а они с отцом прожили долгую счастливую жизнь: «Брак, сынок, это цепочка взаимных уступок и компромиссов». Многие современные молодые люди наверняка будут со мной не согласны и даже посмеются надо мной, но я поступил в тот момент, как считал верным, и поэтому никогда не жалел об этом решении.
Через пару дней после этой ночи Катю перевели в другое общежитие, которое находилось довольно далеко от нашего, и встречаться так же часто, как раньше, уже не получалось. Но при первой возможности мы встречались и продолжали видеться, хоть мельком в институте, в коридоре или на «сачке», площадке перед институтом, в обед.
Теперь я на всех парах мчался в её общагу, чтобы сказать о том, что я уезжаю и поэтому не смогу с ней увидеться завтра, как мы с ней заранее договорились. Придя в общежитие, я нашёл дверь в её комнату закрытой, в коридоре одна из соседок сказала, что Катя и её соседки по комнате ещё не пришли из института. Время было уже позднее, занятия давно закончились.
Я попросил бумагу, оставил в двери записку о том, что завтра уезжаю в Армению, и с тяжёлым сердцем вернулся к себе в общежитие. Какое-то ощущение беды, будущих неприятностей давило мне грудь и не давало чувствовать себя свободно. Но заботы о предстоящей поездке заставили меня с головой окунуться в них и не думать ни о чём другом.
3. Отправление
Утром пришлось встать пораньше, так как наш продовольственный магазин открывался с восьми часов, и нужно было до отъезда купить продукты на собранные ребятами деньги. Я сходил туда, купил коробку с двенадцатью банками консервов и отнёс в комнату к Жене, там уже был Дима Темник. Он своими железными пальцами в секунду вскрыл коробку, достал оттуда банку, скептически рассмотрел её со всех сторон и сказал:
– С голодухи – пойдёт… А что у нас есть ещё?
Ещё у нас было чуть меньше десятка банок с тушёнкой, четыре банки рыбных консервов и пара банок сгущёнки.
– Маловато… – протянул Дима.
– Я сейчас ещё раз схожу в магазин, куплю ещё рыбных консервов, какие будут. «Просто сразу не унёс», – сказал я.
– Давай. И хлеба в буханках возьми, сахара пару пачек и чая пачки три, не забудь, —Димка встал и, взяв свой рюкзак, начал складывать туда припасы. – А я пока продукты соберу…
Я повторно сходил в магазин, купил всё, что нужно, принёс Темнику, который все продукты тщательно расположил в рюкзаки к ребятам или верёвкой связал коробки, оставив специальную петлю, чтобы удобнее было нести.
На столе лежала армейская фляга в зеленном защитном тканевом чехле.
Я подошёл к фляге, взяв её в руки, почувствовал её тяжесть. В горле у меня пересохло, очень хотелось пить. Руки автоматически стали откручивать крышку фляжки. Дима бросился к мне и резко вырвал её из моих рук.
– Это не вода… Стал бы я с собой в Армению воду брать…
– А что же это?
– Спирт.
– Мы же вроде договаривались до возвращения не бухать…
– А это и не бухло… Это лекарство.
– Что ты этим «лекарством» лечить собираешься? Царапины и порезы?
– Дурак ты… Вот заболеешь там, я тебя быстро на ноги поставлю.
– Что, в чистом, не разведённом виде?
– А где ты видел, чтобы разведённым спиртом лечились? Это тогда водка получается, а водкой не лечатся, водку так жрут.
Перспектива лечиться спиртом меня никак не радовала, я никогда не пробовал спирт в чистом виде и с трудом представлял, как я смогу его пить. Но я всё же верил, что эта участь меня не постигнет и идти на такие эксперименты мне не придётся.
– Слушай, Ильдар… У меня пара банок тушёнки и рыбных консерв в ящики не помещается… Возьмёшь себе в рюкзак?
– Ладно, давай, у меня он всё равно практически пустой, одни тряпки, —сказал я.
Дима протянул мне консервы.
– Смотри, в десять часов встречаемся на «сачке» перед институтом. Не опаздывай!
– Ладно, тебе с ящиками помочь? – Я забрал банки из Диминых рук.
– Нет, не надо. Мне пацаны с этажа помогут, мы все вместе идём. Сам приходи!
– Хорошо. – Я встал и направился к себе в комнату.
У себя в комнате мне нужно было ещё раз проверить рюкзак на предмет того, все ли вещи собраны. Хотя собирать было особо нечего, пара свитеров, несколько чистых футболок. Стирать и сушить грязные вещи времени уже не было. Толстый плед, шерстяные носки и другие тёплые вещи. Вот и всё. Надо было ещё положить в рюкзак банки так, чтобы они не давили при ходьбе в спину и не гремели друг об друга.
От размышлений о том, как лучше это сделать, меня внезапно отвлёк резкий стук в дверь. Гость не стал дожидаться моего ответа; дверь распахнулась, и в комнату вошёл Юрик Мячиков. Это был мой однокурсник, сосед по этажу, который поступил в институт через подготовительное отделение, отучившись на нём год, а перед этим ещё два года отслужил в армии.
Поэтому, наверное, правильно было бы называть его Юрий или хотя бы Юра, но никто у нас на этаже к нему так не обращался. Говорят, что армия сильно меняет человека, делает его более организованным и дисциплинированным. На Юрике Вооружённые силы явно прокололись…
Начнём с того, что более ленивого и разгильдяйского человека я за всю студенческую жизнь не встречал… На занятия, в столовую и даже на этаже в общаге он ходил в одной и той же давно не стиранной майке, в старых шерстяных тренировочных брюках, у которых в «мотне» от старости образовались дыры и свисали нитки. В любое время дня и ночи он стоял в курилке на этаже с зажжённой сигаретой и гитарой в руках, на которой наигрывал какие-то непонятные мелодии, постоянно ошибаясь в аккордах и начиная песни заново. Но, когда его просили, что—то сыграть или спеть по—настоящему, он вдруг начинал козлиным приблатнённым голосом громко и с надрывом горланить какой—то блатняк.
Казалось бы, институт очень быстро очищает свои ряды от такого рода студентов, но помимо лени и разгильдяйства Юрик обладал ещё двумя уникальными качествами: неимоверной хитростью и безграничной наглостью, которые и помогали ему во всех перипетиях студенческой жизни. Он безбожно списывал на экзаменах, пользовался чужими конспектами и расчётами, выдавая их за свои, и так далее. Но нас, студентов, это не касалось, это были вопросы скорее институтского масштаба…
А вот в вопросе халявы с едой и сигаретами наше мужское население от Юрика уже выло… У мужского населения нашего этажа были строгие законы, которые соблюдались всеми без исключения. Человек, не хотевший их выполнять, подвергался тихому, но достаточно жёсткому осуждению, а так как в студенческой среде взаимовыручка и помощь была нужна постоянно, то такой человек рисковал не получить её в трудную минуту. Никто не даст списать лекцию, никто не поможет в расчёте курсовой работы. Один из законов студенческого общежития гласил, что любой человек, который заходит к тебе в комнату – твой гость, а гостю полагается максимум внимания и поддержки. Думаю, такой закон появился в нашей среде потому, что у нас на этаже, да и во всём общежитии жило очень много студентов из Средней Азии, а там этот обычай неукоснительно соблюдается. Поэтому, если гость заходил в момент, когда жители комнаты садились есть или пить чай (кофе у нас не прижился, думаю, из-за высокой по сравнению с чаем цены), его обязательно приглашали за общий стол.
Юрик быстро оценил все прелести такой традиции. Как только на кухне кто—то из ребят начинал готовить или даже просто ставил чайник, Юрик обязательно фиксировал этот момент. Как только кастрюля, сковородка или чайник попадал на стол и вокруг собирались обитатели комнаты или приглашённые фигуры, через минуту—другую в дверь резко стучали, она стремительно распахивалась, и на пороге появлялся наш герой с неизменным вопросом: «Здорово, мужики! Вы что тут делаете?».