Бык бежит по тёмной лестнице
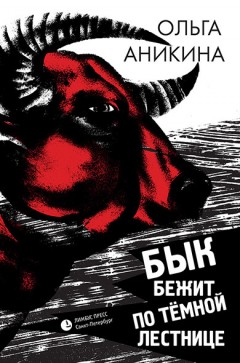
© О. Аникина, текст, 2025
© ООО «Издательство К. Тублина», 2025
© А. Веселов, обложка, 2025
Часть I
Джуска
Джуска – разговор внутри твоей головы.
Джон Кёниг, «Словарь неясных скорбей»
Глава 1
Словарь неясных скорбей
Мне было пятнадцать, и я уже целый год жил с диагнозом ревматоидного артрита. Стояла осень, респираторные инфекции вовсю гуляли по Москве, но обычный насморк теперь заканчивался для меня болями в колене, а если сильно прижмёт – ещё и в бедре. Потом ко всему этому добавятся суставы рук, шея и поясница, но в те времена моя болезнь развивалась ещё как лайт-вариант. Проводя большую часть суток лёжа, я пристрастился читать. И вот как-то раз ко мне в руки попала книга Хемингуэя – «Фиеста. И восходит солнце».
Я перевернул последнюю страницу, когда обострение уже началось. Впечатление от книги наложилось на предлихорадку. Сцена бегущих по городу быков пришлась на высший пик температурной свечки, и я перед глазами, как наяву, видел следующую свою работу – хотел написать её акрилом, лишь только поднимусь на ноги. Малиновые вспышки вырывались на передний план, а ближе к углам, по периферии, во все стороны разлетались куски некой непрочной постройки – балки, перила, ступени. Ударами сильных ног бешеный бык разносил в щепки всю нашу треклятую размеренную жизнь. Той весной задумка картины крепко сидела в моей голове, я только и ждал, чтобы контроль матери ослаб, и можно было наконец приступить к грунтовке холста.
Но работа вышла неудачной – и первый её вариант, и второй, и четвёртый. То я перегружал композицию, и бык хотя и доминировал, но выглядел тяжёлым, то страдала колористика: мне не хотелось лобового столкновения красного и чёрного пигментов, а приглушённые цвета вдруг принимались без моего участия гармонизировать самым неожиданным образом. На уровне наброска меня вроде всё устраивало, но лишь только дело доходило до красок, вся лёгкость куда-то девалась. Я бился-бился, да и отступил до лучших времён. А потом и вовсе пришёл к выводу, что сама суть моего «Быка» была целиком подражательной и вторичной: я, наверное, пытался скопировать стиль моего учителя, известного художника Николая Кайгородова. В конце концов я решил избавиться от неудачной работы, но Мария вытащила полотно из огня – в прямом смысле.
До сих пор не могу забыть, как Мария переводила взгляд – то на меня, то на картину, то снова на меня, смотрела, вытаращив глаза, как лесная сова. Трясла холстом перед моим носом. А я, словно загипнотизированный, не отводил от неё глаз и думал только о том, что эта женщина сейчас совсем рядом, она стоит так близко! Вот, вот сейчас, надо вырвать у неё холст – и одной рукой сжать худые, тонкие запястья, а другой с силой притянуть к себе.
Как действовать дальше, после того, как притяну, – я понятия не имел. В голове моей в тот момент творилось чёрт-те что – а потому я так и остался стоять перед ней, как дурак, молча, и, открыв рот, слушал, как она меня отчитывает.
Холст она у меня забрала. Стряхнула гарь, свернула в трубку и засунула в шопер с обтрёпанной ручкой. Куда она потом дела этого быка – понятия не имею. Вполне могла дойти до ближайшего угла и выбросить его в мусорный бак, тайком, чтоб я не видел.
Но дело было даже не в «Быке». Дело было в самой Марии – она восхитилась моей работой. Или просто сделала вид, что восхищается, ведь Мария всегда была хорошим педагогом.
Из-за этой женщины я сходил с ума, я буквально задыхался.
За глаза мы в классе звали её просто: Иртышова. Фамилия звучная и знаменитая. Дед Марии Александровны, а заодно и прадед, были академиками, отец её тоже пошёл по стопам предков и был профессором – в общем, звёздная семейка. Но в ней самой не было ни грамма пресловутой звёздности.
С чем бы сравнить её? Наверное, с дикими птицами, а может, с рыбами – с существами, которых нельзя одомашнить. Можно любить сойку, которая каждый вечер прилетает под крышу твоей дачи и садится на обветренную деревянную перекладину. Можно смотреть, как в пруду сверкают хвостами зеркальные карпы, – можно даже сидеть у подножия водопада, наблюдать за этими рыбами и гадать, сумеет ли хотя бы одна из них подняться вверх, сопротивляясь силе потока, и там, на изгибе сияющего брызгами колена, превратиться в дракона – или в кого там ей нужно превращаться согласно легенде? Но вот опустишь ты руки в воду, поймаешь одного и зажаришь – и волшебство кончится.
Если представить мою подростковую сущность в виде античного портика – мраморного, слегка рябоватого от вкраплений ракушечника, – так вот, человеком, который отстроил бы фундамент портика, был бы, без сомнения, дядя Коля, мой учитель рисования. Но той, кто положил бы на колонны антаблемент – фриз, карниз и архитрав, – стала бы именно Мария. Я имею в виду не меня сегодняшнего, а меня, ученика старших классов московской школы, живущего в середине двухтысячных в Москве в родительской четырёхкомнатной полногабаритной квартире, недалеко от станции Багратионовская. Хотя, сказать по правде, я сегодняшний, похоже, остался почти таким же, правда, стены и колонны изрядно поистёрлись, закоптились, а кое-где покрылись унылыми сколами и трещинами.
Мария включилась в строительство, сама того не ведая. Я тоже – сделал её своим архитектором по наитию, не понимая ещё, что я такое с собой творю. Возможно, Мария, жившая в моей голове, по большей части была выдумкой – тем радостней для меня становились моменты узнавания, когда поступки и слова реальной женщины чудесным образом совпадали с её воображаемым образом. Я словно бы угадывал её наперёд – но если вдруг сталкивался с чем-то, что горько меня разочаровывало, я внезапно и с удивлением обнаруживал, что отчаяние в таких случаях сменяется не меньшей радостью. Когда вдруг мне стало понятно, что Мария способна защищать подлеца, эта новость не оттолкнула меня от неё, а наоборот, превратила моё благоговение в чувственное влечение невероятной силы. И чем больше отрицательного я находил в этой женщине, тем сильнее я её хотел.
Когда до меня дошло, что творят со мной мои собственные чувства, – я поначалу сильно заморочился. Потом понемногу привык и в конце концов, непонятно почему, стал ощущать себя гораздо уверенней, стойче и, как бы это странно ни звучало, – свободнее, чем прежде, до того, как Мария появилась в моей жизни. Никаких прав на эту женщину я не имел и иметь не мог, так что же? Я принял как должное правила игры, в которой меня заведомо ожидал проигрыш. Я ведь сам создал вокруг Марии что-то вроде защитного кокона.
Если бы не эта оболочка, я не смог бы воспринимать её как учителя – да она и быть бы им не смогла. И тем не менее Мария Александровна многие годы оставалась моим педагогом-надомником, а в выпускных классах к тому же занималась со мной дополнительно как репетитор по русскому языку и литературе, а ещё по истории, так как давным-давно, когда она была ещё юной и жила в Петербурге, Мария училась на историка, а потом даже получила сертификат эксперта ЕГЭ по этому предмету. Поэтому, если бы я где-то прокололся, я потерял бы эту женщину сразу и навсегда: родители, заметив неладное, поспешили бы незамедлительно сменить приходящего педагога. До сих пор не понимаю, как мне удалось выдержать подобное испытание. Видимо, пережив доселе незнакомое мне чувство, я познал какой-то особый дзен.
От Марии (мне всегда так казалось) пахло ореховым йогуртом – помните, продавались такие греческие йогурты в магазине «Магнолия»? Орехи мне всю жизнь были категорически запрещены, и съедал я только верхний, молочный слой, зато запах нижнего слоя – тонкий и лёгкий, с вяжущей кислинкой – я хорошо узнавал. Это был лучший запах на свете. Запретный запах. Когда мне приходилось совсем несладко (сейчас будет очень откровенное!), я шёл в «Магнолию», покупал баночку с йогуртом, чтобы потом достать её в своей комнате и в тишине прикрыть глаза, медленно потягивая носом суррогат, заменитель аромата, постепенно возвращавшего меня к жизни. Самообман работал – но очень недолго. Короткую встряску сменяли прозрение и стыд, и когда последний сделался невыносим, я прекратил покупать чёртов йогурт и даже смотреть на него. Так Мария на какое-то время сделалась для меня совсем уж бестелесной.
Чувство, похожее на религиозную одержимость, служило мне защитой очень от многих вещей. Благодаря этому панцирю я мог какое-то время не бояться внезапной и ранней встречи с настоящей, реальной физиологией, которую, в принципе, не составляло труда найти даже в полутёмных больничных коридорах и больничных же туалетах, в процедурных кабинетах современных клиник, способных воплотить самые заклятые мечты извращенца, в душевых кабинах с их облупленными стенами, все в жёлтых разводах. Больничные помещения пахли хлоркой, сквозь которую пробивался запах чужих тел. Дух канализации лез из всех щелей, из сливных дыр и даже из отверстий душевой лейки, покрытых коричневой шершавой ржавчиной. Чужая кожа в таком пространстве отчего-то начинает пахнуть лучше, благороднее, чем в реальной жизни.
С моими соседями по палате в тайных больничных помещениях иногда случались неожиданные и захватывающие вещи – такими историями принято было делиться один на один, понижая голос. Однажды я и сам попался, как дурак, в примитивную ловушку, но поделиться тем случаем ни с кем не осмелился. Ловушку для меня устроила одна дежурантка-интерн, вечером в субботу, когда на этаже было пусто, потому что больные в отделении свалили по домам, а в палатах остались только те, кого не забрали.
Всё мерзкое, всё отвратительное и отталкивающее удивительным образом притягивает человека и очаровывает. Как я ни пытался выкинуть из одуревшей своей головы память о навязчивых манипуляциях в той крохотной подсобке – они нет-нет, да и всплывали у меня в памяти, всякий раз очень ярко, с подробными деталями.
На двери подсобки висела обломанная по нижнему краю табличка «клизменная». Меня преследовал химически-ягодный аромат чужого парфюма вперемешку с душком сырной плесени. Смыть этот букет было нереально, потому что в больнице на выходные из экономии частично отключали воду – она шла из крана тонкой холодной струйкой. Для пациента с моими болячками мытьё под такой струйкой могло быть чревато – но я плюнул на последствия и всё равно полез под воду. «Может, секс вообще не для меня?» – После того случая подобные мысли посещали меня не реже пяти раз на дню.
Отвращение перед повторением опыта клизменной я преодолевал долго и наконец понял важную и очень простую истину: люди, живущие на нашем ламповом земном шарике, слишком разные. Если сосед не может прожить и недели, чтоб кого-нибудь не трахнуть, то это не значит, что я должен жить так же, как он. Потом я прочитал в сети про асексуалов и успокоился. Со мной всё было в порядке. Я-то уж точно никогда не был асексуалом, но вместе с тем я до сих пор уверен, что даже асексуальность для человека может быть самой что ни на есть нормой. Просто, повторяю, – все мы, люди, не на одно лицо.
Выяснилось ещё кое-что интересное. Вы, например, знали о том, что сила искусства и сила секса растут из одного и того же источника? Пока не испытаешь – не поймёшь. Только этим я могу объяснить тот факт, что после удачного перепихона у меня никогда не получалось нарисовать что-то стоящее. Это как молиться двум богам – и тот, кого ты обделил гекатомбой, рано или поздно тебя покарает.
Вот такими нехитрыми способами мне удалось принять данную мне реальность: и себя самого, и своё тело, и свою любовь – ту, что греет сильнее, когда находишься на расстоянии.
Никаких подробностей о жизни Марии вне школы я не знал – кроме тех, которые она считала нужным вставлять в контекст уроков литературы. Например, когда мы проходили «Медного всадника», Мария рассказала, как, гуляя с отцом и старшей сестрой, она впервые увидела отметки уровня воды на водомерном столбе в Петербурге. На внутренней стороне синей тетрадной обложки я написал красивое слово «футшток» и выучил его непонятно зачем; слово помню до сих пор. Водомерный столб находится на набережной Мойки неподалёку от Синего моста. Мария обмолвилась, как в детстве представляла себе плывущие по Неве трупы, вымытые из могил. Когда мы проходили Серебряный век, она рассказывала нашему классу, как на побережье Финского залива буйным цветом цветёт шиповник (его я видел своими глазами, когда наконец-то съездил в Петербург и добрался до Карельского перешейка, а про футшток, между тем, как-то позабыл). Подобные эпизоды из жизни запоминались лучше, чем сухая справочная информация, которую можно было и без помощи учителя накопать в интернете.
Таких отступлений было два, они звучали для всех. Третью историю она рассказала только мне одному – рядом с инквизиторским костром, в котором корчилась очередная партия моих ученических работ: время от времени я жёг их во дворе возле мусорных баков. Мария сказала, что когда-то давно тоже жгла свои старые вещи. Я спросил её, что это были за вещи, и она ответила, дескать, ничего особенного, пустячные женские штучки: платья, туфли, дорогая сумка.
– Зачем?
– Акция протеста. – ответила она. – Думала, если всё старое сожгу – заживу по-новому.
Подсвеченное снизу и чуть-чуть сбоку, лицо Марии преображалось. Тени ложились серыми штрихами – под бровями, под нижними веками, резко очерчивали линию скул. Углы нижней челюсти и виски оставались в тени, и поэтому подбородок и лоб сделались острее и уже. Мария стала походить то ли на Покахонтас из диснеевского мультфильма, то ли на героинь картин Альфреда Родригеса[1]. Родригеса я не любил, но вот «Горящая трава» Ремингтона[2]… Там нет ни одной женщины, только фигуры и лица мужчин, стоящих на самой границе пожара. Один из них пытается потушить языки пламени внизу, а взгляды других, сидящих верхом, устремлены вдаль. И нам становится ясно, что искры, вьющиеся возле самых ног, – ничто по сравнению с тем, что происходит там, на дальнем краю прерии.
Мария походила сразу на всех индейцев с той картины. В её лице была и тревожность, и решимость. Жесткая линия губ и подбородка: мне нравилась эта линия. Я смотрел на её губы, мне почему-то подумалось, что, наверное, Мария никогда не отдыхает.
Я был уверен: когда-нибудь Мария с дикой скоростью пронесётся, проедет прямо по мне, и я долго ещё буду залечивать раны от лошадиных копыт.
Так, собственно, и случилось.
Пострадал не только я – она сама на полном скаку рухнула со своего коня, и волну от этого удара прочувствовал весь наш класс, когда Марии Александровне пришлось уволиться от нас в самом конце учебного года, за два месяца до выпускных экзаменов. Случилось это после одного школьного эпизода, связанного с её непримиримой жаждой справедливости – в том виде, в котором понятие справедливости было приемлемо для неё самой. Я не очень-то люблю вспоминать историю, где мне пришлось сыграть одну из главных ролей. Ведь тем человеком, за которого Мария решила заступиться, был я сам.
Невозможно драться с камнем, нельзя оскорбить утренний туман, поставить подножку ветру. В жизни существуют враги гораздо более страшные и жестокие, нежели просто наглый парень, сидящий на среднем ряду. Побесится да и сдастся – так я думал, глядя на него. Трудно было понять, зачем Мария так истово бросалась меня защищать от Красневского, и на каком основании она посчитала меня неспособным дать отпор обычным детским разборкам – ясно же, что ничего этот Красневский мне не сделает! В итоге так и вышло: мне Красневский не сделал ничего, а Марии пришлось уйти – чтобы Марию уволили, мой одноклассник придумал обвинить её в сексуальных домогательствах, и почему-то ему все поверили.
В одном случайном кухонном разговоре моя мама призналась: она тоже, вместе со всеми, подписала против Марии бумагу, которую накатал родительский комитет. В этой бумаге говорилось, что учительница русского языка и литературы Иртышова Мария Александровна вместо того, чтобы готовить детей к сдаче ЕГЭ, занимается с ними обсуждением произведений, не входящих в школьную программу. Мы и вправду на одном уроке писали сочинение по Сэлинджеру, а на другом – говорили про Стивена Кинга.
– Немножко некрасиво получилось, – сказала мать. – Все подписывали, и я подписала. Ничего страшного. Богатая семейка как-нибудь всё уладит. Главное, чтобы ты у меня в институт поступил.
Я ответил матери: «Да, конечно», но сам ещё несколько дней переваривал сказанное. Кричать на мать и обвинять её в трусости было бессмысленно – ведь поколение моих родителей воспитала советская тоталитарная система. Если эта система въелась тебе в самые кости – что тут поделаешь? Но с каждым днём я всё сильнее ощущал, что ничего общего со своими родителями не имею.
Мать и отец родили меня в возрасте, когда нормальные люди обычно уже детей не заводят – девяностые отец встретил в возрасте пятидесяти трёх лет, – наверно, у некоторых моих одноклассников дедушкам было примерно столько же, сколько моему папе, за три года до моего рождения ушедшего в запас в звании подполковника. Мама вышла замуж под сорок, это был её первый брак, тогда как у отца – второй, и, похоже, оформлять его он не слишком-то хотел: когда мне случайно попалось на глаза их свидетельство, дата поведала очень многое. Родители оформили отношения, когда ребёнку, то есть мне, было уже полтора года.
Отец всю жизнь положил на зарабатывание денег, мама – на обеспечение комфорта для меня и отца. В детстве большую часть времени из-за болезни я проводил дома, и у меня имелась прекрасная возможность изучить феномен такого явления, как обычная советско-постсоветская семья. Впечатлений мне хватило, и в детстве я решил: будь что будет, но впускать в свою жизнь чужого человека ради того, чтобы под старость было с кем мучиться, – глупость, и ничего больше. Чёрта с два: когда в наш дом пришла Мария, в моей голове всё перевернулось, и однажды в мае, в день прощания со школой, я сделал ей предложение на школьной волейбольной площадке, а когда меня отвергли – позвал её на повторное свидание. Мы должны были увидеться на этом же самом месте через год.
Сейчас-то я понимаю: в то время я просто поехал крышей, мой чайник дымился и свистел, но, если бы можно было перенести меня назад, в прошлое, я бы, наверное, снова рискнул и сказал ей всё то же самое. Просто потому, что в течение всех двенадцати лет, прожитых без Марии, я ни разу не мог с такой же неколебимой уверенностью сказать про свои чувства к кому-либо, ни разу не добился таких же ярких красок и отчётливых линий, какие окружали меня в те пропитанные утренним солнцем полшестого утра, когда я брёл по пустым московским дворам прочь от спортивной площадки, где мне дали от ворот поворот. Возле провисшей волейбольной сетки осталась стоять женщина; она вынула из меня половину моих жизненных сил, но я был благодарен ей даже за это – ведь то, что я пережил, было мощно!
Настолько мощно, что через несколько дней я свалился с обострением.
На выпускной вечер я тоже не пошёл: у меня ломило все суставы, даже сустав нижней челюсти. Павлик Разумихин по прозвищу Эмет потом позвонил и рассказал, что под конец вечера наглухо обкуренный Красневский хвастался: «Иртышова получила повестку в суд и теперь не отвертится». Я подумал, что Красневский просто гонит, но в конце августа, когда уже все выпускники поступили туда, куда хотели, несколько московских СМИ выпустили целых три статьи о «случае в одной из старейших московских школ».
Первая публикация в сети носила бульварный заголовок «Вы будете в шоке, когда узнаете! Что сделала учительница с красивым старшеклассником». В первую неделю сентября инцидент дошёл до телевидения.
Я увидел на экране сначала лицо директрисы, а потом и нашей классной руководительницы. Третьим мелькнувшим на экране работником школы был почему-то школьный учитель ОБЖ, который раньше, говорят, был военруком и начал преподавать безопасность жизнедеятельности, когда военную подготовку исключили из школьной программы. Он рубил воздух ладонью и скандировал: «Вот они, наши элиты! Протаскивают западные привычки, развращают детей!»
Я пытался отыскать Марию, звонил ей – без толку. Адрес её я добыл через районный отдел образования, в обход директрисы и завуча. Рванул в Королёв, целый день и полночи сидел под дверью квартиры – дома никого не было: телефон внутри не звонил, свет в окнах не горел.
Но я должен был что-то для неё сделать! И я бросился собирать материал.
Обзвонил тех своих одноклассников, кто мог сказать про Марию только хорошее, – Катя Бояринова, наша отличница, подавшая документы в Лондоскую академию искусств на курс режиссуры, прислала мне первую короткую видеозапись: из Европы она ничем больше не могла помочь. Второе видео прислал Эмет, третье – Прудникова, четвёртое записал Савченко из параллельного класса, он же подключил ребят из «Б» и помог смонтировать куски.
Я нашёл номер журналистки, которая выпустила материал на НТВ. Встречаться со мной она отказалась, моя информация её тоже не интересовала. По телефону женщина раздражённо сообщила, что эпизод, посвящённый событиям в нашей школе, несколько дней назад был удалён с сайта телекомпании – руководство приняло такое решение из-за указки свыше.
– Ваш материал тоже удалят, – сказала она напоследок.
Журналистка положила трубку, а когда я попытался подкараулить её возле входа в офис ТК, пригрозила мне полицией и хлопнула дверцей автомобиля прямо перед моим носом.
Мы с Савченко и Эметом решили залить отснятый материал на Ютуб, но провисел он недолго: через два дня, когда мы расшерили это видео до жалких пятисот семнадцати просмотров, Ютуб заблокировал наш канал. Мы создали новый – этот тоже не прожил и суток.
Вместе с нашими видео, сделанными, чтобы восстановить доброе имя Марии, из сети в одночасье пропали все материалы, её порочащие, – в том числе и чудовищная статья «Вы будете в шоке…». Некто прошёлся по Всемирной паутине с тряпочкой и избирательно потёр любое упоминание не только о случае в школе на Кутузовском, но и вообще всё, что было связано с фамилией Иртышовых, – кроме данных Википедии об отце Марии, её деде и прадеде-академиках.
Из Вики исчезли упоминания о потомках знаменитой семьи – и я теперь уже даже начал сомневаться, а были ли там эти данные? Раньше мне казалось, что да: на странице, посвящённой Николаю Ивановичу Иртышову, «одному из основоположников советской гистологической школы», было упоминание и о его внуке и о правнучках – Марии Иртышовой и её сестре, которая носила какую-то другую фамилию. Теперь я уже ни в чём не мог быть уверенным.
Пытался гуглить – Гугл молчал. В ноябре наконец-то добрался до Королёва и снова испытал потрясение: в квартире моей учительницы жили чужие люди. Они купили жильё через посредников и ни о какой Иртышовой знать не знали.
В мае две тысячи десятого в пять часов утра я приехал к воротам школы на Кутузовском и встал за оградой, напротив спортплощадки, где год назад я простился с любимой женщиной. Дыру в заборе – ту самую, что находилась сбоку от трансформаторной будки – уже законопатили, и на территорию проникнуть было нельзя. Год назад в середине мая я даже ночью мог ходить без косухи. А в две тысячи десятом на улице стоял такой дубак, что я несколько раз порывался уйти.
На тот момент активы мои выглядели плачевно: никаким богачом я не стал, постоянной работы не имел, и хотя жил отдельно от родителей и содержал себя самостоятельно, увы, список всего, чего мне удалось достигнуть за год – за тот год, когда я обещал Марии сдвинуть горы и повернуть реки вспять – был смешон и короток.
Я пытался работать аниматором, но первый же мой проект потерпел неудачу. Фрилансил на нескольких веб-ресурсах и рисовал короткий комикс для одного маленького издательства, но заработка едва хватало, чтоб обеспечить себя самого. Мне абсолютно нечего было предложить женщине, которую я когда-то любил. К тому же, у нас с Ксеней-чан несколько раз был дружеский секс, и хотя это, конечно, ни к чему не обязывало – я то и дело ощущал, что моя прежняя уверенность в чувствах к Марии была уже не столь крепка и незыблема, как прежде. Но всё-таки я обещал – и я пришёл: непонятно зачем, непонятно к кому.
Она, конечно же, не помнила ни про какую встречу. Она и не появилась возле школы, ни тогда, ни потом, ещё через год. Ждать было бессмысленно. В полседьмого утра две тысячи одиннадцатого я с облегчением покинул свой пост возле трансформаторной будки – как и в прошлом году, совершенно окоченевший, но почему-то весёлый. На сердце было легко.
Я получил индульгенцию, отпущение старых грехов – и бросился совершать новые. Мне казалось, что, дважды придя на несостоявшееся свидание, я честно заработал себе свободу. А потому, когда мне выпадал счастливый случай хорошо провести время с той или другой девчонкой, которая по какой-то причине выбирала меня сама (я всегда удивлялся и радовался таким подаркам судьбы), я не испытывал никакой вины – неужели должен был?
Мария пропала. Оказывается, так тоже бывает: вот есть человек, вот его адрес, телефон, электронная почта. Вот Всемирная паутина, в которой все мы оставляем свои следы. Хотя бы закрытая страница. Хотя бы резюме на Хедхантере.
Но от Марии ни в сети, ни в реальности не осталось ничего: ни упоминания, ни фото. У меня сохранились только её старые фотографии и наброски её портретов, да и эти наброски потом тоже сгинули. Я оставил их в дяди-Колиной квартире вместе с ворохом других этюдов, а после смерти учителя в его квартире хозяйничали чужие люди.
От Марии почти не осталось материальных свидетельств её существования. Зато она жила внутри моей головы. Я постоянно с ней беседовал.
Есть такой человек, Джон Кёниг. Он создал проект (страница на Ютубе и книга), который называется «The Dictionary of Obscure Sorrows» – на русский это переводится как «Словарь невыносимой печали» или «Словарь неясных скорбей». Это не словарь в прямом смысле – просто перечень неочевидных состояний, которые испытывает почти каждый человек, вот только назвать их не может: в большинстве языков обозначение для них отсутствует. Чувак ведёт свой канал на английском, и поэтому имеет в виду, конечно, только английский язык – но с русским, оказывается, ситуация почти такая же. Например, там есть слово «веймёдален», оно выражает чувство разочарования от того, что всё в этом мире уже было. Или «оккиолизм» – это когда человек полностью отдаёт себе отчёт в своей никчёмности.
Я нашёл в этой книге слово Jouska. Обозначает оно постоянный разговор внутри твоей головы – беседу, которую ты ведёшь с кем-то, кого уже, может быть, давно в твоей жизни нет. Или есть, но ты ему ничего не можешь сказать наяву.
Я почти всю сознательную жизнь провёл, находясь в состоянии «джуска». Если бы Кёниг не придумал это слово, его следовало бы придумать мне самому.
Мария сделалась моим постоянным собеседником по этой самой джуске. Наши с ней разговоры стали настолько привычными, что, кажется, иначе я никогда и не существовал. Я постоянно что-то ей доказывал, о чём-то спорил, ежедневно напоминал – как неправа была Мария, как она чертовски неправа.
Когда я наконец победил в японском конкурсе немой манги, мы с Марией беседовали чуть ли не пол-вечера. Она говорила: «Поздравляю», а я отвечал: «Подожди, то ли ещё будет».
Когда в издательстве Ксени-чан вышла книга «Возвращение немецкого солдата» – мой первый (и пока единственный) документальный комикс, где я выступал одновременно и художником, и сценаристом – я листал 72-х страничную книжку в мягком переплёте и представлял себе, на что бы обратила внимание Мария, открыв, к примеру, вот этот разворот. Или этот. Или другой.
Я надолго залипал на разговорах с ней, внося окончательные правки перед сдачей новых серий последнего крупного проекта, который мы с моим американским сценаристом закончили пару месяцев назад. В «Парусах Регора», киберпанковом сериале про войну, которую ведёт Империя планеты Ла против своей бывшей Провинции, Мария, сама об этом не зная, выступала в роли редактора – я тестировал каждый эпизод, спрашивая себя: а что бы сказала она, если бы увидела такую рисовку? А такую? Ей понравилось бы?
Когда я в мои четырнадцать ждал её появления в своей комнате и это чувство отличалось от ожидания других учителей-надомников – меня впервые посетило ощущение, что моя жизнь (и жизнь в целом) имеет смысл и цель. Что это за цель и что за смысл, я ещё не мог точно сказать.
И уже гораздо позже, когда мне исполнилось тридцать, до меня наконец-то дошло: если б не Мария, я вряд ли вообще пришёл бы к самим идеям цели и смысла. И вряд ли нарисовал бы что-то стоящее.
Если верить врачам, мне и в самом деле не подходит моя работа, та, что кормит меня с девятнадцати лет и позволяет жить отдельно от родителей. Доктора полагают, что для человека с больными суставами быть художником – это вообще дурь несусветная. Хотя, возможно, вы не вполне понимаете, о чём это я. Сейчас попробую объяснить.
Есть такая фраза: «ни дня без штриха». Для людей, имеющих отношение к искусству, фраза эта состоит из боли, крови и так называемых «возвратных депрессивных эпизодов» – увы, я слишком много общался с врачами, вот и наслушался их ёмких терминов. Но дело тут не в терминах.
Даже мои знакомые художники, у которых нет хронических заболеваний костей и суставов, иногда лезут на стены от бессилия, чтобы провести пресловутый «штрих дня». Ведь штрих этот должен лечь на бумагу не бесцельно. Надо, чтоб за самой незначительной линией прятался какой-то важный смысл. Художники разбивают лбы и стачивают зубы в мелкий песок, рисуют вином, чаем и пейнтбольными шариками, самые находчивые мочатся на холст или дрочат на ватман, а потом долго и тревожно рассматривают собственный эякулят: есть ли в этих брызгах что-то художественное? Всё это не от хорошей жизни и вовсе не из-за желания эпатировать публику, хотя выглядит, конечно, пугающе.
По правде, все наши ухищрения направлены на нас самих, а не на зрителя. Они нужны, чтобы придать силу и осмысленность тому самому проклятому штриху, который призван оставить в вечности ещё один твой прожитый день. Так называемое вдохновение, что якобы сподвигает людей сворачивать горы, – очень летучий продукт, вроде скипидара. Испарится – и нету, на его месте остаётся только вонючий след. Как говорил мой учитель дядя Коля, вдохновение – это три процента твоей картины, а все остальные девяносто семь – долбаная пахота, как у быка в упряжке. Того самого, греческого, что прёт себе бустрофедоном.
Ну, в общем, вы поняли. Рисовать и без того тяжело.
А теперь представьте, каково оно: когда плюс ко всему этому ещё и руки болят, и спина. Когда суставы опухают, а каждое утро ты прилагаешь усилие, чтоб пальцы начали сгибаться.
Если вдуматься, дела у такого художника должны идти весьма и весьма хреново.
Но нет (спойлер!).
Опытным путём я убедился: если правильно рассчитывать силы, любое задание можно выполнить в срок и с огоньком. Главное – вовремя делать перерывы, не забывать пить лекарства и не психовать зазря. И вообще, следить за телом, словно за полезной техникой. Кому-то это покажется занудным, а для меня чёткое следование распорядку означает просто жизнь. Не всё в человеческом организме устроено как механизм, но всё-таки кое-что устроено именно так.
Мы в школе проходили Гончарова (не знаю, проходят ли его сейчас), и был у него герой по имени Штольц, расчертивший свою жизнь по жёсткой схемке, – при этом он сильно проигрывал няшке Обломову. Кто ж знал, что рано или поздно я и сам превращусь в занудного Штольца, и моё восприятие мира, искусства и себя самого не смогут существовать отдельно от моего расписания, моего режима и той аскетической муштры, которая кому-то другому покажется унылым бременем, а меня она – всего лишь способ выживания.
Проводя много времени в разных отделениях московских больниц (в кардиохирургии, в ревматологии, в кардиологии и терапии) я иногда замечал такую штуку. Стоит только человеку один раз раскиснуть, процесс становится необратимым, и его уже очень сложно прекратить: все окружающие, в том числе самые близкие, я не говорю уже о чужих людях (их разжалобить легче всего), включаются в игру хорошо отлаженного оркестра, в котором главную скрипку играет, конечно же, наш несчастный страдалец. Он не притворяется, ему на самом деле плохо, но игра в оркестре не делает его жизнь лучше. Потому что скрипка хоть и солирует во всей этой истории, но за дирижёрский пульт она не встанет никогда, ведь там уже стоит кое-кто другой. Там стоит болезнь. Слабость, жар, боль разных видов: саднящая, ноющая, сверлящая, разрывающая на куски – или тихая, мелкими каплями долбящая в одну и ту же точку. А если боль дирижирует, разве получится хорошая музыка?
И я в какой-то момент я заставил себя поверить в то, что мой старый дирижёр уволился, спился, сторчался – что хотите – и теперь на его место встал другой. На место боли я поставил искусство; я решил быть не профессиональным пациентом, а профессиональным художником. Пафосно звучит? Есть такое. Но знаете, иногда можно и добавить немного пафоса. Совсем немного. В нём всё-таки присутствует концентрат энергии, а без энергии фиг ты чего нарисуешь.
А ещё искусство, кажется, гораздо лучше проявляется, если не относиться с повышенной серьёзностью ни к теме, с которой работаешь, ни к своим собственным проблемам. Есть такой мангака Хидэо Адзума[3], он нарисовал книжку «История моих исчезновений». Когда его творческие дела не заладились, он ушёл из дома, жил на улице, болел, питался из мусорных баков. Он смог показать всю мерзость и грязь такого существования, всю горечь, что была в его душе, – но комикс вышел смешным. Хотя и грустным тоже. Думаю, в этом и состоит секрет рисования комикса – ведь мало кто может быть ироничным, но не злым. И, беря в руки карандаш, помнить о том, что, как бы хреново тебе ни было, любым твоим движением управляет только любовь.
Глава 2
Негабаритный багаж
Весной две тысячи двадцать первого года я собрался лететь в Минск, потому что там выставлялись картины моего учителя, и мне обязательно нужно было их увидеть.
И вот
– когда я покупал билет,
– когда прибирался в квартире перед отъездом,
– когда вечером ложился спать в предвкушении перелёта (первого за несколько последних лет).
– когда просыпался утром заранее, ни свет ни заря, чтобы успеть на рейс, вылетающий в полдень (в аэропорту нужно быть в пол-одиннадцатого, из дома выйти в полвосьмого, а встать нужно в пять, потому что мне на сборы требуется вдвое больше времени, чем здоровому человеку).
– когда входил в здание аэропорта,
– когда проходил регистрацию…
…и досмотр (та ещё история; иногда тётеньки в форме требуют, чтоб я снял дорожный поясничный корсет).
– когда садился в кресло и пристёгивался ремнём безопасности (странно, почему на местах, которые мне достаются, всегда так сильно выдвинута пряжка ремня? Не может быть, чтобы у всех этих людей были такие толстые животы)
– и когда мой самолёт, долго и уныло кативший по лётному полю до взлётной полосы, наконец оторвался от земли…
Я не знал и не ведал, что моя жизнь, которая к настоящему моменту была довольно чётко распланирована (а попробуйте как-то по-другому договориться с моими суставами), внезапно закрутится, словно аттракцион в парке развлечений.
В начале апреля я сказал матери, что через пару недель собираюсь лететь в Минск из-за картины учителя, и мама, конечно же, всё поняла по-своему. Она не верила, что можно сорваться с места только чтобы поглазеть на полотно, которое я сто раз уже видел в дяди-Колиной мастерской. Мама посчитала, что цель моей поездки совсем другая.
– Господи, Лёшенька. – Она прижала руку к груди. – Вы помирились, да? У Ксюши остановишься?
Ксеня-чан (имя огонь, откуда оно взялось, расскажу позже) – моя так называемая жена, по крайней мере в глазах мамы это выглядит так. Мы поженились пять лет назад, и, хотя у нас был уговор развестись через три года, – до сих пор в наших паспортах стоят штампы. Хотели сделать это в прошлом году, но тут началась пандемия и всё зависло.
Посчитав мой неопределённый кивок достаточно убедительным, матушка вздыхает, улыбается, молчит несколько секунд и, борясь с желанием задать следующий вопрос (а может быть, не один), суетливо принимается за какие-то необязательные кухонные дела – отрывает от рулона белую тканевую салфетку, протирает ручки водопроводного крана и боковую часть раковины, и без того сухую и блестящую.
– Давно пора, – бормочет она себе под нос. – Давно, давно пора! А то что ж такое, муж в одном городе, жена в другом.
– Нормально, – говорю я, просто чтобы сказать хоть что-нибудь. – Многие так живут.
– Глупости. – Мама аккуратно разглаживает салфетку, расстелив её на краешке стола. – Придумали тоже. Вот найдёт себе другого… Будешь знать.
Но чтобы не вывести меня из себя, она меняет тактику, снова вздыхает и говорит примирительно:
– Хотя, конечно, вам виднее… В наше-то время всё по-другому было.
В их время всё действительно было по-другому.
Например, рисование комиксов мать до сих пор не считает чем-то серьёзным.
– Ну что это такое, Алёша, – говорит она, листая мою новую серию. – Какие-то детские картинки. Может, найдёшь нормальную должность?
«Нормальной» мама по старинке считает чтение лекций и преподавание на кафедре в Худаке. Она считает престижным, если художник получает заказ от мэрии или городского совета. В крайнем случае – когда он работает на постоянке в крупном издательстве. Маму не волнует, что опытный аниматор или гейм-дизайнер выполнением разового крупного заказа способен с запасом перекрыть трёхмесячный заработок постоянного работника.
– Ваши модные профессии я не понимаю. – Она хмурится и нервно поправляет пояс халата. – Знаю только, что на госучреждение работать надёжней. Хочешь, спрошу у Лидии Васильевны, она всю жизнь в Третьяковке провела – может, у них есть вакансия? Для тебя это был бы лучший вариант!
– Что мне делать в Третьяковке? – отмахиваюсь я. – Бумажки архивные перебирать?
– Это называется каталогизация, – говорит мама со знанием дела.
Сама-то она двадцать лет проработала в музее, и лучше места для меня не может себе представить.
Но потом всё равно отказывается от такого варианта.
– В музеях сплошная пыль. – Она снова хмурится и качает головой. – С твоей-то астмой…
Когда она заводит речь про моё здоровьичко, я, честно, иногда не выдерживаю и начинаю огрызаться, и мама обиженно хмурится.
Отец, если хотел убедить меня в своей правоте, не заводил со мной таких душеспасительных бесед. Просто орал мне в лицо или, наоборот, неделями бойкотировал.
Отец родился в городе Пскове, в немыслимом для меня тридцать восьмом году прошлого века в семье младшего лейтенанта. Папино детство прошло в эвакуации (эвакуировали прабабкин завод), а потом родители отца воссоединились в послевоенной Москве. Мне ничего не было известно о том, как на самом деле сложилась судьба моего деда, знаю только, что на войне он служил сапёром, во время штурма реки Днепр получил ранение в ногу и в голову, целый год мотался по госпиталям, заработал туберкулёз. Потом преподавал топографию в военном училище и умер совсем рано, в сорок четыре года, когда моему отцу было всего семнадцать. Иногда мне казалось, что долгая и насыщенная жизнь досталась моему отцу не случайно, и он проживал её за двоих: за себя и за деда Лёву, которого я никогда в жизни не видел, только на фотографиях.
Сразу после школы отец пошёл в армию и уже во время службы принял окончательное решение пойти по дедушкиным стопам – другого варианта он себе не представлял. Возможно, решение было принято после того, как ему, девятнадцатилетнему срочнику, в составе танковой бригады довелось отбыть в Венгрию и участвовать в международной операции «по подавлению возрождённого нацистского режима». Вернулся из армии, поступил в военную академию – и его судьба была определена.
«Международная операция» была не единственной на отцовском счету. После Венгрии случилась Прага, где отец задержался на несколько лет. О своей службе за границей отец вспоминал всякий раз, когда в какой-нибудь беседе речь заходила о противостоянии между Россией и Западом. Отец считал, что о Европе знает всё.
– Ваши учебники – всего лишь психотерапия, – с уверенностью говорил он. – Это только на бумаге война закончилась в сорок пятом. На самом-то деле фашистов в Европе ещё не добили. Вам придётся добивать, молодым.
После службы за пределами СССР тридцатилетнему отцу присвоили звание майора. Подполковника ему дали перед самым выходом на пенсию. Мать как-то раз обмолвилась, что первая отцовская жена в восьмидесятых уговаривала его купить домик в Крыму, чтоб уехать наконец туда – лечиться и жить. Но планы супругов не совпали, они оба остались в Москве, где через пару лет женщина скончалась от развившейся внезапно болезни крови. Детей они так и не завели.
В девяностые, когда многие другие военные, списанные в запас, начинали спиваться и деградировать, отец, к тому времени уже потерявший первую жену, наоборот, собрал себя в кулак. За годы службы он приобрёл множество связей, и, хотя собственный бизнес у него поначалу не задался, кое-кто из влиятельных друзей продвинул его в администрацию завода металлоконструкций. Отец очень гордился, что ему удалось вытянуть этот завод в девяностые, – как он считал, это произошло исключительно благодаря его военному опыту и умению вести себя в экстремальных ситуациях.
– Будущее только за военными, – повторял он, если дома речь шла о моём поступлении в институт. – В академию генштаба тебя, конечно, не возьмут. За то, что здоровья у тебя нет, скажи спасибо своей матушке. Но в дипломатическую – только попробуй мне не пройти.
Отец давил и давил.
– В военном комплексе вращаются и будут вращаться настоящие большие деньги, – внушал он мне. – Ты мог бы работать в министерстве. Уметь правильно просчитать обстановку даже важнее, чем уметь правильно держать автомат.
Такие разговоры казались мне чистым безумием. Я списывал их на отцовский возраст и олдскульное воспитание.
– Какой ещё автомат? – Я старался разговаривать с ним как можно мягче. – Скоро все страны расформируют военные комплексы, у людей будут другие потребности. Нужны будут не солдаты, а деятели искусства.
Жилистый отцовский кулак сжимался и бессильно опускался на столешницу.
– Идиот! – восклицал он. – Кто тебе такое в голову вбил? Искусство, говоришь? А куда Америку будем девать?
– Зачем её куда-то девать? – недоумевал я. – Пускай живёт себе за океаном. А мы будем тут, у себя, строить демократическое общество.
– Побеседую-ка я с твоей Марь-санной, спрошу, откуда в твоей голове весь этот бред. – Отец поднимался с кресла, нависал надо мной, и мне казалось, что на мои плечи медленно опускается каменная плита. – Попрошу её рассказать, что она знает про пятьдесят шестой год. Что знает про шестьдесят восьмой, про нацизм что знает, и вообще… Проверю.
Фраза действовала безотказно. Я замолкал. Не мог представить себе, что отец может наговорить Марии. Мария была непредсказуемой. Вдруг она рассмеётся ему в лицо? Или примет невозмутимый вид, промолчит и лишь презрительно приопустит краешки губ – и отец, придя в ярость от подобного высокомерия, выгонит её прочь из нашего дома. Нет, я не мог такого допустить. А потому – Марию лучше было не втягивать. Больше я никак не смог бы её защитить перед отцом: в нашем доме я всегда занимал позицию слабого звена.
Что касается спора о моей несостоявшейся военной карьере (мне даже писать эти слова смешно) и об отцовской состоявшейся, он всегда напоминал мне конфликт между главным героем манги «Дзипангу»[4] лейтенантом Кадомацу, попаданцем из современности, и японскими военными из сороковых годов – лейтенантом Кусакой и адмиралом Ямамото. Японцы, воюющие на стороне нацистской Германии, пытаются втянуть в сражение попаданский ультрасовременный эсминец «Мирай», и лейтенанту Кадомацу стоит больших усилий объяснить людям из прошлого, почему команда военного корабля не готова участвовать в войне. Я, конечно, выступал в ипостаси Кадомацу, а отец – в роли всего милитаристского правительства Японии сороковых годов прошлого века. От старости у отца лицо оплыло, глаза превратились в щёлки – он и в самом деле походил на японца.
Наша с отцом история закончилась так: я не пошёл сдавать ЕГЭ по английскому и бросил все силы на подготовку к экзаменам в Худак – Художественную академию, на монументальную живопись.
Родительский ответ на моё решение поступать в Худак я почувствовал на собственной шкуре однажды поздним вечером: отец пришёл домой около одиннадцати и с одного пинка открыл дверь в мою комнату. Не дав мне опомниться, ударом в затылок он впечатал моё лицо в клавиатуру компьютера. У меня перед глазами вспыхнул фейерверк.
– Володечка! Не тронь ребёнка! – закричала мама.
Было чертовски больно. Я поднял голову. Увидел кровь на клавиатуре.
– Господи! Ты ему нос сломал!
Мама уже не кричала на отца – просто стояла посреди комнаты, застыв как соляной столп, прикрывая рот дрожащими ладонями. Я сам не заметил, как в руках у меня оказалась та самая залитая кровью клавиатура.
– Пошли вон! – Я орал так, что даже пустые бутылки на полках вдруг загудели. – Пошли вон!
Я махал клавой, как берсерк топором.
Не знаю, что было бы, если б отец не отшатнулся. Я вполне бы мог оглушить его или покалечить, но удар пришёлся на полуоткрытый торец двери, а потом на палас беззвучно упало несколько чёрных литер.
Я был выше отца – и сильнее, до меня вдруг дошло это, когда он нелепо и жалко прикрыл руками затылок.
Клавиатура проехалась по его спине с гораздо меньшей силой, чем могла бы: я сам испугался того, что сделал.
– Алёшенька, – лепетала мать, – Володя…
А потом она сделала лучшее, что только можно было: вытащила отца из моей комнаты и удерживала его, пока я сгребал впопыхах свою сумку и выбегал на улицу. Мама дала мне возможность уйти из родительского дома – как мне думалось, навсегда.
Лет пять назад мама очень сильно сдала, во всех смыслах. Перестала красить волосы и покупать себе новую одежду. Потом у неё под коронкой сломался зуб; она немного повздыхала, да и оставила всё как есть. Из-за тяжёлых отношений с отцом в гости к родителям я приходил нечасто, но всякий раз, когда мама, встречая меня в коридоре, растягивала губы в улыбке, я спрашивал её про стоматолога.
– Нет у меня времени, – отмахивалась она. – Да и незаметно почти.
Это она думала, что незаметно.
Отец в нашем доме всегда был царём и богом. Он критиковал мать и никогда ни за что не был ей благодарен. Даже в своём холецистите отец обвинил маму: по его мнению, дело было в неправильном питании – а кто в доме должен отвечать за здоровую еду? Он гремел, а мама соглашалась – так оно у них было заведено. Если я вставал на мамину защиту – отец орал уже на меня, а мать его молча поддерживала.
Все последующие годы после нашей ссоры мама пыталась сохранять нейтралитет. Она, хоть и не радовалась моему выбору профессии, всё-таки нет-нет да переводила мне на карту небольшие суммы, а когда я начал зарабатывать сам – искренне меня поздравляла. Отец же – как я ни пытался донести до него свои первые успехи – обдавал холодом и презрением. За всё время мне только один раз подвернулась возможность помириться – в две тысячи четырнадцатом, на отцовском дне рождения.
В тот год я купил ему подарок – дорожную сумку. Я с большим трудом отыскал её на Алиэкспрессе. Модель была сверхфункциональна и испытана мной не раз: я искал отцу в подарок такую же сумку, как была у меня самого. Не очень большая, размером примерно с туристический рюкзак, с дополнительными карманами по бокам. Длину ручек можно регулировать или сделать из них рюкзачные лямки: раз-два – и сумка становится рюкзаком. На одном из рёбер основания установлено крепление из жёсткого пластика. С помощью крохотных рычажков из этого крепления выдвигаются колёсики. Теперь сумку можно поставить вертикально, и, достав из бокового кармана дополнительную телескопическую ручку, катить её как чемодан.
Лет десять назад такую сумку Ксеня-чан привезла из одной своей поездки в Японию. Она использовала её всего лишь один раз во время перелёта обратно, а потом забросила в кладовку, потому что для Ксениного имиджа расцветка выглядела скучной. Сказочно прекрасная вещь так бы и пылилась там, если бы однажды перед Новым годом на мою подругу не обрушился аттракцион неслыханной щедрости и она не начала разбирать и раздаривать старые вещи. Впрочем, чудо на колёсиках досталось мне не бесплатно; Ксеня-чан дарила вещи только девчонкам. Парням она их предлагала за символическую плату. Когда я впервые полетел с этой сумкой лоукостером, меня обязали сдать её в багаж как негабаритный груз – но я не расстроился, потому что увидел в этом символический смысл: с этим нелепым многофункциональным устройством у нас оказалось много общего. Я ведь тоже в жизни своих близких был ничем иным, как негабаритным грузом, который пытается оправдать свою неудачную физическую форму – важным наполнением и повышенной функциональностью.
Вот и отцу я купил такую же: той же фирмы, того же размера и расцветки. Чтобы отец складывал в боковые карманы очки, дорожную подушку и коробочку с таблетками. Чтобы, взглянув на неё однажды, отец вдруг взял да и вспомнил обо мне.
В отдельном зале мясного ресторана неподалёку от метро «Новокузнецкая» столы были сдвинуты буквой П, отец сидел в центре горизонтальной перекладины. Мама усадила меня рядом с собой, возле правого угла, через три человека от отца. Гости были намного меня старше, в основном отец собрал бывших военных и своих подчинённых из заводского руководства.
Подарок был принят; не распаковав, отец поставил его возле ножки стула. Так как я опоздал, основные тосты были уже позади – за именинника, за родителей, семью и за тех, «кого с нами нет». Все поддерживали беседу: обсуждали события в соседнем государстве. Мама подкладывала мне овощи и тонко нарезанные кусочки отварного языка, официант принёс тарелку с картошкой и котлетой по-киевски. Отец один раз посмотрел в мою сторону и взгляд его показался мне мягче и дружелюбнее, чем прежде. Что было тому причиной – количество выпитого, внимание гостей? А может, он просто перестал на меня сердиться?
Он поднялся с места.
– Выпьем за Ялту, – сказал он и почему-то обернулся ко мне. – За Севастополь и Феодосию. Слышали, молодые? Мы вам недавно подарок сделали, землю вернули. – Он обернулся вдруг и кивнул в сторону моего свёртка. – Но вы же дети общества потребления, ничего не цените.
Я всегда очень плохо разбирался в политике. Пока учился в школе, ещё как-то пытался, но потом, чем больше в стране происходило событий, тем всё больших временных затрат требовало от меня моё социологическое просвещение. А времени не было: я выживал, зарабатывал, вставал на ноги, занимался здоровьем. Поэтому – что уж скрывать – в вопросах общественного устройства я просто полагался на мнение человека, которому целиком доверял. А доверял я Ксене-чан, единственной близкой подруге и фиктивной жене, активистке и феминистке, ярой поборнице социальных свобод.
Моя реакция в ответ на отцовские слова была непроизвольной, но искренней. Мама не успела схватить меня за руку – её пальцы метнулись к моему рукаву, но я уже был на ногах.
– Так вы сами же эти земли и отдали. – Мой язык произнёс это прежде, чем я успел подумать, что говорю и кому. – Ваше поколение, не моё. А теперь – чего возвращать-то, чужое оно и есть чужое.
Лицо отца побагровело, рюмка в руке затряслась так сильно, что водка выплеснулась на человека, сидевшего справа, – это был какой-то бывший сослуживец, крупная шишка в министерстве. Он крякнул и потянулся к салфетке.
– Ага… Заговорил?.. – Отец задохнулся и рванул сводной рукой воротник рубашки. – Твоя шлюха мозги тебе промыла?
Что было дальше – понятно, лучше не продолжать. Хотя, по сути, – что я такого нового сказал?
Мама – её лицо было бледным, губы сжаты – вытащила меня из зала за рукав, подтолкнула к двери и потребовала, чтоб я ушёл, всего лишь быстро повторяя одно-единственное слово: «Пожалуйста, пожалуйста».
Когда началась пандемия, все заболели. Все, кроме мамы. Она оказалась воистину отлитой из титанового сплава.
Мне повезло: я, в отличие от многих моих знакомых, отделался лёгким испугом. Недельный насморк и больное горло почти никак не усугубили ни мою ситуацию с сердцем, ни состояние суставов, что не могло не радовать. Я и раньше подозревал о своей везучести – меня даже в больницу не забрали, оставили дома – вернее, в моей мастерской на Лосиноостровской. Да и тест оказался отрицательным. А вот у отца поражение лёгких было восемьдесят процентов – и заболел он в прошлом году, в марте, когда ещё врачи не знали, как лечить злополучный вирус.
Похоронить отца вовремя не удалось. Тело продержали в морге два месяца и разрешили забрать только в мае. Отпевали в больнице, и всё время отец лежал в закрытом гробу, а на кладбище пустили только нас с мамой и больше никого.
Это были странные похороны – о таком я только в книжках читал, в романах про всякие ужасы средневековой чумы. Мама долго не соглашалась на кремацию и наконец-то добилась своего: у отца теперь есть нормальная могила. Помню, как на кладбище пришли какие-то работники в спецкостюмах и посыпали могилу извёсткой – зачем, никто из нас не понимал, в том числе и сами люди в спецкостюмах.
Отцу не повезло вдвойне: только первых москвичей, погибших от вируса, хоронили таким диким способом. Потом уже врачи более-менее разобрались с тем, как он распространяется и мутирует, и подобные похоронные предосторожности уже стали излишними. Одна мамина подруга померла, так на кладбище пустили и близких, и друзей, и всех подряд – главное, чтобы все были в масках.
Отца же провожали только мы вдвоём с мамой, хотя, несмотря на внушительный возраст, жизнь он вёл весьма активную – ходил на работу, заключал договора, умел пить и мог постоять за себя, – то есть вполне заслуживал и торжественного молчания толпы, и венков, и надгробных речей, и даже оркестра с маршем.
На кладбище, совершенно обалдевший от беготни по инстанциям и выправления разных бумаг, я никак не мог осознать, что передо мной, в длинном деревянном ящике, лежит тело моего отца, и я уже больше никогда не смогу ничего наладить – ни помириться с ним, ни поругаться. В наших спорах никто не победил, никто не проиграл, многолетняя наша борьба повисла в воздухе – как висят в воздухе нарисованные герои сражения. А потом переворачиваешь лист – и там пусто.
После похорон, во время первой ковидной весны, я переехал в родительский дом. Оставил большую часть своих вещей в мастерской на Лосиноостровской и вернулся в пустую комнату на улице Барклая, туда, где провёл детство и школьные годы.
Рапахнув дверь, я случайно задел какую-то вещь, которая лежала на полу, справа. Под ногами у меня валялась новая дорожная сумка в подарочной упаковке.
На что я вообще рассчитывал? Отец даже не открыл мой подарок, а уж о том, чтоб взять его с собой в поездку, видимо, не шло и речи. Сумка пылилась в моей комнате за дверью, а я прежде, когда заходил сюда, даже не замечал её, или, может, взгляд мой не раз скользил по поверхности свёртка, но мозг установил фильтр и усиленно старался не пускать в сознание болезненную информацию.
Я сидел на полу, прислонившись спиной к шкафу, и держал на коленях новую и ненужную вещь. В комнате было пыльно и пусто, как и внутри моей головы; промелькнула единичная яркая вспышка, она уколола меня, словно игла, и погасла. Пришло внезапное осознание: у меня и в самом деле нет отца. Его просто – нет.
А может, никогда и не было.
В том моём чувстве пряталось ещё что-то, чего я не понял: просто не успел. Долго сидеть на одном месте было непозволительной роскошью, ведь тогда я жил в жёстком дедлайне. Наш американский проект «Паруса Регора» во время пандемии вышел на новый виток, и серии требовалось выпускать в ускоренном режиме, по четырнадцать страниц каждые две недели. Деньги спонсор тоже выплачивал вовремя, и суммы по российским меркам выглядели весьма солидно. Рассиживаться было некогда, я засунул сантименты куда подальше, заставил себя подняться и убрать свой несостоявшийся подарок в прихожую, на антресоли.
И только через год в апреле, во время сборов перед поездкой в Минск, я достал дорожную сумку – свою собственную, старую, – и выяснилось, что, пока она стояла в кладовке, на неё опрокинулась баночка с каким-то масляным содержимым. Ни я, ни мама не могли точно сказать, что это было такое и для чего оно хранилось среди других вещей.
По всему дну и нижним карманам растеклось огромное жирное пятно с прогорклым запахом, а после того как мама оставила сумку отмачиваться в стиральном порошке, жёсткое дно полностью отслоилось.
– Есть же отцовская, – вспомнила мама.
Она называла сумку «отцовской», хотя отец ни дня её не носил.
Пришлось доставать с антресолей вещь, один взгляд на которую вызывал у меня грустные мысли.
А мама поехала в отпуск с чемоданом.
Она уже через полгода после отцовской смерти принялась мечтать: вот закончится пандемия, и она наконец-то поедет… Куда? Поначалу она заикнулась про Крым. Как папина вдова, она ещё два или три года после его смерти имела право на какую-то суперльготную путёвку в новый ялтинский санаторий. Я вздыхал и кивал головой: кто я такой, чтоб давать матери советы? А та потом вдруг взяла и с несвойственной ей резкостью заявила, что ни в какой Крым не поедет.
– Ну её, эту Ялту. Уж лучше Владимир.
Вспомнила, что «сто лет не видела сестру», что у неё есть наследная дача в Порецком, где «и дом наполовину мой, и в церкви напротив родная бабка венчалась». Слушая её, я чувствовал, как у меня, словно в детской сказке, по очереди – один за другим – в груди лопаются железные обручи.
– Я что хочу сказать… – сказала мама на прощание. – Если вы с Ксюшей помиритесь, пусть она перебирается обратно в Москву. Не уезжайте на Лосинку, живите тут. Квартиру я вам оставлю.
– Чего?
Я снял очки и потёр переносицу, чтобы сосредоточиться. Сердце принялось слегка попрыгивать. Вообще-то оно не должно было, но, похоже, я снова забыл выпить таблетку.
– Я говорю, – продолжала мать, – тётя Аня насовсем меня к себе зовёт. Не сразу, конечно. Но, знаешь, вдвоём нам будет не так одиноко. Да и у вас тут всё наладится.
– Ма, если я тебе здесь мешаю… – начал я, но она замахала руками.
– Не выдумывай! Я же не из-за тебя – я из-за Ани! Дочка у неё к мужу уехала, одна она теперь. Да и мне, если честно, так тошно тут, сил никаких нет.
Она оглядела мою комнату.
– У тебя в детской ещё ничего, а вот в гостиной… – Мама сжала зубы и шумно выдохнула. – Всё хожу по дому и думаю, думаю…
– Мама!
Я почувствовал укол вины.
– Ладно тебе! – Она всплеснула руками. – Приедет Ксюша – хорошо. Не приедет – может, ещё кого себе найдёшь. А может, мне самой у Ани не понравится. Вернусь тогда обратно.
Я не хотел её насильно удерживать возле себя – она и в самом деле никуда раньше не ездила, только в моём глубоком детстве возила меня на море. Мне давно уже хотелось, чтобы мама чуть-чуть пожила для себя. Но – вот так, резко…
– Владимир недалеко, – сказал я неуверенно. – В случае чего – и правда, вернёшься.
– Три часа на поезде, – кивнула она. – На скоростном ещё быстрее. Если заболеешь, приеду в тот же день.
– Зачем?..
Она что, до сих пор во мне сомневается? Не доверяет, думает, что я за все эти годы не научился жить один?
– Да не сомневаюсь я. – Она вздохнула. – Ты же с Ксюшей будешь. Но обещай мне: если, не дай бог, обострение – я узнаю об этом первая.
Глава 3
«Сиреневые крылья»
Профиль минской галереи случайно выплыл у меня в ленте Инстаграма[5]. Это новое пространство открылось в декабре позапрошлого две тысячи девятнадцатого года, за три месяца до официального объявления о карантине. Во время локдауна деятельность галереи полностью перешла в инсту[6]; они добавляли в ленту работы современных художников, фамилии которых мало о чём мне говорили – ведь я давно отошёл от академической живописи и не особо следил, что происходит в профессиональной среде.
Я вряд ли обратил бы внимание на страницу этого проекта, если бы в ленте, среди чужих артов, заметок и фотокотиков, вдруг не выплыла работа моего учителя.
Экран заполнило сложно устроенное цветное пятно, состоящее из крохотных мазков, похожих на тонкую лесную паутину. Или на ветки, сплошь усеянные лепестковой пеной, по которой скользили вечерние солнечные лучи – от белоснежных через абрикосовый к светло-лиловым оттенкам, а в этих лучах, словно запущенный в небо крест, летел крохотный самолётик.
Хитро исполненный, самолётик этот с первого взгляда можно было и не приметить. Картина висела у дяди Коли, возле окна, часто мелькала у меня перед глазами и в конце концов сделалась для меня просто фоном, ярким пятном – и самолёта я почему-то не видел вплоть до того самого утра, после ночёвки в мастерской. Просто шёл мимо, привычно чиркнул взглядом по висевшему на стене полотну, и что-то меня остановило. Самолёт летел и сверкал крыльями, а я, сумевший отыскать дяди-Колину пасхалку, весь день потом ходил счастливый.
«Сиреневые крылья» были первой и единственной картиной, которую я копировал целых пять раз. Как вспомню – вздрогну. На пятый мой вариант дядя Коля не скривился, как обычно, а буркнул: «Нормально». Это была обычная его похвала.
– У меня ещё много, вон, – кивком он указал на кладовку, – целая куча всякой всячины. Будем копировать или как?
Потом учитель усмехнулся, повернул подрамник оригинала обратной стороной к себе, взял чёрный несмываемый маркер и написал крупными кривыми буквами:
«Дарю картину “Сиреневые крылья” Лёше Девятову, моему лучшему копирщику»,
потом подумал и дописал внизу чуть помельче:
«Не будь копирщиком. Будь художником!»
И поставил подпись: слепленные буквы Н и К, лежащие на боку.
– Я тебе её подарил, – важно сообщил он, но только я несмело шагнул вперёд, к картине, дядя Коля хитро прищурился, заступил мне дорогу и покачал головой. – А вот брать её погоди.
Я отступил на полшага и подумал: «Розыгрыш!»
Учитель снова установил картину на треногу. Копия стояла на второй треноге, два одинаковых изображения смотрели друг на друга.
– Картина твоя. – Дядя Коля повертел в ухе серьгу. – Она будет ждать тебя тут, в мастерской. А вот когда окажешься на мели…
Он почему-то был уверен, что рано или поздно я окажусь на мели.
Учитель подвинул треногу под другим углом, повернул копию к свету и отступил на несколько шагов – полюбоваться инсталляцией.
– Дядь Коль… – пробормотал я. – Вы же пошутили, да?
– Я тебе врал когда-нибудь? – Густые брови взлетели наверх. – Сказал же: твоя она. Сильно хочешь – забирай, конечно… Продай.
– Не продам, – сказал я. – Я вообще её не продам никому.
Дядя Коля театрально закатил глаза к потолку, но я повторил:
– Не продам.
Учитель громко выдохнул, закашлялся и наконец махнул рукой.
– Ну и дурак. – Его голос был хриплым, в нём ещё булькал кашель.
Улыбка его погасла, он посерьёзнел, нахмурился и потребовал, чтобы я подмёл пол в мастерской и оставил его в покое.
Подаренную картину я так и не забрал.
Если бы я даже захотел владеть этим полотном, мне всё равно было бы некуда его отнести. Из дома к тому времени я уже ушёл, а моя первая рабочая студия на Сходне была перевалочным пунктом для такого множества народа самого разного пошиба, что я даже таблетки там не хранил – я уж молчу о деньгах или каких-то ценностях.
Цикл картин «Праздник авиации» («Сиреневые крылья» были частью этого цикла) учитель написал в самом начале перестройки. «Праздник» вышел вовсе не праздничным.
Чёрные металлические птицы на фоне тусклого, холодного зарева.
Воздушная армада, повисшая над городом в лучах тревожно мерцающего прожектора.
На фоне военной эскадрильи – маленький восторженный пилот, отдающий честь человеку в маршальской форме. У маршала свиноподобное лицо.
И, наконец, картина, за которую дядя Коля получал зуботычины чуть ли не до самой смерти. Маленький европейский город, подвергнутый бомбардировке с воздуха. Горящая базилика, развалины лестницы, подозрительно напоминающей Испанскую. Бегущие по улице крохотные человечки. Во главе кадра – оскаленное лицо человека, сидящего за штурвалом. Дым одного из бомбардировщиков складывается в буквы, выпирающие из картины: «Надо будет – повторим».
Дядю Колю критиковали за милитаризм, за извращение действительности, за агрессивный китч. В период, когда дядя Коля писал свои самолёты, в моде был мимишный Илья Глазунов с его лубочными коллажами.
В отличие от дяди Коли я мало рисовал реальных самолётов – зато других летательных аппаратов на моём счету было немало. Особенно в последнем проекте «Паруса Регора», где действие происходило на планете Ла системы Альфы созвездия Парусов. Мегалёт – это такая штука, которая может преодолевать расстояния не только внутри атмосферы планеты Ла, но и выходить в безвоздушное пространство. Самые крутые модели мегалётов оснащены боекомплектами на случай внезапных воздушных столкновений: на планете Ла шла давняя война Империи и Провинций, и, находясь в воздухе, даже пассажирские суда не были застрахованы от нападения противника.
Дядя Коля не приветствовал мою работу в индустрии графических историй. Вряд ли ему понравились бы мои мегалёты.
Он не упускал возможности напомнить, что рисование комиксов снижает мою планку, и, если я не хочу потерять навсегда свой и без того невеликий талант, нужно заниматься «чистым» искусством. Однако внутри меня что-то ломалось: живопись начинала сильно на меня давить.
Я попробовал – и мне понравилось двигать персонажей, вращать пространство, играть с ракурсами, как будто в руках моих оказалась маленькая видеокамера, и жила она на самом кончике карандаша. Меня тянуло в мир, где сюжет рисунка не пропадает в одну секунду, изображающую так называемое «здесь и сейчас».
Нет, дядя Коля не был консерватором – он сам говорил мне, что я должен любить то, чем занимаюсь, ведь без любви искусство долго не живёт. Просто учитель счёл мой объект недостойным любви. А ведь было время – он и сам работал в детской иллюстрации, вместе с напарником. Подобная практика стала распространённым явлением с шестидесятых по восьмидесятые годы – художники шли зарабатывать в книжную индустрию, брали заказы, делили их пополам или работали по полгода: полгода один рисует иллюстрации, второй пишет картины, а потом художники меняются местами. Булатов[7] и Васильев, например, работали именно так.
– Ты себя с Булатовым не равняй, – повторял дядя Коля. – У него мускулы железные, а у тебя? Да не мясные мускулы, а стилевые. Опыта мало ещё, ферштеен?
– Почему нет? – негодовал я. – Комикс тоже искусство.
Чтоб навсегда пресечь дискуссию, Кайгородов тут же нагружал меня каким-нибудь заданием по живописи, не выполнив которое я не мог рассчитывать даже на крохотный градус его внимания. Пока я не приносил готовую работу, он вообще со мной не разговаривал и в мою сторону даже не поворачивал кочан головы.
Однажды он заставил меня снять очки и сказал писать картину акрилом. Ну окей, я принёс ему такую картину, а он сказал принести ещё одну, написанную вслепую. Я в то время уже учился и работал, сдавал сессию и постигал азы анимации – работал помощником фазовщика за какие-то копейки. Я выживал, и лишних пяти-шести часов для рисования вслепую у меня просто не было. С тех пор между мной и дядей Колей начало нарастать охлаждение. То задание, если честно, я до сих пор так и не выполнил.
Художника Николая Викторовича Кайгородова все так и звали – дядя Коля. Он был популярен в восьмидесятые – девяностые, а потом его слава, яркая, но недолгая, постепенно сошла на нет. Многие считали, что он спился и утратил талант, но мне всегда казалось, что дядя Коля просто не выдержал конкуренции в период, когда в постсоветском арт-пространстве конъюнктура вдруг стала единственным способом заработать.
Педагогом дядя Коля сделался по воле обстоятельств: ему просто подсунули ученика – похоже, в молодости они с моей матерью испытывали друг к другу какие-то чувства, хотя в подробности своих отношений ни дядя Коля, ни тем более моя мать, никого не посвящали. Меня привели за ручку и оставили в пыльной комнате, заполненной холстами и гипсами, деревянными торсами и сигаретным дымом пополам со скипидаром. Я появился в жизни художника и в его мастерской – колченогий пацан с опухшими пальцами, пастозным лицом и слезящимися глазами, слегка заплывшими от сезонной аллергии на таяние снега.
На моей памяти к дяде Коле несколько раз приходили мутные типы, покупали за бесценок разные полотна, и дядя Коля продавал, ведь нужно же было ему на что-то жить – и выпивать, и закусывать. В основном это были старые работы, написанные с начала восьмидесятых и до начала двухтысячных. Новых работ он почти не писал, а что писал – тут же отбраковывал, потому что они походили на старые и, как говорится, «плодили сущности».
Для того коммерческого искусства, на которое клюёт обыватель, дяди-Колиным картинам недоставало реализма; слишком уж тревожными и недружественными к зрителю они были. Они почти никогда не вписывались в интерьер, особенно в интерьер российского дома успешного предпринимателя или в его заграничную виллу, куда престижнее было купить интерьерное полотно на международных аукционах; цена здесь не имела значения. Для того современного искусства, под которым мы подразумеваем контемпорари, полотна Кайгородова были слишком архаичны, в них напрочь отсутствовала возможность перформанса. «Можно нюхать, можно трогать, ничего кроме масла они не найдут, – говорил учитель. – Если кроме красок и линий для выражения искренности художнику требуется что-то ещё, это никакая не искренность».
Несмотря на то что его картины выставлялись в первых московских галереях – и в «М’Арсе», и в «Риджине», серьёзных продаж работ Кайгородова, насколько я помню, не было. Только две его картины в начале девяностых всё-таки ушли за границу. Это был первый и единственный триумф, большие деньги, на них дядя Коля хотел создать своё арт-пространство, которое должно было называться «Коридор».
«Коридор» Кайгородов придумал вместе с двумя коллегами по цеху. Они разработали понятие об искусстве некой пограничной территории, которая ещё не комната, но уже не улица. Место, где можно укрыться от наблюдения домашних, но с риском, что тебя могут услышать соседи. Место, где поверяются тайны и совершаются мелкие кражи. Где открываются двери и люди встречаются или расстаются навсегда. Где уместен и тайный поцелуй, и пощёчина. Где, прежде чем расстаться с дорогим человеком, хозяин стоит вместе с гостем ещё три минуты, ещё пять, ещё десять минут.
Проект арт-пространства, куда дядя Коля вложил все свои деньги, потерпел неудачу, и к началу двухтысячных «Коридор» распался.
Коллеги-художники, с которыми дядя Коля больше не хотел иметь никаких дел, мало-помалу снова вставали на ноги – по большей части благодаря зарубежным фондам, которые дядя Коля презрительно называл «Сорос». Если хорошенько погуглить, можно найти информацию: один из сооснователей «Коридора» бросил живопись, подался в эксперты, и последние десять лет живёт тем, что разъезжает по ярмаркам и зарабатывает на продажах современного искусства. Второй занимается имиджем одного известного политика, оба они – совладельцы популярного в Москве арт-пространства на Чистых Прудах. Того самого, где в девяностые открылась первая галерея содружества» Коридор».
– Их жарят заживо, на сковородке в аду. – как-то раз сказал дядя Коля. – Но им не больно. У них больше нету чувств, я забрал у них все чувства. Их жарят, а они молчат. Они онемели. Я ору от боли вместо них.
Фотограф Роберт Капа[8], автор легендарных снимков высадки союзников на пляже Омаха 6 июня 1944 года, писал: «Если фотографии вышли плохие, значит, ты просто недостаточно близко подошёл». В живописи с натуры правило Роберта Капы тоже работает, но дядя Коля научил меня обманывать его и работать с визуальным образом; это потом пригодилось мне на экзаменах в Худак и во всей последующей жизни. Если тебе досталось не самое удачное место в аудитории и ракурс выходит неудачный – можно выбрать другой, выигрышный, подходить к фигуре ближе, запоминать пропорции, свет, etc., и после того, как увиденное хорошо улеглось в голове – возвращаться к этюднику и делать набросок. Дядя Коля говорил: неважно, в какой точке пространства ты находишься. Важно понимать, какой именно ракурс ты выбираешь – тогда ты сможешь работать по памяти.
– Любовь у тебя есть? – Он смотрел на меня, прищурившись, так, что я смутился. – Я в душу тебе не лезу. Кого хочешь, того люби. Нам это для другого нужно.
Он подошёл ко мне вплотную и, глядя в упор, зажмурился. Потом резко распахнул глаза.
– Представь: она смотрит на тебя прямо сейчас. Представил? Открывай глаза. Рисуй. Через десять минут проверю.
И я рисовал Марию анфас.
Потом дядя Коля подходил ко мне, проверял работу, сдержанно кивал и, не делая никаких замечаний, заставлял снова закрыть глаза и представить её же – в повороте три четверти. И задание повторялось.
Однажды он взял четыре моих наброска, внимательно их рассмотрел, и ушёл на кухню, а потом, минут через двадцать, принёс мне аккуратный карандашный портрет Марии с опущенной головой в повороте на две трети – такой, каким он получился у него на основе моих рисунков. Мне показалось, что портрет совершенно не похож на оригинал – но в этом была, скорее, моя, а не дяди-Колина вина.
Мы повторяли это упражнение раза три – пока у дяди Коли не получилось похоже: удлиннённые азиатские глаза, отчётливые скулы, треугольный, чуть выпирающий подбородок, спадающая на лоб светлая прядь.
– Понятия не имею, кто это такая, – сказал дядя Коля и, потеряв интерес к рисунку, бросил его на стопку других набросков, наваленных поверх ящика в углу, с пятнами присохшей краски на стенках. – Это же не настоящий портрет. Это химера, отпечаток. Он живёт только внутри твоей головы.
И дядя Коля постучал мне по лбу указательным пальцем.
– В каждую свою модель ты должен влюбиться, как вот в неё! – Дядя Коля говорил хрипло, одышливо, – Надо влюбляться, Лёха. Это наша работа – любить. Быть одержимым, быть готовым к тому, чтобы она, сука, мучила тебя и все жилы из тебя вынимала.
Учитель долго откашливался и топтался на месте. Я уже думал, что наставления закончены, но вдруг он неожиданно добавил, с какой-то остервенелой горечью:
– А нарисуешь – тогда… Хоть в шею её гони!
Вот так и вышло, что в день экзамена я целых восемь часов подряд усиленно влюблял себя в голую женщину за пятьдесят, вероятно, пьющую, с грушевидным животом и густо заросшим рыжим лобком, с полными бедрами и тонкими лодыжками, с опущенной линией плеч и красивыми ягодицами, которые никак не отразились на моём рисунке. Я написал её в оптимальном ракурсе, как было указано в методичке: поворот на три четверти, чтоб видны были обе руки, кисти и обязательно – лицо, слегка обвисшее, с двойным подбородком. Линию лобка я передал нарочито небрежно, хотя никак не мог отвязаться от вопросов, то и дело всплывавших в моей голове: со сколькими мужчинами она спала? Давно ли у неё был секс? Может, всего лишь несколько часов назад! Что за мужик был – старый, молодой?..
В кружке с маленькой щербинкой на ободке дядя Коля заводил себе сладкий чёрный чай из двух пакетиков; шумно его прихлёбывая, говорил, как трудно рисовать смерть – не фантазию о смерти и не натурализм, а её метафизический портрет – обрыв, конец.
На последней дяди-Колиной картине изображён грязный двор с опрокинутой урной, позади которой возвышается тёмно-фиолетовый проём облезлой арки. Неестественной формы тень от арки лежит на земле, и понятно, что никакая это не тень, а тело мёртвого человека. Труп обут в дяди-Колины желтоватые ботинки.
Когда я впервые это увидел, мне стало не по себе. Дядя Коля не просто нарисовал мёртвую тень. Он написал свою собственную мёртвую тень.
Такое иногда случается; художники могут нарисовать то, чего ещё не случилось. Или выдуманный персонаж вдруг встретится вам на улице, или в какую-то секунду вдруг вспыхнет дежавю и вы будете стоять перед обычным, казалось бы, городским районом и точно знать, как он устроен изнутри – потому что однажды вы его сами начертили.
Я отступил от темы, но это важно: одна такая странная история случилась, когда я рисовал обложки для чужих комиксов. Я сгенерил суперкавер для проекта про футбольную команду, а через пару недель взял и встретил своего героя в вагоне метро. Правда, парень, которого я встретил, был одет в футболку другого цвета и на его ногах не было ни гетр, ни наколенников, но это точно был он – я слишком долго придумывал заострённое книзу продолговатое лицо, большие тёмные глаза, высокий лоб, чёлку поперёк лба, тонкие полоски на выбритых висках. Мужик, стоявший возле выхода, задел его пузатым рюкзаком и футболист тут же вскинулся: «Куда прёшь?». Мужик извинился и поспешно принялся стягивать с плечей лямки. Встретившись со мной глазами, футболист нахмурился и отвернулся – несколько раз за время поездки он оборачивался в мою сторону.
Но ещё более безумный эпизод произошёл со мной после того, как я в школе нарисовал короткий комикс про Пушкина. Это был четырёхкадровый ёнком[9], к которому я прилепил ещё две картинки и ёнком вышел шестикадровым. Задуман он был как основа для задника на сцене школьного актового зала. Каждый кадр представлял собой картинку, на которой поэт вмешивается в разные сюжеты популярных историй. Например, в этой серии была картинка «Пушкин пишет письмо турецкому султану», но была и другая – «Пушкин помогает деду Мазаю спасать зайцев».
Комиксу была уготована короткая жизнь. Комиссия, приехавшая в школу с проверкой, усмотрела в моих рисунках что-то крамольное, и в итоге моего Пушкина срочно убрали в подсобку, а Марию, которая курировала оформление актового зала, отчитали по первое число.
В тот же самый день, возвращаясь из школы домой, на улице Кастанаевской я встретил Пушкина.
Ясно-понятно, что это бред – но со стороны двора одного из жилых кварталов, неподалёку от магазина «Пятёрочка» (сейчас там другой продуктовый магазин), появился человек в длинной зимней одежде типа дублёнки с меховым воротником, с тростью и в высокой цилиндрической шапке. Может, неподалёку снимали какое-то кино (разве снимают историческое кино в неосвещённом районе с городской застройкой?). Или аниматор работал с детьми и вышел за сигаретами, не поменяв костюм на пуховик (куда поблизости, кроме нашей школы, могли пригласить такого аниматора?)
Я всё успел бы сам себе объяснить, если б не эта пустая улица, не дрожащий свет фонаря на улице Кастанаевской и не плавные, гипнотизирующие движения длинной тяжёлой накидки на плечах персонажа. Чувак шёл по улице в мою сторону и, поравнявшись со мной, пальцами правой руки (белая перчатка) слегка коснулся полы высокой шляпы и поприветствовал меня едва заметным кивком головы.
Дяди-Колина картина с фиолетовой тенью, обутой в желтоватые ботинки, попала «в десятку», хотя я бы предпочёл, чтобы она осталась забытой и пылилась в загашниках. В две тысячи одиннадцатом, в конце мая, дядя Коля ночью упал пьяный в одной из арок жилого комплекса неподалёку от станции Динамо. Так как голова его лежала в тени, а наружу торчали только те самые ботинки, прохожие не сразу догадались вызвать скорую – мало ли пьяных валяется в московских подворотнях? Найденного на улице мёртвого человека в потёртой куртке и засаленных брюках приняли за обычного бездомного и только в морге, разбирая его одежду, отыскали паспорт и связались с родственниками.
Приехала дяди-Колина сестра из Феодосии и тридцатилетний сын, невысокого роста парень с бледным лицом – ни единой чертой он не напоминал своего харизматичного отца, скорее похожего на цыгана, нежели на представителя московской богемы. На похоронах Кайгородов-младший забился в самый угол траурного зала и втыкал в красивый плоский смартфон – редкость по тем временам. Было понятно, что парень чувствует себя неуютно. Я обратился к нему (не помню зачем) – а он неловко втянул голову в плечи. Сын словно извинялся за своего отца, алкоголика и маргинала, похожего на бомжа и, по мнению семьи, ничего путного в этой жизни не достигшего. То есть они видели его только таким и отказывались принимать в другом качестве. Их мировидение не вмещало ничего выходящего за рамки обыденного.
В крохотном кафе в Алтуфьево родственники устроили провинциальные поминки с борщом, киселём и пирожками и совсем не ожидали, что на этот кисель съедутся люди со всего города – академики, искусствоведы, хозяева галерей, да и просто ученики вроде меня. В кафе места для всех не хватило, мы стояли на улице и пили из одноразовых стаканчиков коньяк, купленный поблизости, в «Монетке». Цвела сирень, черёмуха сыпала белым, в воздухе после дождя стоял сладкий мертвецкий запах.
Дядя Коля не любил огонь и хотел, чтобы его похоронили на кладбище, но сам об этом никак не позаботился – со многими вёл подобные разговоры, но нигде не упомянул о своём желании в письменной форме. А потому сестра и сын, спеша поскорее разобраться с наследством и уехать наконец к себе домой, к делам и хозяйству, – пошли по наиболее простому и дешёвому пути: сожгли дядю Колю в крематории.
И ни я, ни профессор Михлыч с кафедры монументальной живописи Худака, не сумели с этим ничего поделать. Михлыч пытался собирать по институту деньги, но родственники принимать их отказались.
– Что уж мы, совсем, что ли, нищие, – отвечала сестра и морщила нос. – Что мы, побираться, что ли, должны?..
Я даже не удивился, узнав через несколько лет, что она потихоньку распродала все картины учителя, хранившиеся у него в мастерской.
Стальной механизм щёлкнул и вобрал в себя дядю Колю, кособоко вписанного в тесное пространство продолговатой трапеции, на белой, очень белой драпировке – с таким чистым белым цветом он вообще никогда не работал, а вот сейчас он вместе с ним отправлялся в вечность. Гроб исчез под плоской металлической пластиной, а потом где-то под землёй застучали железные колёса вагонетки, и я начал задыхаться.
Через полгода после дяди-Колиной смерти прах из крематория никто не забрал, и он был похоронен в общей могиле.
Глава 4
Привет, оппа́[10]
Если бы я был хозяином галереи, я сделал бы точно так же.
Снял бы пространство в центре города, там, где полно народу.
Лучше – в пешеходной зоне, чтоб вокруг побольше туристов. И чтоб рядом имелся ресторан или кофейня. Кофейня даже лучше, с уютным интерьером и средними ценами. Место, где можно посидеть и обдумать предстоящую покупку или провести переговоры на условно нейтральной территории.
Ксеня-чан сидела напротив и потягивала через соломинку кофе с миндальным молоком. Волосы василькового цвета создавали вокруг её головы голубое сияние. Белое весеннее пальто нараспашку, длинное платье, ярко-оливковое, на размер больше, чем нужно. Ярко, сочно, бьёт по глазам.
На втором курсе Ксеня-чан, подражая своей любимой певице Хейли Уильямс[11], красила волосы в рыжий цвет, а вокруг глаз накладывала оранжевые тени, как у Джерарда Уэя[12], нарисовавшего несколько своих собственных комиксов, – и уже из-за одного этого Ксеня-чан была его фанаткой. Музыка «Paramore», «My Chemical romance» и «Tokyo hotel» до сих пор вызывала в памяти самые отвязные времена в моей жизни – четыре года существования нашей лихой компании.
– Сказали, с белковым… – Подруга тычет пальцем в десерт. – Оппа́, съешь половинку! Я худею.
Много лет назад Ксеня-чан плотно подсела на азиатские сериалы и тянула оттуда в реал всякую всячину: и китайские иероглифы, и японские речевые конструкции, и корейский сленг. Со временем многое забылось, а вот «оппа́» приклеилось ко мне намертво.
– Точно не будешь? Ладно.
Подруга пододвигает блюдечко к себе. Клубника лежит на голове эклера в облачке взбитых сливок, посыпанных кокосовой стружкой.
Наклонившись к десерту, Ксеня-чан недоверчиво принюхивается. Пробует крем ложечкой.
– Эй, не молчи. – Она бросает на меня короткий взгляд. – Говори что-нибудь.
В лёгких у меня всё ещё сидит остаточный призрак болезни, и я не говорю, а кашляю, чем привлекаю внимание посетителей кофейни. Настали такие времена, что нельзя и чихнуть в своё удовольствие, тут же заработаешь косые взгляды. Может даже подойти официант и вежливо спросить куар-код или тест на ковид.
– Как Тамара Антоновна? – спрашиваю я наконец.
– Мама как всегда. Ходит по врачам, – Ксеня-чан достаёт из кармана упаковку влажных салфеток и тщательно протирает пальцы. – Около сердца нашли какую-то жидкость.
– Поэтому не возвращаешься?
Она кивает.
– В Москве без меня пока справляются. – Она отмахнулась. – В мае поеду. Если не будет второй волны.
Крохотное издательство Ксени-чан зарегистрировано в России. Перед самой пандемией Ксеня-чан подписала договор с известной художницей из Кореи, работающей в жанре яой[13]. Планировалось выпустить на бумаге две переведённые работы, но в итоге издательству пришлось перейти на русский вариант вебтунов[14], где вышла только одна книга, которая, увы, не обеспечила необходимого уровня продаж. Подписание второго контракта так и не состоялось.
Постукивая ложечкой по блюдцу, Ксеня-чан начинает болтать сама, и мне приходится делать вид, что я её внимательно слушаю, хотя на самом деле я слушаю жужжание собственной навязчивой мысли: картина Кайгородова, что висит в галерее несколькими этажами выше, – точно его картина? Чтобы понять это, нужно посмотреть на оборотную сторону холста. Но кто мне это позволит?
Пока там, наверху, Ксеня-чан искала куратора, я, словно загипнотизированный, стоял и смотрел на лиловые лепестки. Пульс у меня стучал не только в яремной ямке и в ушах, но даже в глазах и в затылке. Потом через увешанный картинами зал к нам подошла работница галереи и сообщила: хозяин передумал продавать картину.
С кем можно поговорить насчёт полотна? Девушка не знает, но через полчаса обещает дать информацию. Кураторша обменялась визитками с Ксеней-чан. Мы пили кофе и ждали звонка на её телефон.
– Алё, гараж, – говорит Ксеня-чан.
Я поднимаю глаза. Подруга пристально смотрит, прямо в глаза.
– Ты как зомби, – вздыхает она и снова машет на меня рукой. – Ладно. Проехали.
Она берёт вилку, отламывает кусочек десерта и отправляет в рот. Лицо её в ту же секунду краснеет и сморщивается, а глаза превращаются в щёлочки. Ксеня-чан судорожно хватает салфетку, а потом ещё и ещё одну, выплёвывает в бумагу всё, что только что было рту, и, держа салфетку наперевес, машет рукой официантке.
– Ты чего? Зуб сломала?
Подруга не отвечает. Она всё машет, машет рукой – и наконец официантка в длинном фартуке приближается к нашему столику.
Ни слова не говоря, Ксеня-чан суёт ей в руку салфетку с содержимым.
Официантка даже не скрывает брезгливости; минуту назад краем глаза она пристально наблюдала за происходящим, а сейчас пытается подсунуть обратно, под Ксенину руку, злосчастную салфетку с выплюнутым куском пирожного.
– В меню написано – крем белковый, – в голосе моей подруги звучат неожиданно жёсткие нотки. – На самом деле он масляный. Деньги мне верните.
– Как вам не стыдно! – Официантка стоит напротив нас, держа двумя пальцами грязную салфетку, которую моя подруга всё-таки сунула обратно официантке в руку. – У нас всё свежее! Всё натуральное…
– Вот сами и ешьте своё натуральное. – Ксеня-чан говорит громко, и сидящие за соседними столиками оборачиваются. – Я просила с белковым. Вы дали с масляным. Верните деньги.
– Решайте вопрос с администратором! – Официантка морщится и вместе с салфеткой убегает за кулисы.
Пока Ксеня-чан разбирается с руководством заведения, я сижу за столом, сжимаю в пальцах жёлтый мячик-тренажёр и борюсь с тошнотой. Если пять минут назад я ещё подумывал перекусить в этом заведении, то теперь у меня окончательно пропало всякое желание.
Ксеня-чан вернулась с победным выражением на лице. Ни слова не говоря, она, положив ладони на стол, делает три глубоких вдоха и выдоха.
– Маркетологи хреновы. Думали, прокатит?
– Хотя бы кофе нормальный? – спрашиваю я. – Хочешь, уйдём отсюда?
– Сиди. – Она берет со стола стакан с остывшим кофе и делает пару глотков. – Нарочно будем глаза им мозолить.
В этот момент её телефон пиликает, и я настороженно замираю. Ксеня-чан тыкает в экран.
– Расслабься, – говорит она. – Это личное.
Она всегда так отвечает «это личное» или «это рабочее».
На правую щёку падает тень от синих волос, прищуривается глаз, зубы слегка прикусывают нижнюю губу. Ксеня-чан – мой единственный близкий человек, не считая мамы. Я слишком давно её не видел, и за это время она изменилась: кожа её сделалась гладкой, интонации – воркующими, она стала носить платья – а если моя подруга носит платья, значит, всё у неё хорошо. Такие перемены происходили, только если она с головой ныряла в новую любовь.
Угадывать, с кем сейчас тусит Ксеня-чан, вообще бесполезно. Она постоянно скрывала своих настоящих возлюбленных – скрывала ото всех, даже от меня: по-видимому, так ей было проще. Единственный раз я оказался свидетелем её отношений с нашим общим приятелем Аликом Ботвинским – и роман этот, надо сказать, не принёс радости никому из нашего окружения. Если и остальные отношения моей подруги столь же болезненны, может, и хорошо, что никто ничего о них не знает.
Так как её личная жизнь всегда была тайной за семью печатями, матери моей подруги очень часто хотелось проникнуть под эти печати, а дочь сопротивлялась любому контролю. Может, из-за этого их домашнего противостояния и случилась такая штука, как наш брак.
Маховик закрутился, когда Тамаре Антоновне удалили щитовидку. Она вдруг принялась плакать каждый вечер.
– Что за жизнь проклятая, – говорила она сквозь слёзы. – Надо было сразу покончить со всем, как только дедушка умер, – да пороху не хватило.
Слышать такие вещи было невмоготу ещё и потому, что год назад погибла Сашенька Хвостова, однокурсница Ксени-чан по Худаку.
– Они все заодно? – беспомощно восклицала моя подруга и опрокидывала в себя очередную банку пива. – Это что, всемирный клуб самоубийц?
– Успокойся, я в него не вхожу. – Поддержка моя выглядела так себе поддержкой.
– Как бы её переключить. – Ксеня-чан запускала пальцы в волосы и крепко сжимала голову. – Кошку бы завести или собаку, но ведь матушка моя такой же аллергик, как и ты. Меня окружают только самоубийцы и аллергики!
Ксенина мама не жаловала ни психологов, ни психиатров. Эндокринолог уверял, что через пару месяцев приёма гормональных препаратов её состояние улучшится, но прошло два месяца, три, четыре – а та всё мотала нервы моей подруге. К тому же у неё сильно ухудшилось зрение. Решив, что это побочный эффект от приёма лекарств, Тамара Антоновна бросила пить таблетки.
Тамара Антоновна растила дочку одна и официально замуж не выходила. Сразу после смерти отца (Ксениного дедушки) она рассталась с человеком, которого я считал Ксениным отчимом, но оказалось, что мужчина этот по документам не приходился ей никем. Он растворился в тумане, чуть было не отсудив у бывшей гражданской жены половину её московской квартиры, – тогда-то, после всевозможных дрязг и треволнений, у Ксениной мамы и обнаружили проблемы с щитовидкой. Во время повторного обследования, уже в Минске, ко всему прочему обнаружилась вторая стадия рассеянного склероза; наконец врачи смогли объяснить причину резкого падения зрения.
Тамара Антоновна не была готова принять подобные новости и в домашних разговорах всё чаще возвращалась к теме некоего «семейного возмездия». Из-за этого возмездия, считала Тамара Антоновна, Ксеня-чан будет вынуждена повторить одинокую судьбу матери. К тому же Тамара Антоновна знала об увлечении дочери культурой яоя.
– Ты мне скажи, – настаивала Тамара Антоновна. – У тебя всё в порядке с… этим?
– С чем, «с этим»?
– Ну…
Ксенина мать морщилась и выдавала:
– Ты не лесбиянка[15] случайно? Если ты лесбиянка, так и знай, я покончу с собой.
– Боже!..
Однажды Ксеня-чан устала это слушать.
– У меня даже парень есть, – ляпнула она, не подумав. – И мы скоро поженимся.
Тамара Антоновна так и замерла с открытым ртом.
– Правда? – Её красноватые глаза блеснули. – Вы правда поженитесь?
Сообщение про близкую свадьбу дочери стало катализатором, который на какое-то время поправил картину мира Тамары Антоновны.
– Хочу понравиться твоему молодому человеку, – говорила она и направлялась на процедуру, которая у Ксени-чан называлась «делать брови».
Подругу свою я понимал, как никто: у меня дома давно уже велись похожие разговоры. К моим двадцати пяти я уже не хотел видеть рядом с собой никого – от слова вообще. Однажды из-за этого я накричал на маму, а потом чувствовал себя весьма паршиво.
– Хватит прессовать. – Я и сам не заметил, как повысил голос. – Живу отдельно, сам себя обеспечиваю, чего тебе ещё надо?
Мамино лицо вытянулось и сделалось жалким, губы изогнулись подковкой. Сухая, морщинистая кожа на её руках натянулась – мама крепко сцепила пальцы, её коротко подстриженные ногти впились в запястья, оставляя на них маленькие ровные полулуния.
Я ни разу не видел лака на маминых ногтях, как, впрочем, и косметики на её лице, за исключением помады, цвет которой она обычно подбирала такой ужасный, что в детстве мамины накрашенные губы меня даже пугали. Вся напряжённая, она сидела напротив меня в маленькой кухне на Лосиноостровской.
Я попытался было «прокрутить всё взад» и как-то смягчить свой выпад, но тут мама собралась с силами и сказала мне ту самую фразу – чётко и ясно, с уверенностью и страстью:
– Женишься – слова тебе не скажу.
У неё, кажется, даже особый огонь в глазах загорелся.
– Клянусь. Ноги моей в твоём доме не будет. Только найди себе хоть кого-нибудь.
Я как сейчас помню наш с ней разговор – и блестящую идею, которая пришла ко мне в голову в ту же самую минуту. Нужно ли говорить, что, после того как я воплотил ту идею в жизнь, реальность моя сложилась путано и по-дурацки. Насколько по-дурацки – вы даже не представляете.
Когда Ксеня-чан пересказывала мне свои разговоры с матерью, она, может быть, и не имела в виду ничего такого – но я воспринял сообщение как сигнал к действию.
– Вообще никаких проблем не вижу, – заявил я. – Если дело в каком-то идиотском штампе, почему бы не пойти в загс и не шлёпнуть его наконец. Готов хоть сейчас, если эта штука тебя выручит.
– Серьёзно? – Ксеня-чан от неожиданности дёрнула рукой, тёмное пиво выплеснулось из банки и вылилось мне на футболку. – Блин! Сейчас всё постираю! Снимай футболку, быстро.
Я принялся отнекиваться и сказал подруге, что её решимость постирать мою футболку смахивает на желание показать «товар лицом», на что Ксеня-чан дала мне щелбан и заявила:
– Имей в виду, ты сделал мне предложение, а не я!
Я успокоил её, что всё так и есть, и она добавила:
– Это будет коммерческое соглашение. Развод по первому требованию любой стороны. Или просто договоримся на трёхлетний срок. Три года, а потом развод – окей?
Условия меня устраивали.
– А если наши мамы срочно захотят внуков? – забеспокоилась подруга. – Будут ходить к нам в гости и спрашивать, почему мы так странно живём.
– А мы им объясним, что брак в двадцать первом веке сильно отличается от брака в двадцатом. Скажем: если они хотят, чтоб у нас всё было хорошо, пусть к нам никто не лезет.
Потом я много раз возвращался к этой мысли и видел в ней всё больше и больше смысла. Я знакомился с парами, которые жили бок о бок и не спали друг с другом – просто оставались хорошими друзьями, у которых ко всему прочему есть ещё и общее хозяйство, что-то вроде соседей по квартире. Я видел людей со штампами в паспортах, которые так же, как и мы, жили в разных городах и встречались раз в месяц. Наконец, у меня есть знакомые, вырастившие вместе детей, но после пятидесяти предпочитающие жить отдельно от супругов; если нужно, они могут вместе прийти в гости к кому-нибудь из старых друзей и выглядеть как пара – им ничего не стоит изображать на публику дружбу и любовь. В общем, вариантов масса: что-то подсказывает мне, что в скором будущем такой вариант семьи окажется гораздо более распространённым, чем «вотэтовсё» с детьми, тёщами и супружескими обязанностями.
– Ты гений. – Ксеня-чан схватила меня за плечи и громко чмокнула дважды – по разу в каждую щёку. – Ты мой супергерой.
Свадьбу мы не устраивали – просто расписались в загсе, а потом привели наших мам в ресторан (отец идти отказался). Мамы, похоже, совсем не понравились друг другу, и это тоже оказалось нам на руку. Суть знакомства наших семей в конце концов свелась к поздравлениям друг друга по телефону и к ежегодным встречам, которые мы устраивали им трижды – в день регистрации нашего так называемого брака.
В здании загса у меня случилась первая и единственная в жизни паническая атака, о которой знали только Ксеня-чан и я сам. Я даже своему кардиологу постеснялся об этом сказать.
Атака началась, как обычно начинаются приступы, если я забываю выпить свои таблетки, но в этот раз я точно знал, что ничего не забыл, – и всё равно сердце ускорилось, а горло и плечи стянул жёсткий и широкий ледяной бинт. Я опустился на пол. Человечки на периферии моего сознания сделались совсем уж карикатурными, а моей единственной реальностью стала смирительная рубашка из жёсткого льда, она плотно и грубо привязывала мои плечи к грудной клетке. Я равнодушно подумал, что – приплыли; видимо, я умру прямо здесь, возле белоснежного писсуара в туалете отдела регистрации.
Не знаю, что бы со мной было, если бы в туалет вошёл какой-нибудь другой человек. Имелся ли в тот момент у него на затылке сияющий нимб – без понятия. Тогда мне показалось, что – да, имелся.
– Эй, мужик. – Голос гудел, как огромный колокол. – Мужик, слышь? Дыши давай, мужик. Слышь? Вдох – вы-ыдох. Вдох – вы-ыдох.
Чаша писсуара, висящая у меня над головой, превратилась в огромную чёрную дыру, из неё выкатывалось наружу протяжное «Ы-ы-ы!». Что-то больно хрустнуло между лопатками, и ледяной бинт постепенно начал превращаться в серебристую тёплую струйку. Она стекала вниз по моим плечам, а потом ручеёк поднялся обратно, к шеё, и растворился где-то в затылке.
– Во-от, – раздавалось из писсуара. – Голову вправо. Голову влево. Голову наклонить. А сейчас вы-ыдох.
Я выдохнул, в глазах потемнело, лоб ткнулся в чьё-то плечо. Что-то оцарапало мне щёку – неожиданная боль отдалась в левом ухе. Я открыл глаза, и передо мной качнулась бутоньерка – живая шипастая роза, приколотая к лацкану.
На полу возле меня сидел здоровенный дядька лет под сорок с лицом как у бородача с картины Кончаловского: голубые глазки, сияющие розовые щёки. Бородач сидел рядом на полу и – натурально – держал меня в объятиях.
– Первый раз женишься? – участливо спросил он. Когда я попытался вырваться из его мощных лап, чувак ещё сильнее сжал мои плечи. – Да сиди ты, ёлки-моталки! Я ему спазм с грудного отдела снимаю, а он тут ножками сучит.
Мужик выдыхал наружу успокаивающий душу запах хорошего коньяка. Я внезапно обмяк.
– Вы… кто? – Язык у меня во рту еле-еле провернул два слова.
– Дед Пихто, блин. – Мужик потрепал меня по затылку. – Первый раз, спрашиваю, женишься? Оно и видно, хе-хе. Я-то уже третий, мне всё нипочём. Позвать кого? Из гостей твоих?
Я покачал головой и попытался встать на ноги.
Мужик, медленно поддерживая меня за ремень, помог подняться.
– Я Валера. – Он сунул мне под нос широкую ладонь. – По жизни остеопатом работаю. Двадцать лет уже.
Он пошарил в карманах и развёл руками.
– Костюм новый, визитки нету. – Он слегка наклонился и заглянул мне в лицо. – Отпустило тебя?
Я кивнул.
– Слышь. – Смешливое лицо мужика внезапно посерьёзнело. – Что упал – вообще не парься. Со всеми бывает, особенно в первый раз. Лучше скажи, что ты со спиной своей сделал? Это ж трындец. Такой позвоночник надо разобрать по позвонку, а потом снова собирать…
Я кивнул и тут же вспомнил, как минуту назад лежал у него в объятиях. Мои щёки залились краской.
– Как женишься – велком ко мне. Я в клинике работаю. – Мужик назвал адрес. – Стоять можешь? Ну, молодца. Идти можешь?
Валера бережно вывел меня из уборной и передал из рук в руки Ксене-чан. Только они усадили меня на диванчик, откуда ни возьмись появилась молодая блондинка лет двадцати пяти, в фате и платье с блёстками.
– Валера! – капризно крикнула она. – Ты не на работе!
Блондинка оттащила от нас своего жениха и увела в другую комнату для новобрачных, ту, что за стенкой.
Придя в себя, уже после регистрации, я вкратце пересказал Ксене-чан эпизод, развернувшийся в мужском туалете, глаза у моей подруги загорелись.
– Кавай[16]! – захлопала она в ладоши. – Милота невозможная! Будем рисовать.
В первую брачную ночь Ксеня-чан оставила меня в квартире-мастерской на Лосиноостровской, а сама куда-то укатила.
– Ты чего? – Моя подруга оторвалась от экрана. – Мемчик смешной в ленте?
Всё это время я сидел напротив с дурацкой улыбкой.
– Не, – сказал я. – Вспомнил, как в туалете с ортопедом обнимался.
– Он был не ортопед, а остеопат. – Ксеня-чан с шумом втянула через трубочку остатки латте на дне стакана.
Айфон снова мигнул, подруга провела по экрану пальцем. Мимо прошла уже другая работница кафе в длинном коричневом фартуке, убрала с соседнего столика оставленные посетителями чашки и блюдца.
Подруга отправила сообщение и положила телефон на стол экраном вверх.
– Щас работаешь? Рисуешь что-то?
Я не ответил. Ксенина нога пнула меня под столом.
– Алё, ты где? Я говорю – давай проект забабахаем? – завела она старую пластинку. – Есть интересные.
«Очень интересный проект» оказался комиксом про тоталитарное государство, в котором вместо людей действовали собаки, а пост президента занимал пёс породы бультерьер. Президента выбирали на пятый срок, народ взбунтовался и вышел на улицы.
– Не цепляет. И животных давно не рисовал.
Глаза моей подруги сощурились, в них блеснула обида.
– Понятно, – сказала она, прищурившись. – Мы рисуем только тупых супергероев. И только за бабло.
– Слушай. – Я старался быть дружелюбным, но помнил при этом, что отказывать людям нужно жёстко и сразу. Если вовремя не отбиться, на тебя сядут и поедут. – Ну ты пойми. Это же вторично, скучно! И про собак что-то подобное было уже, и про мышей с кошками. Сюжет-то не нов.
– Ну, не нов. – Она развела руками. – Я кстати, читала твои «Паруса». Там тоже нет ничего оригинального.
Моя подруга – единственный человек после мамы, который знает, где у меня болевая кнопка. Тем более, что я был уверен: мои работы, сделанные в тандеме с кем-то другим, Ксеня-чан не читает.
– Не читаю, – согласилась она. – А вот последнюю прочла.
Я усмехнулся. Ври, подруга, как же – прочла ты, ага…
– Да прочла я! – Она наморщила лоб. – Ну, короче: есть, типа, галактика звезды Регор из созвездия Парусов. Там есть планета, называется Ла. На этой планете есть огромная Империя и некая Провинция. Этой Провинции сначала дали независимость, а потом решили обратно её присоединить. Назревает войнушка. Везде бегают шпионы и парни с пистолетами, все пытаются предотвратить столкновение, но войнушка всё равно начинается, города взлетают на воздух, оторванные ноги, руки и головы, кровища рекой. Пытаясь положить конец войне, герой становится предателем.
– Да не становится он предателем! – Я уже еле сдерживался. – У чувака просто глаза открываются. Ну, знаешь, как у этой – из сериала про татарскую женщину. Человек всю жизнь служил имперскому злу, а потом…
– Поздравляю. – Ксеня-чан усмехнулась. – Ты заработал деньги на двойной американской морали. Если герой продаёт свою страну, он по определению не может встать на сторону добра.
– Да это вообще история не про сюжет!
– А я тебе – о чём? – Подруга наклонилась ко мне и вдруг шлёпнула ладонями по столу, так, что проходящая мимо официантка обернулась. – Сейчас в нормальной литературе нет такого понятия, как сюжет. Есть эмоция, атмосфера, зашифрованное послание… Сюжет умер, автор умер, эй, чел, ты не в курсе? Главное – как оно сделано, а всё остальное вообще пофиг.
– Ну вот и рисуй про эмоцию, про атмосферу… Но ты же хочешь слепить агитку – все швы наружу. Страна выбрала президента, а группа людей собирается на площади и устраивает митинг…
– Кто выходит на площадь – тот и есть страна!
Моя подруга всегда такая, если мы долго не спим вместе. Словно в отсутствие близости мы запираемся каждый в своей комнате с непроницаемыми стенками. Способ, чтобы стенки наконец истончились и Ксеня-чан вдруг смогла услышать меня и понять, был только один: провести вдвоём с ней в постели хотя бы час – неважно, с каким исходом.
Я чувствовал, как, находясь в каком-то метре от меня, она медленно горячеет: от неё в такие минуты словно исходят инфракрасные лучи. Мне даже показалось, что с её стороны до моего края стола долетел слабый запах пота. Всё было бы возможно, но… Но у неё наверняка кто-то есть.
– Ну, скажи, – приставала она. – Разве не должен художник отражать действительность? Где твоя ответственность перед обществом?
– Ответственности нет, – признался я. – Ничего отражать не хочу.
Первое, что Ксеня-чан умеет делать лучше всего, – это врать, а второе – бесить людей.
Я обернулся. Никто не обратил внимания на наш разговор, который уже вёлся почти на крике. В кофейне играла музыка, не очень громкая, но способная перекрыть беседу за соседними столиками.
– А ещё, – добавила Ксеня-чан, – ты слизал сцену у Луки Синьорелли[17].
– Не слизал, а переработал.
Фрейм[18], где главный герой комикса сражается в воздухе с двумя воинами имперской гвардии, я и в самом деле позаимствовал с той фрески, где два ангела апокалипсиса, корчась от напряжения, выдувают изо ртов столбы пламени. Третий, похожий на серебристый аэроплан, падает вниз головой, а сама голова имеет форму космического шлема, и, если приглядеться, обувь у бледного ангела тоже похожа скорее на спецназовские ботинки, нежели на крылатые сандалии. Грех было не слямзить всю эту красоту.
– Весь проект выехал только на твоей рисовке, – заключила Ксеня-чан. – И денег они должны были тебе заплатить в два раза больше.
– Но ты-то хочешь платить меньше.
– Вот! – Подруга ткнула в меня указательным пальцем. – Так и знала. Главное для тебя – деньги.
– Чёрт бы тебя побрал! – Она-таки добилась, я потерял равновесие. – Фабула меня зацепила, понятно? Потому и работал.
– Ещё б не зацепила, – фыркнула Ксеня-чан. – Пятьсот баксов за серию.
– Плюс настолка!
– Вряд ли ваша настолка лучше «Вархаммера»[19].
И это была правда. Наша настолка не была лучше «Вархаммера».
А потом, сообразив, что выбила меня из колеи, Ксеня-чан спохватывается и пытается исправить положение.
Она обзывает себя эгоисткой, лезет обниматься, клянётся больше ни единым словом не касаться моей предыдущей работы, и, когда всё это ни к чему не приводит, её пухлые щёки краснеют, а в уголках глаз скапливаются прозрачные аквамариновые слёзы – стекая вниз по векам к носу, они в одно мгновение теряют свой зелёный цвет и становятся мутно-розовыми.
Потом она, не слушая никаких возражений, оплачивает свою часть счёта, взваливает себе на плечи мою дорожную сумку и бросается провожать меня до метро. Моя гостиница (я выбирал ту, что подешевле) находится на самой окраине.
Мы выходим на улицу, но ни к какому метро не идём – Ксеня-чан с моей сумкой (отобрать нереально) тащит меня гулять, а я, устав препираться, покорно плетусь рядом, не возражаю и не сопротивляюсь. Меня уже всё устраивает, даже сумка – хотя в другой ситуации я, конечно, её отобрал бы, тем более у девушки.
На свежем воздухе усталость слегка отступает, чтобы потом, к вечеру, нахлынуть с новой силой.
Если в Москве, когда я уезжал, было сыро и грязно, с неба лили дожди, а перед моим отъездом внезапно повалил снег – здесь, хоть и стояли холода, листья на деревьях вовсю готовились распуститься. Ещё немного, два-три тёплых дня – и в тусклом желтоватом дыме над ветками проступит зелень – не такая, какая бывает летом (виридон с лаком), а та, что получается, если смешать хромовую зелень со средним жёлтым кадмием (жёлтого больше).
Люблю бродить по незнакомым местам – особенно с друзьями. Если всё сложится, вы можете вместе пройти теми улочками, с которыми ваш приятель эмоционально связан, и тогда часть этой связи перейдёт и к вам. Это и называется «поделиться чувствами».
И вот какая штука. Я заметил, что с другим человеком нельзя поделиться чувствами сложными, зыбкими и хрупкими – теми, о которых пишет Джон Кёниг. Если ты ещё не знаешь, как назвать то, что с тобой происходит, попытка рассказать об этом ведёт к обратному эффекту: вся зыбкость и хрупкость пропадает, и чувство превращается в собственную тень. Потом оно может исчезнуть вовсе, потерять свою ценность – и всё лишь потому, что во время своего рассказа ты упростил его и отделил какую-то его часть.
– Я тут подумала, – сказала Ксеня-чан, – если тебе так будет спокойнее, мы можем официально развестись.
Она произнесла это словно бы между делом, когда мы остановились возле лужи, из которой с десяток голубей пили грязную воду.
– Ты мне и правда очень сильно помог. Я твоя должница.
– Что-то случилось?
Ксеня-чан резко обернулась ко мне, наступила в лужу и чертыхнулась. К белому кроссовку прилипла розовая бумажка, и моя подруга, отойдя в сторону, несколько раз топнула ногой, чтоб стряхнуть фантик. Голуби разлетелись.
– Достало, – призналась она. – Гляжу на тебя и вспоминаю, что должна тебе развод.
– Ничего ты мне не должна. – Я попытался взять её за руку.
– Я-то рассчитывала: поставим штампы, и маме будет чуть спокойнее. – Её рука была тёплая и мягкая. – Но она постоянно спрашивает про тебя.
– Давай зайдём к ней, – сказал я. – Только завтра. Сегодня я пас.
– Давай. – Ксеня-чан потёрла пальцем спинку носа. – Но будь готов, она спросит тебя, где наш дом – полная чаша, где хозяйство, внуки, бла-бла-бла. Вариант про «новые времена» уже не канает.
Я пожал плечами.
– Придумаем другой.
– Мы же на это не подписывались? На внуков, чашу и бла-бла-бла? – сказала она и тут же ответила: – Я точно не подписывалась.
Мы дошли до угла, Ксеня-чан отпустила мой локоть.
– Ну так как? – Она засунула руки в карманы пальто. – Разводимся? Завтра можно сходить. Получится – окей. Не выйдет – штош…
– А что для этого нужно?
– Паспорт и ты сам.
Я нащупал паспорта во внутреннем кармане куртки – обычный и загран.
– А нас разведут в Минске?
– Разведут, куда денутся. – Она прошла ещё несколько шагов и снова глянула на меня, словно бы колебалась – сказать или нет.
– И ещё кое-что. – Она шмыгнула носом и решилась. – Помнишь про наш обычай? Я рисую Сашеньку, ты Ботву.
Я вздохнул. Ничего не поделаешь, Ксеня-чан просит – надо рисовать. Ритуал, который мы придумали несколько лет назад, проводить тяжело, и думать об этом не хочется.
То ли на самом деле в тот день вокруг было настолько мало людей, то ли мне просто так казалось, но я постоянно сравнивал Минск и Москву: о эти люди, бегущие по Тверской или Кутузовскому – опаздывающие на встречу, втыкающие на ходу в телефоны, летящие мимо тебя, а то и на тебя, сбивающие с ног!
Минские улицы, наоборот, раздвигались вширь – вам, наверное, знакомо это чувство: как будто выходишь из закутка на площадь.
Всё было заполнено воздухом, облаками, зданиями – в некоторых строениях просматривался старый имперский размах, но были и другие, напоминавшие, что неподалёку находится Балтия и Польша. За сквером через дорогу (ветки деревьев держат на самых кончиках пальцев зыбкую весеннюю желтизну) белели две высокие башенки колокольни костёла.
На улице держались мягкие пять градусов тепла. Стёкла моих очков запотели. Салфетка, которую я обычно носил в кармане, где-то затерялась. Ксеня-чан не дождалась, пока я её отыщу, схватила меня за руку и потащила куда-то. Мы дошли до ратушной площади, облака отплыли в сторону и появилось солнце.
Здесь на одном пятачке уместились и костёл, и православный монастырь, и местный гостиный двор с портиком в стиле классицизм, а чуть поодаль виднелось современное здание с фасадом из стеклопластика с зелёной вывеской «Сбербанк».
На площади развернулась небольшая ярмарка – глиняные фигурки, значки, побрякушки, тряпичные куклы в передниках, полотенца, вышитые крестом. Ксеня-чан сунула мне в ладонь только что купленный магнитик – деревянного козла, чёрного с красным белорусским узором.
– Зачем он мне?
Ксеня-чан сказала, что мы с козлом очень похожи. У нас у обоих длинная морда, бородка клинышком и костлявые ноги.
Тогда я вернулся к лоткам и купил ей деревянную лягушку ярко-голубого цвета.
Глава 5
Мой герой, моя героиня
С Ксеней-чан мы познакомились через три недели после того, как расстались с Марией.
Прямо перед вступительными испытаниями в Худак я свалился с температурой, а во время болезни (и в течение какого-то времени после того, как она уже отступила) мировосприятие человека очень сильно меняется. Так я и пришёл на экзамен: в суставах сидел тихий жар, приглушённый спасительным ибупрофеном, а глаза были полны песка – по московскому воздуху летала какая-то особо нажористая аллергическая дрянь.
Холл главного корпуса Худака жужжал от набившегося в него народа. Некоторые поступающие приходили налегке, у них в руках были только тубы с ватманом, а на плечах висели сумки с принадлежностями. Другие – идиоты вроде меня – приволокли на экзамен свои этюдники, хотя нас предупредили, что всё необходимое будет предоставлено. Один низкорослый парень притащил подрамник с холстом и был очень озадачен тем, что сегодня холст не нужен; видимо, он пришёл сдавать не тот экзамен, и теперь лихорадочно пытался найти в стенах института свободный лист А3. Его нервозность передалась и мне. Я вышел из холла, чтоб успокоиться и подышать воздухом.
Утро стояло свежее, светило солнце, но асфальт повсюду был мокрым; недавно прошёл дождь. Пахло листьями и землёй. Через несколько минут пребывания на улице из носа у меня снова потекло, пришлось доставать спрей и упаковку одноразовых платков.
Я побродил по небольшой аллее и остановился перед корпусом с пятью гипсовыми фигурами, глядящими на меня с высокого портика. Тяжёлая дверь, облицованная деревом, закрывалась и открывалась, через неё проходили разные люди. В одних я угадывал абитуриентов, в других – преподов. Кто-то был счастливым обладателем студенческого билета, и эти последние вызывали у меня зависть и раздражение. Слишком уж вид у них был расслабленный и свободный – по сравнению с нами, прилично одетыми представителями молодняка. Мелькнула трусливая мысль – зря я затеял сюда поступать. Но поздняк метаться: не идти же по дядиной протекции в блатной вуз, чтобы потом работать в военном министерстве.
А потом вдруг подумалось: если провалю эти экзамены, значит, академическая живопись – не моё. Просто и сердито. Каким ветром в мою голову эту мысль принесло, понятия не имею – кто знает, может, это гипсовый Аполлон сверху на меня плюнул, – но лишь я провернул в голове всю эту орлянку, сразу сделалось спокойнее.
Пока я топтался снаружи, на крыльце маячила чья-то приземистая фигурка – издалека было непонятно, парень это или девушка – в тёмно-зелёной футболке и широких светлых джинсах. Фигура стояла с упором на одну ногу, как бы демонстрируя контрапост, который мы должны были сегодня рисовать: плечи слегка вправо, таз влево, правое бедро вперёд. Человек курил.
Когда я поднимался по лестнице, меня окликнули. Я поднял голову.
Сигарету держала полная девушка с торчащими ушами и хвостиком из не очень-то чистых волос желтоватого цвета. Самое обычное лицо с маленьким закруглённым носом, настолько маленьким, что, казалось, он просто утонул между двух пухлых щёк.
– Шнурок.
Я даже не сразу понял, что она имеет в виду. Потом увидел: и правда, по ступенькам волочился шнурок, он сполз с моего левого кроссовка и был уже грязный.
Пока я приводил в порядок обувь, девушка бросила окурок в урну и скрылась за дверью.
Потом всех пригласили в аудиторию. Пока мы входили, я обратил внимание на другую девушку, невысокую и стройную, одетую в чёрную футболку и мешковатые брюки расцветки милитари. Я смотрел на неё со спины: у девчонки был идеальной формы череп – и она его нарочно выставила на всеобщее обозрение. На затылке, заходя на условную линию условных волос, был художественно набит ярко-красный цветок, то ли роза с зубчатыми листьями, то ли пышная гвоздика. Стебель цветка уходил на шею и дальше полз по спине глубоко под футболку, заставляя окружающих фантазировать на тему продолжения рисунка – его формы, цвета, а, главное, ландшафта, на котором он растёт. Приходить на экзамен в таком виде было подло. Я не завидовал парню, чей этюдник все шесть экзаменационных часов стоял позади этого броского отвлекающего пятна.
Во время перерыва мы оставили свои работы в зале и вышли на улицу проветриться. Все разбрелись в разные стороны. Один мой коллега по несчастью вынул из сумки контейнер с бутербродами и прямо на улице, при всех, принялся жевать. Я позавидовал ему – у меня-то кусок в горло не шёл. Я боялся спугнуть «поток», в котором находился, пока рисовал модель. В желудке урчало, и я насильно заставил себя отхлебнуть несколько глотков из бутылочки с водой. Это всё, что я взял с собой для поддержания сил.
– Эй, – раздалось у меня из-за спины. – Ты где учился?
За моей спиной стояла «лысая». В её брови и в крыле носа поблёскивали крохотные серёжки, на правой руке была набита татушка в виде летящих птиц. Глаза – густо подведены.
– Брал частные уроки, – признался я, – у одного художника.
Лысая глядела на меня почти с жалостью, слегка склонив голову к плечу.
– Не то чтоб я подсматривала. – Она почесала за ухом. – У тебя штриховка не такая, как любят в Академии.
– Что значит «не такая»? – Внутри зашевелилась тревога. – Нужна какая-то особая штриховка?
Девушка закатила глаза и вздохнула.
– Да ладно! – выдохнула она. – На подготовительных нам об этом целый год по ушам ездили. Но ты же не ходил на подготовишку? Я тебя не видела.
Я помотал головой.
Ни на какие курсы я и в самом деле не ходил. Дома и речи не шло о том, чтобы тратить деньги, ведь я должен был получить ту профессию, которую выберет для меня отец. Дяде Коле мать платила какие-то крохи из своих тайных запасов, и делала это только чтобы сгладить наш конфликт с отцом, тайно надеясь, что дядя Коля всего лишь старый алкоголик и вряд ли он сможет научить меня чему-то стоящему. Это был предел возможностей, которые могла предоставить моя семья для моего поступления в институт мечты.
– И что вы все сюда ломитесь, – сказала девчонка себе под нос, уже собираясь повернуться ко мне спиной. – Из-за таких, как ты, конкурс десять человек на место.
– Вот же тупая манипуляция, – вдруг раздалось откуда-то справа.
Рядом с нами стояла уже знакомая мне «мисс пухлые щёки».
Я не заметил эту девчонку среди абитуриентов нашей группы, но, оказывается, она тоже вместе с нами только что вышла из аудитории. Теперь на ней был надет длинный рабочий фартук со старыми пятнами от краски, а глаза у девушки были необычного холодно-зелёного цвета. Белобрысая выглядела очень взволнованно – у неё даже лицо покраснело.
– Ты же продуманно действуешь? – Зеленоглазая напирала на «розу». – Кому ещё сегодня кайф обломала?
– Да отцепись ты… – Девчонка с пирсингом толкнула соперницу в плечо.
Силы оказались неравны: девчонка в фартуке просто-напросто больше весила.
– Я толстая, меня так просто не сдвинешь, – невозмутимо сказала она и одной рукой перехватила у «лысой» запястье. – Держись от меня подальше. – Она кивнула в мою сторону. – И от него тоже.
– Всё нормально, – сказал я зеленоглазой. – Ну, мнение такое у человека…
Девчонка в фартуке отпустила наконец соперницу, демонстративно отряхнув ладони.
– Я тоже своё мнение выскажу, ведь у нас свободная страна? Каждый имеет право? – Она повернулась ко мне. – У тебя очень крутой набросок.
Девушка с пирсингом состроила кислую гримаску и отошла в сторону.
Появился препод и объявил, что передышка закончилась. Народ снова повалил в зал, где каждого ждала недоделанная работа, которую следовало довести до ума за оставшиеся три академических часа.
Девушка в фартуке повернулась ко мне.
– Давай, оппа́, – сказала она. – Вторая попытка.
Десять-пятнадцать минут после перерыва я приходил в себя. Не то чтобы меня расстроила критика девчонки с пирсингом, но ссора, в которую я ввязался, сбила мне весь настрой.
Зеленоглазая заступила мне дорогу, когда я в смешанных чувствах выползал из аудитории. Внутри остался мой лист ватмана с рисунком, и на нём уже ничего нельзя было исправить.
Она стояла, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч. Я хотел обойти её, но она остановила меня коротким «Эй!» и для верности положила ладонь мне на плечо.
– Мейл пиши, – сказала она.
– Чей?
– Не мой же. Вечером вышлю методички, их всем на курсах давали.
– С чего такая щедрость? – Я взял у неё карандаш. – Не боишься сливать инфу конкуренту?
Девчонка громко шмыгнула крохотным носом.
– Конкуренция должна быть честной. Ты же не ходил на курсы? – Она кивнула на листочек. – Ну так пиши. Написал? И телефон. И как зовут тебя.
Я вернул ей бумажку; пальцы у девушки были измазаны угольным карандашом. Она сложила бумажку вдвое, сунула её в карман сумки и ушла, буркнув под нос невнятное «генки-де», что по-японски означает – «удачи».
Вечером я получил целых два письма с электронного адреса [email protected], к каждому были приложены три файла в формате pdf.
Я отправил в ответ «спасибо» и спросил о чём-то – чисто для приличия, – но ответа не получил.
В год моего поступления в Худаке были правила: сдаёшь первый экзамен – рисунок фигуры человека – и идёшь на второй (живопись), и при этом понятия не имеешь, сколько баллов ты уже заработал. Потом сдаёшь композицию – и снова не знаешь, прошёл ты или нет. Если ты допустил грубую ошибку только лишь в одной из работ, а две остальные нарисовал идеально – шансов пройти всё равно никаких.
Обе мои знакомые – и «лысая» и «зеленоглазая» – на этот раз заняли этюдники в другом конце зала. Лысая прошла мимо и выбрала место напротив подиума. «Осама Тэдзуки» в фартуке, витающая теперь где-то в облаках, встала справа напротив подиума. Я был разочарован таким равнодушием, я рассчитывал на большее.
Пока мы работали, снаружи начался ливень. Потом пришло время покидать аудиторию, а на улице уже потемнело, словно сутки прибавили часов пять или шесть, – было шумно, как будто кто-то непрерывно возил по асфальту огромной мокрой кистью с синтетическим волосом. Мама всегда говорила: утренний дождь до обеда, а дневной до самой ночи. Я привык носить с собой зонтик, и сегодня он тоже лежал на дне моей сумки, но даже с зонтом идти по мокрой улице до метро было неохота.
Под античным портиком столпились люди, пережидая дождь. Выбрав свободное место возле колонны, я очутился рядом со стоящей в обнимку парочкой. Оба они были одеты в тёмное – высокий молодой человек укрывал миниатюрную девушку полой длинного кожаного плаща. Приглядевшись, я узнал в девчонке свою недавнюю знакомую: трудно не заметить красную розу на бритом затылке.
Парень в плаще был на голову выше её, да и меня тоже, на пару сантиметров. Лицевой череп у него был широким и плоским, с рельефными скуловыми костями и жёсткой линией нижней челюсти. Над тонкими губами лежал тёмный штрих или тень, глаза были узкими, с отчётливым третьим веком. Коротко стриженая прямоугольная голова, островок жёстких вьющихся волос нависал над высоким, покатым лбом, но главное, что бросалось в глаза, – во всю правую щёку – хорошо прорисованное «Fuck you», наколотое готическим шрифтом. Парень был заметно старше нас, одной рукой он прижимал к себе подругу, а в другой держал сигарету и выдувал дым через ноздри прямо на её бритую макушку. Казалось, девчонка нежится в дыму и нарочно подставляет под него голову.
Я стоял у той же колонны, но парочка меня не видела. Парень смотрел на дождь и курил, а девушка льнула к его груди, укрывшись полой кожаного плаща.
Зеленоглазая вышла под дождь в дурацком полиэтиленовом дождевике, таком, в каких по лесу ходят грибники, потом ещё и зонт над собой раскрыла – грибник на моих глазах превратился в гриб и пошлёпал по лужам. На ногах у девчонки были ярко-розовые китайские резиновые кроксы.
– Что за кринжа? – Голос парня звучал равнодушно, но я видел, как заинтересованно он проводил взглядом пару розовых грязных галош.
– Фиг знает. На курсы ходила. – Девушка отвечала нехотя. – Фамилия у неё немецкая, как у эсэсовца.
– Гитлер?
– Сам ты Гитлер, – засмеялась девчонка. – Вспомню – скажу.
Парень достал из кармана пачку, протянул девушке, закурил сам и снова одной рукой приобнял крохотную партнёршу. Теперь она стояла прижавшись к нему спиной.
– Вообще-то мне пох, – деловито сообщил чувак через полминуты и громко выдохнул дым в затылок девушке.
– И мне, – ответила роза.
Дома я залез на сайт института в раздел для поступающих. Там были выложены фамилии всех абитуриентов, списками по каждому направлению. Среди поступающих на монументальную живопись имелась только одна девушка с немецкой фамилией – Ксения Кейтель. Без сомнения, мою новую знакомую звали именно так.
Та парочка возле колонны потом тоже сыграла в моей жизни немалую роль; сошлись мы благодаря Ксене-чан. Звали их Ботва (он учился курсом старше) и Сашенька, и через пару месяцев если бы кто-то меня спросил: чувак, а у тебя есть друзья? – я бы назвал этих троих.
Какой была обстановка на экзамене по композиции, я помню смутно. Мы рисовали треугольный тимпан для фронтона здания – в него следовало вписать произвольный натюрморт из определённых предметов, предложенных комиссией: палитра, кисть, циркуль, книга, лекало. Можно было добавлять любые дополнительные элементы, но из предложенных мы должны были выбрать не менее трёх. Я изобразил какой-то классицизм и снова остался недоволен своей работой. Ко дню последнего экзамена я, кажется, начал уставать – на меня накатывалось полусонное бесчувствие.
На следующий день после экзамена по композиции в Худаке я пошёл сдавать рисунок в другой вуз – это была моя подстраховка на случай провала. Вуз был не профильный, со множеством направлений обучения, да и база у него была так себе: всего четыре года назад в нём открылся набор на специальность «Графический дизайн». В этом году институт анонсировал около двадцати бюджетных мест. Конкурс был меньше, чем в Академии, и сдавать требовалось только рисунок и композицию. Также имелся отдельный набор для инвалидов; я смалодушничал и подался.
Пришёл я во второй вуз уже изрядно вымотанным, на следующий день после испытаний в Академии. Мне не понравился этот второсортный институт, и учиться здесь мне совершенно не хотелось. Ни тебе аполлонов под сводами портика, ни гигантских цветных мозаик на стенах в холле. Ни даже просторных мастерских, в самых дальних углах которых копится пыль пятидесятилетней давности. Не было здесь и коридоров, увешанных работами выпускников.
Передо мной стояло обычное здание постройки конца семидесятых, в двухтысячных пережившее апгрейд: со свежим ремонтом в одних аудиториях и облупившейся краской на стенах других, со специальными грузовыми лифтами и скошенными ступенями для инвалидных кресел – результат косметического вмешательства в соответствии с современными требованиями. Таким был мой «запасной вариант», и на экзаменах я особо не выкладывался. Тем неожиданней оказался результат: я набрал максимальное количество баллов, получив по двум экзаменам девяносто восемь и девяносто пять баллов плюс три дополнительные балла мне начислили за золотую медаль, плюс, наверное, что-то сыграли документы по инвалидности.
Я и думать не думал, что мой запасной вариант станет единственной возможностью получить художественное образование.
А вот мои новые знакомые – лысая с розой на башке и зеленоглазая девушка-гриб по фамилии Кейтель – в Академию поступили.
– Никакой немкой я себя не чувствую, – сказала мне как-то раз Ксеня-чан. – Но принцип есть принцип.
Если бы можно было выбирать, моя подруга с радостью согласилась бы родиться в стране восходящего солнца, но, когда мы рождаемся, никто нас ни о чём не спрашивает.
В пять лет девочка Ксюша откликалась, только если к её имени добавлялось окончание «чан», предпочитая его более распространённому «тян», которое у них в доме «как-то не прижилось». Так всеобщая любимица Ксюшенька превратилась в «Ксеню-чан», и вся семья включилась в игру. Сначала девочку начал так шутя называть её дедушка, потом к нему подключились остальные домашние, а после и все вокруг.
– Дедушка первое время думал, что «чан» – это такая большая русская канистра, – со смехом рассказывала подруга. – Он искренне считал, что девочка играет и воображает себя бочкой.
Ксенино детство прошло в двух местах: на Лосиноостровской и в деревне Колодищи, под Минском. Мать её пыталась заработать любыми способами: зарплаты инженера (она была тогда всего лишь молодым специалистом) не хватало, и Тамара Антоновна по ночам мыла подъезды или мастерила украшения, которые потом продавала в кооператив, – на эту тонкую ночную работу она поначалу больше всего и грешила, когда зрение начало падать.
На зиму к внучке из Белоруссии приезжали по очереди бабушка с дедушкой и сидели с ней с октября по апрель; и даже когда девочку отдали в детский сад, мать и отец приезжали помогать дочери до тех самых пор, пока у неё не появлялся какой-нибудь постоянно-приходящий мужчина. И всё-таки однажды бабушка попала в больницу, и чтобы ребёнок в отсутствие взрослых был занят чем-то предсказуемым, моя будущая тёща принесла дочери большую коробку видеокассет с японскими мультфильмами, которые девочка упоённо крутила с утра до ночи – благо кассетным видеомагнитофоном пользоваться было просто.
Ксеня-чан сначала стала фанаткой всего японского, а в подростковом возрасте её любовь распространилась на Китай и Корею. Она копировала мангу и рисовала фан-арты»[20] на тему любимых аниме, мастерила костюмы для косплея и, чтобы скопить на билет до «Комикона»[21], подрабатывала в Макдональдсе. Также Ксеня-чан всерьёз заинтересовалась азиатской визуалкой и принялась изучать иероглифы. К моменту вступительных экзаменов в Ксенином арсенале имелся сертификат об окончании первой ступени курсов каллиграфии, она умела рисовать на рисовой бумаге в стиле вэньжэньхуа[22] и скупала на Авито китайские настенные свитки. Упорство, талант, а может, и то, и другое вместе с везением помогли Ксене-чан поступить в лучший художественный вуз страны, а склонность быстро разочаровываться – сподвигла её этот вуз бросить ещё до получения диплома и в будущем не испытывать по этому поводу никаких сожалений.
– Лучше уж честно сказать себе: «это не моё», чем потом всю жизнь мучиться, – говорила она. – Ну а что такого? Попробовала, не понравилось. Вариантов много, жизнь одна.
Моя подруга на самом деле попробовала очень многое: и нудизм, и веганство, и фриганство. Было дело, она знакомилась с феминистками и публиковала их манифесты, а однажды она всерьёз присоединилась к какому-то японскому верованию, где община, сформированная виртуально, поклонялась ёкаям, причём происходило это дело онлайн. Примерно через полгода новое увлечение ей приедалось и она охладевала – безо всякого «эффекта фомо»[23], то есть её никогда не мучил так называемый синдром упущенной выгоды.
Лёгкость, с которой Ксеня-чан шла вперёд, принимала решения и отказывалась от них, впечатляла меня и восхищала. Но были две вещи, к которым она относилась с неизменной серьёзностью, и в моём понимании они взаимно исключали друг друга: первой была болезненная, сродни животной привязанности, любовь к своей семье, вторая – идея человеческой свободы и независимости.
Полное принятие близкими людьми любого Ксениного начинания упало на благодатную почву: девочка выросла в заботе и любви, а забота и любовь превратились внутри неё в энергетические ресурсы огромной мощности – любовные урановые залежи. Запас этот был неисчерпаемым – сколько бы она ни разбазаривала его, он неизменно пополнялся сам по себе. Мне всегда было любопытно, в каких условиях вырастают люди, у которых в жизни присутствует такое количество любовей. У меня-то самого их было – раз-два и обчёлся, кстати, насчёт «два» я, если честно, даже не вполне уверен.
– В детстве, если я падала и разбивала коленку в кровь, мне почему-то становилось ужасно страшно. Я орала благим матом и неслась во двор, а все домашние бросали свои дела и сбегались ко мне. Утешали, кормили вкусненьким – особенно дед и бабушка. Даже прабабушка, пока была жива, ковыляла через весь дом со своей палкой и тащила мне полные карманы конфет.
Особенно крепко моя подруга была привязана к деду, который, по сути, заменил ей отца. В четырнадцать лет, получая паспорт, Ксеня-чан, никому не сказав, сменила бабушкину и мамину семейную фамилию Огородникова на другую, дедушкину – Кейтель. Вся семья была в шоке, особенно дедушка, который, узнав об этом, заплакал, как ребёнок.
– За фамилию его всю жизнь шпыняли, – объясняла подруга. – Это самое малое, что я могла для него сделать.
Она рано научилась подмечать гнильцу и обтекаемость правил, по которым люди объединяются в группы. Когда тебе ещё нет двадцати, мир взрослых людей выглядит для тебя пугающим вовсе не потому, что в нём нужно действовать самостоятельно, а из-за той лавины информации, которая накрывает тебя с головой, и ещё – из-за бесконечного множества истин. Возможность сделать карьеру и заработать деньги напрямую зависит от той конкретной правды, которую человек выбирает, независимо от близости этой правды к морали и милосердию. Мы все по-разному переживаем кризис такого понимания. Вот и Ксеня-чан: в какой-то момент она осознала, что единственный способ сохранить своё «я» в лицемерном взрослом мире – просто брать и протестовать. Это и была Ксенина Вторая Важная Вещь (все три слова с больших букв): «Свобода Личного Мнения». Однажды она призналась, что были времена, когда она участвовала в разных митингах и парадах, только чтобы выработать в себе это качество – способность пойти наперекор. Неважно, против чего.
Помню, как моя подруга вступила в организацию, которая занималась сбором средств для беженцев, пострадавших в результате военных конфликтов. Однако, как я понял позже, помощью беженцам дело не ограничивалось. Время от времени Ксеня-чан ходила на мероприятия, никак не связанные с волонтёрством: во время первой летней сессии в две тысячи десятом году она стояла у памятника Пушкину и митинговала за принятие закона о трудоустройстве молодёжи. Осенью того же года она стояла на Болотной площади с плакатом «Спасём белого медведя», а следующей зимой на той же самой Болотной она стояла с антиправительственным плакатом.
В две тысячи десятом руководство Худака выселило иногородних студентов из общежития, организовав ребятам двадцать комнат в общаге другого вуза, но на следующий год контракт с этим вузом не продлило и не организовало обещанный ремонт в старом корпусе. Ксеня-чан и ещё пятнадцать человек вышли митинговать к зданию Минобразования и науки и провели там чуть ли не половину лета, и это при том, что моей подруге самой было где жить.
Мне всегда казалось, что Ксеня-чан подсела на политические акции примерно так же, как наш общий друг Алик Ботвинский подсел на энергетические коктейли: оба могли нормально существовать без своего горючего, но если в пределах доступа имелся хотя бы глоток заветного топлива, их глаза блестели совершенно по-особому.
Я не сомневался, что в прошлом году Ксеня-чан поехала в Минск не только из-за матери. Социальная активность тоже наверняка сыграла роль – тогда по Беларуси прокатилась волна беспорядков. Не знаю, каким образом Ксене-чан удавалось ходить на митинги и не пугать своей деятельностью нервную Тамару Антоновну – очевидно, ей помогала врождённая способность лихо врать и выкручиваться из щекотливых историй.
– Я «враль профессиональ», – говорила подруга. – Если б ты написал столько же сочинений про дедушку, сколько их написала я, ты врал бы так же хорошо и без запинки.
Что ж, она словно в воду глядела. Я и в самом деле написал сочинение про её дедушку, и это сочинение даже принесло мне короткий успех – если вообще возможно говорить о каком-то успехе в нашей крохотной отрасли. И хотя большая часть сочинения была выдумкой – в отличие от других своих проектов, свой комикс я всегда считал документальным.
Ксенин дедушка умер задолго до моего знакомства с его внучкой, но так уж сложилось, что этот человек сделался для меня знаковой фигурой. Немецкий солдат по имени Антон Кейтель стал главным героем первого и, на настоящий момент, единственного комикса, который я нарисовал с начала и до конца полностью сам – и как художник, и как сценарист. Графическая повесть на семьдесят две страницы называлась «Возвращение немецкого солдата» и вышла тиражом пятьсот экземпляров. Первое издание раскупили – и Ксеня-чан решилась на второе. Его тоже почти полностью смели с сетевых прилавков, несмотря на то, что многих читателей этот проект возмутил до глубины души и среди них нашлись такие, кто лил на меня ушаты грязи и советовал сдохнуть раньше, чем разъярённые ультраправые граждане поймают меня где-нибудь в подворотне. Они вычитали в моей работе сочувствие и даже симпатию к фашисту-дезертиру, и, в общем-то, недалеко ушли от истины.
Девятнадцатилетний Антон Кейтель[24] хоть и был всего лишь однофамильцем немецкого главнокомандующего, но тоже однажды пошёл воевать за родину, а его родиной была, понятное дело, Германия. Родился Антон в маленьком городке, в семье потомственных строителей – плотников, или что-то в этом роде. Так и не доехав до фронта, он испугался (а может, усовестился) и дал дёру – пытался сбежать через Минск в Польшу, а оттуда в Швейцарию. Несколько месяцев он отсиживался в подвале, где его приютила белорусская семья, но то ли соседи донесли, то ли сам он засветился – в итоге Кейтель попал в советский плен в сорок третьем. В сорок восьмом для пленных была объявлена амнистия, но он так и не уехал на родину. Будучи уже в летах, в начале шестидесятых бывший военнопленный, отсидев положенный срок в русских лагерях, мирно зажил с молодой женщиной из Минска из той самой семьи, что укрывала его во время войны. Немецкую фамилию бабушка Ксени-чан не взяла и официально брак не регистрировала – опасалась последствий.
От простого рабочего Антон Кейтель дослужился до прораба, но без высшего образования дальнейший карьерный рост был ему заказан. О своей прежней семье Ксенин дедушка не вспоминал до самой старости, и только перед смертью предпринял единственную попытку отыскать немецкую родню, и эта попытка закончилась ничем.
Каждое лето до пятнадцати лет Ксеня-чан ездила к старикам на дачу в белорусские Колодищи, что неподалёку от военного городка. Подруга рассказывала, как по просьбе знакомых дед безотказно и почти всегда бесплатно в свободное время выполнял строительные работы в агрогородке, где у Огородниковых имелся крохотный дачный домик и шесть соток земли. В любое время дня и ночи Кейтель бежал на помощь соседям – ремонтировать крышу, ставить новую теплицу, устанавливать хомут на трубы. И в минском доме, и в Колодищах дед был незаменимым человеком: и столяром, и слесарем, и сантехником, но соседи, если решали, что нужно обратиться за помощью к Антону Кейтелю, произносили фразу, которая выбешивала Ксеню-чан до такой степени, что у неё сжимались кулаки и от гнева тряслась нижняя челюсть:
– Иди немца попроси.
И «немец» никогда не отказывал.
Ксеня-чан хранила его фотографии; дед дожил до восьмидесяти двух и умер только в две тысячи четвёртом, на три года пережив жену. Со снимка смотрел жилистый старик со светлыми глазами и белыми густыми бровями; щеках и на лбу его лежали старческие тёмные пятна, кожа туго обтягивала его скулы, нос и подбородок.
Когда Ксеня-чан была маленькая, семейная история от неё скрывалась. Тамара Антоновна, в детстве не раз пострадавшая из-за отцовского прошлого, сделала всё, чтобы её дочка, если уж ей суждено было появиться на свет, жила свободной от подобного груза. Тамаре Антоновне удалось поступить в московский вуз – она просто поставила прочерк в графе «отец». До того как наступили сложные времена, женщина несколько лет проработала инженером, и в последний год существования Советского Союза ей как матери-одиночке выделили небольшую однокомнатную в Бабушкинском районе, напротив станции Лосиноостровская.
После того как мать Тамары Антоновны умерла, дачу под Колодищами сдавали за копейки родне каких-то соседей – те хотели было выкупить участок, но Ксеня-чан заупрямилась, и мать пошла у неё на поводу. Дед переехал в частный дом престарелых, неподалёку от бывшего своего дачного хозяйства. Всегда подтянутый и крепкий старик, которого не сломили ни плен, ни лагеря, начал быстро стареть и слепнуть. Перед самой смертью он написал повторный запрос на поиск родственников. Пришёл ли ему ответ, ни Ксеня-чан, ни её мама не имели понятия.
Про молодые годы деда разговоры в семье никогда не велись. О том, что она на четверть немка, Ксеня-чан не знала лет до десяти, но, как это обычно бывает, дети каким-то образом самостоятельно откапывают родительские тайны. В школе, во время торжеств, посвящённых Девятому мая, моя подруга всегда старалась сидеть, прикусив язык, чтоб не сболтнуть лишнего.
– Когда мы писали сочинения про Великую Отечественную, всегда приходилось изворачиваться, – однажды сказала мне Ксеня-чан. – Ты не представляешь, как мне хотелось устроить им взрыв мозга! Сколько раз я думала: вот бы написать правду о том, за кого мой дедушка на самом деле воевать пошёл.
Потом она, немного помолчав, добавляла серьёзно:
– Гоню, конечно. Не смогла бы я так его подставить.
Если бы не горячая вовлечённость, которой всегда сопровождались Ксенины рассказы про деда, я, наверное, не взялся бы рисовать свою документальную работу. Ксеня-чан ни о чём меня не просила; я сам вызвался делать этот некоммерческий проект всего лишь по одной причине: история меня глубоко зацепила.
Комиксов, посвящённых истории семьи, особенно семьи, пережившей войну, существует немало; все они были мне в помощь – прежде чем рисовать, я выборочно перечитал их уже не как читатель, но как сценарист и художник. «Маус» Арта Шпигельмана[25] никак не отпускал меня, и поначалу я даже пытался создать что-то похожее – историю про животных, играющих роли жертв и убийц. Я быстро отказался от подобной затеи. Хотелось, чтобы у моих героев были настоящие, человеческие лица.
Тема выглядела просто невероятной: молодой человек, воспитанный на догмах нацистского государства, был отправлен партией покорять Восточную Европу, но до линии фронта так и не добрался и повернул назад. У меня имелась уйма вопросов ко всей этой истории, и первый из них – своим ли умом парень пришёл к безрадостным выводам насчёт долгосрочных перспектив той политики, которую вела его родина? Может, в его отделении был ещё кто-то, кто принял такое же решение – или, что более реально, подтолкнул молодого Кейтеля к побегу? Также я не понимал, как дезертира не заприметил свой же немецкий патруль и не отправил его под трибунал. Что он мог наплести патрульным?
Меня никто не просил – я сам перелопатил десятки сайтов, нашёл старые военные карты, размытые чёрно-белые сканы фотоснимков, прочёл воспоминания русских и немецких солдат – одни книги были написаны хорошо, другие, изданные в Советском Союзе, содержали идеологическую линию, и приходилось читать пятое через десятое. Однажды я даже зашёл в библиотеку имени Ленина, но повторно решил туда не заглядывать: меня напугал огромный библиографический список, который выкатил мне поисковик. Кое-что я взял и оттуда, но на самом деле исторического и фактологического материала, что к тому времени у меня уже был на руках, и без того оказалось более чем достаточно.
Может быть, сейчас я нарисовал бы эту историю более профессионально, более продуманно. Наверное, мне следовало больше внимания уделить личности моего героя, его внутренним переживаниям, а не той реальной действительности, которая вокруг него разворачивалась. Такая мысль мне пришла в голову, когда в прошлом году я прочитал графический роман Ольги Лаврентьевой «Сурвило»[26] – художница нарисовала историю жизни своей бабушки, пережившей блокаду. Я пожалел, что в моём «Возвращении немецкого солдата» не хватает глубины и психологизма; объём семидесятидвухстраничного ваншота не позволил мне достичь всего одновременно, да и работал я не как стайер, а как спринтер. И всё же, упустив психологическую глубину, я добился убедительности иным способом: с помощью искренней и очень сильной собственной вовлечённости. Я был просто одержим своей темой, а одержимость художника – хорошее горючее; оно способно запалить такую же искру и в читателях.
Из совершенно чужого человека Ксенин дедушка стал для меня кем-то вроде призрака отца Гамлета. Пока я не нарисовал всю историю в виде раскадровок и не выслал Ксене-чан ссылку на дропбокс, где были загружены все рабочие файлы, я даже уснуть спокойно не мог. С того момента, как я получил от моей подруги добро на чистовую отрисовку глав (не забуду её звонок в пять утра!), и до того дня, когда я сдал семидесятидвухстраничную повесть в печать, прошло всего семь с половиной месяцев – это колоссальная скорость даже для здорового! Я работал как сумасшедший и, завершив проект, в первый раз в жизни не чувствовал себя измотанным – наоборот, я был счастлив.
Глава 6
Из жизни личинок
Ксеня-чан позвонила мне наутро после нашего визита в галерею. Сначала мы договорились о времени, когда лучше заглянуть к Тамаре Антоновне с цветами, потом – в какой загс нам удобнее подать заявление на развод. Под конец она сообщила:
– Хозяин картины объявился. Написали на Ватсап.
– Блин! – Я бросился к ноуту. – С этого надо было начинать!
Через несколько секунд я уже читал письмо от юриста, представляющего интересы хозяина картины. Письмо было написано казённым языком и извещало, что картина не продаётся и что «владелец запретил несогласованное использование данного произведения в качестве объекта фото- и видеосъемки с последующей демонстрацией в любых целях кроме частного домашнего использования, а также с целью публикаций в изданиях, носящих рекламный, коммерческий, маркетинговый характер, etc.». Подпись стояла весьма условная – Иван Сидоров, или что-то такое, а внизу были указаны телефон, мейл и сайт юридической компании.
Долго прикидывать что да как – не имело смысла.
Я открыл почту мейла, щёлкнул окошко «Написать письмо» и набил короткий текст.
Во-первых, я представился и сообщил, что Николай Кайгородов был моим учителем.
Во-вторых, сказал, что готов на любые условия покупки и могу приехать куда-либо для обсуждения деталей.
И третье, самое главное. Я несколько раз повторил, что являюсь специалистом по данному художнику и готов поделиться информацией о возможных копиях картин Кайгородова. Такая инфа должна была заинтересовать неизвестного мне коллекционера.
Я отправлял письмо почти в никуда. Если я был бы хозяином картины, я повёл бы себя точно так же и никому её не продавал. Денег, чтобы купить такое полотно, у меня, конечно, не хватило бы, но я всё же должен был попытаться выйти на связь. Если задняя поверхность той картины, что выставлена в Минске, чистая, значит, это копия – и писал её я сам. Но если на ней сохранился дяди-Колин автограф… Я мог предъявить на неё права, и… чем чёрт не шутит?
Лицо тёщи, пока она подливала мне чай, сидя за столом в гостиной, было безучастным; через вежливую интонацию пробивались нотки отчуждения. Не помогли ни цветы, ни выпечка из местной пекарни. Выглядела Тамара Антоновна тоже не очень: побледнела, похудела, но, несмотря на худобу, даже несложные действия на кухне вызывали у неё стойкую одышку.
– Мама нами недовольна, – сказал я подруге, когда мы наконец вышли на улицу из подъезда.
Ксеня-чан вместо ответа сурово сдвинула брови и помотала головой, а потом взяла меня под руку и повела через двор, мимо детской площадки с ярко раскрашенными снарядами для лазания. Манёвр был рассчитан, чтобы Тамара Антоновна полюбовалась нами из окна.
– Твоя, наверно, тоже не в восторге. – Ксеня-чан вымученно улыбнулась. – Мы их передержали. Ну, знаешь – как тесто.
– Ты уверена? – Я с тревогой посмотрел на подругу. – Меня не парит, если что. Можем ещё походить со штампами.
Ксеня-чан закатила глаза и вздохнула.
– Тебя не парит – меня парит. – Теперь её голос звучал уверенно и спокойно. – Человек должен быть свободным.
До ближайшего загса было семь минут на троллейбусе.
Как сказал один писатель, все свадьбы чем-то похожи друг на друга, а вот разбегаются все по-разному. Наш с Ксеней-чан бракоразводный процесс оказался делом ещё более неприятным, чем наша женитьба, но ни тогда, ни сейчас я не понял причины – почему мне так паршиво? То ли атмосфера госучреждений автоматически вызывает в человеке всплеск негатива, то ли я попросту завидовал другим людям, тем, у кого и свадьба, и развод были настоящие.
Мозг автоматически выхватывал и впечатывал в память те куски реальности, которые отличалась особым уродством. Наблюдать было и противно, и любопытно: примерно с таким же отвращением в детстве я наблюдал за белыми толстыми личинками майского жука, которые соседка по подъезду принесла мне однажды в подарок, – червяки ползали внутри стеклянной банки с весенней землёй. Сегодня я сам был такой личинкой – и сам за собой наблюдал.
Мы оплатили пошлину размером двадцать девять белорусских рублей, и личинка в белой блузе и голубой медицинской маске протянула Ксене-чан квитанцию под большим поликарбонатным щитом, повешенным тут, чтобы защищать работницу загса от вируса. Потом, высидев полчаса в окружении незнакомых людей в масках, мы прошли в кабинет. Ещё одно существо с пергидролевыми буклями приняло у нас заявление. Так как у нас не было ни детей, ни совместно нажитого имущества, вопрос можно было считать решенным. За свидетельством нам сказали прийти через месяц.
Светило солнце. Напротив загса через дорогу лежал небольшой сквер, к нему вела вымощенная плиткой дорожка. Мы побрели по ней мимо тёмных треугольных елей и двух рядов аккуратно подстриженных кустарников с прозрачной зеленью на кончиках красноватых ветвей. Перед нами возникла ажурная арочка с надписью «Счастья молодожёнам!», и мы, делая вид, что не замечаем надписи, прошли под ней вглубь сквера.
Мы добрели до низины, где лежал небольшой пруд с невысокими бетонными парапетами и ступенями, ведущими к воде. На ровной поверхности склонов вовсю зеленела трава, по прозрачной коричневой воде плавало семейство уток.
Ксеня-чан закурила. Я снял куртку, сложил её вдвое, сел на ступеньку и, пока моя бывшая жена молча курила одну за другой, достал скетчбук и, расчертив два разворота на кадры, набросал четыре эпизода истории из жизни личинок, которые приползли в госучреждение разводиться.
– Покажи. – Ксеня-чан села рядом и потянула на себя лист. – Вон той хрущихе паричок нарисуй. Напудренный, с косичкой.
Я добавил парик.
– Надо ещё эпизод, как личинки проползают под арочкой «Совет да любовь». Так ме-едленно ползут.
– И подпись: жили долго и счастливо…
– И развелись в один день.
Я нарисовал арочку. Ксеня-чан забрала у меня скетчбук.
– Огонь, – удовлетворённо сказала она. – Выкладывай. Миллион просмотров обеспечен. Не хочешь? Тогда я сама.
Ксеня-чан достала телефон и сфотографировала наброски.
– Эй, алё! – Я попытался отобрать у неё телефон, но она отпрыгнула на пару шагов. – Закончу нормальный лайн, тогда выложу! Будь человеком, ничего не делай!
Подруга показала мне язык.
– Я и так личинка бесправная, – заявила она. – Мне и так фигово. Могу я хоть портретик свой расшерить?
– Не готово же!
– Пофигу, уже запилила, – сказала подруга и добавила: – Можешь не лайнить. У тебя наброски лучше выходят.
И сунула мне под нос экран, где мои кавайные личинки поползли в сеть набирать миллион лайков.
Возможно, так оно и было: я и сам замечал, что наброски у меня очень часто получались хорошо, а готовые работы – далеко не всегда. Наверно, потому что набросок – это расходник, ничто, фитюлька. Спортплощадка, чтобы размять мышцы. А чистовик – это серьёзно. А когда наступает «серьёзно», рисунок может неожиданно сдуться изнутри и превратиться в собственную тень.
Я спросил Ксеню-чан, а как насчёт «Явления Христа народу» художника Иванова – той картины, что висит в Третьяковке. Подруга наморщила лоб и согласилась: в этом что-то есть.
Каждый квадратный сантиметр большой картины вылизан осторожной кистью, смотреть тошно: сразу думаешь о том, кого автор копировал, Рафаэля, что ли? А наброски, те, что развешаны вокруг, – чистый огонь и полёт. Может, кто-то видит этот огонь и в большой картине – но я нет, не вижу.
Ксеня-чан снова нырнула в экран и победно вскрикнула:
– Вау! Это бомба. За десять минут семьдесят пять лайков и четыре расшера. Открой Инсту[27], сам посмотри!
Настроение у моей подруги поднялось, а, собственно, затем я и рисовал. Я залез в Инсту[28]. Лайки и расшеры впечатляли.
– Что происходит? – Я почесал затылок. – Я вешал крутые арты из набросков к «Парусам» – нифига. А ты – бросила в сеть какую-то недоделку, и народ пищит от восторга. Я чего-то не понимаю?
– Ты многого не понимаешь. – Ксеня-чан села обратно на прогретый солнцем камень и хлопнула меня ладонью по плечу. – Говорю же: я гениальный маркетолог. И если нарисуешь мой проект про собак…
– Ой, всё.
Я поморщился и поскорее открыл приложение мейла – на почту секунду назад упало какое-то письмо.
Открыл и застыл на месте.
– Эй, – я ткнул подругу в плечо. – Погляди-ка.
Она взяла у меня телефон, прищурилась и стала читать. По мере того, как она читала, глаза её всё сильнее округлялись.
«Здравствуйте, Алексей, – писал мне незнакомец. – Ваша информация меня заинтересовала, но ещё больше заинтересовали меня Вы сами. В моей коллекции есть несколько спорных полотен. Если Вы действительно специалист по творчеству Николая Кайгородова, в чём у меня нет причин сомневаться (справки о Вас я уже навёл), предлагаю следующее.
Как Вы смотрите на то, чтобы ознакомиться с моей частной коллекцией? В ней важное место занимают несколько полотен Вашего учителя, но есть и вещи более любопытные. Есть Зверев, Ситников, Булатов. Мне кажется, Вам было бы небезынтересно.
Я же, в свою очередь, хотел бы получить Ваше экспертное заключение, в частности, насчёт одной интересующей меня работы художника Кайгородова. Я постоянно живу в Швейцарии, но, возможно, у Вас имеется итальянская виза и Вам будет удобнее прилететь в Италию? В Альвиано, недалеко от Рима, у моего сына есть дом, и там как раз в данный момент находится часть моей коллекции. К сожалению, время сейчас такое, что долгосрочное планирование выглядит неэффективным; поэтому если Вы согласитесь в ближайшие дни прилететь в Рим или в Лозанну, я смогу уделить Вам один-два дня в своём расписании. Жду Вашего ответа.
Если ответ будет положительный, я готов оплатить Ваши дорожные издержки ввиду того, что попытался так бесцеремонно поменять Ваши планы. Вы можете прислать мне данные своего паспорта и желательные даты вылета из Москвы, и мы сочтём Ваш ответ положительным».
Под письмом стояла подпись, которая мне совершенно ни о чём не говорила, и поисковик про этого человека не выдавал никакой информации.
Мы с моей подругой переглянулись.
– Поедешь? – Глаза у неё загорелись.
– А давай вместе? – предложил я. – На мошенников не похоже – но вдруг?
Подруга выразительно постучала мне кулаком по лбу.
– Ты о чём вообще? – сказала она. – У меня в Москве издательство без присмотра. Я и по работе из-за мамы вырваться не могу, а ты: в Италию… И шенген просрочен. Нет уж. Тебя зовут – ты и едь.
Она вдруг нахмурилась.
– Оппа́, а виза у тебя точно итальянская?
– А какая ещё? – Я пожал плечами. – Зачем-то продлил.
– Почему этот коллекционер в курсе твоей визы? – Лицо моей подруги на секунду стало обеспокоенным, но потом беспокойство пропало. – А, пофиг. Зовут – езжай. Тем более нахаляву. По Европе погуляешь, красота! Откажешься – никуда больше не пригласят.
– А если…
– Просто езжай! – Она толкнула меня плечом с такой силой, что я чуть не упал. – Загран с собой? Тогда хоть завтра лететь можешь. Прямо из Минска.
Паспорта лежали во внутреннем кармане куртки, а на куртке я сидел – всё моё было при мне.
– Коллекционера нельзя пробить через интернет. – Я снова попытался ввести имя и фамилию адресата в поисковик. – Странно. Меня-то он пробил на раз-два, даже про визу знает.
– Богатый человек, светиться не хочет. – Ксеня-чан пожала плечом. – Юрфирму я вчера погуглила. Нормальная фирма, есть филиал в России.
Я запустил пальцы в волосы.
– Одному ехать как-то… – Я подыскивал слово, слово не подыскалось. – Давай сделаем тебе визу, подождём с недельку.
– Я вообще-то сейчас в отношениях. – Ксеня-чан прищурилась, краешки губ её напряглись. – Всё обломать мне хочешь? Не выйдет. Это ведь тебе нужна картина? Мне-то она не нужна.
– Вот же мелкая! – Я встал с бетонной ступеньки, поднял куртку и отряхнул её. – Попроси меня о чём-нибудь…
– О чём просить-то? – Ксеня-чан потянулась. – И так ничего для меня не делаешь.
Я ещё раз перечёл послание. Сложно было предположить во всём этом какое-то двойное дно. Между тем гугл-карты говорили, что Альвиано находится на расстоянии часа езды от Рима на поезде в том же направлении, что и Орвието – единственное место, где мне удалось побывать во время моей предыдущей (и единственной) поездки в Италию. А итальянская виза… Что за чушь, сказал я себе. Такое бывает только в дорамах[29]. В обычной жизни никто никого по базам не пробивает, тем более такого дятла, как я.
– Орвието помнишь? – спросил я подругу.
– Ещё бы.
Мы помолчали; я знал, о чём сейчас думает она, а она – с точностью могла бы пересказать мои мысли, если бы её об этом, конечно, попросили.
Потому что есть на свете вещи, которые связывают людей гораздо крепче, чем штамп в паспорте.
Иногда это вещи весёлые, но чаще – грустные, болезненные, они касаются чего-то такого, что хочется спрятать поглубже, в дальний отсек памяти. Но если человеку удаётся избавиться от таких воспоминаний, сначала такой человек теряет свою плотность и непрозрачность, потом – контуры, а после и вовсе пропадает, полностью. Мне вообще с некоторых пор кажется, что в жизни гораздо важнее не то, что вы приобрели, а то, что потеряли. Именно мерой потерь и ценой этих потерь измеряется глубина человеческой души – или что там у нас внутри, какая-то другая бессмертная матрица?
Солнце грело почти по-летнему, но воздух плыл сквозь нас волнами: одна тёплая – другая холодная.
– Какие планы? – спросил я Ксеню-чан, надевая куртку.
– Нарисовал?..
Я кивнул.
Ритуал, который мы с ней сами себе придумали, был очень простым. Каждую весну мы должны приходить куда-нибудь к воде – к реке или к озеру – и жечь на берегу два карандашных портрета.
Первые два года такой портрет был только один, а вместе со мной и Ксеней-чан в этом участвовал ещё и Ботва – но потом всё стало так, как стало.
Глава 7
Проклятые в аду
Ботва был именно таким человеком: встретишь его один раз – и всё, уже не забудешь. Потому-то женщины всех возрастов вились около него стаями, да и парни от них не отставали. Сашенька, та самая, с розой на затылке, считалась его официальной девушкой и всегда следовала за ним по пятам, но это не отпугивало его поклонниц: во-первых, Сашенька училась на курс младше, а во-вторых, на свете не было такой силы, которая могла бы удержать Ботву в узде.
Я близко познакомился с этой парочкой осенью, уже после того как более-менее пришёл себя после поражения на экзаменах в Худаке. Я учился в другом институте и работал в мастерской, там я пытался делать фазовку для моей пилотной анимации.
Ксеня-чан позвонила первая, у нас завязалась телефонная болтовня. Она позвала гулять – я пришёл, и новая знакомая чуть ли не силком потащила меня в мастерскую на втором этаже Худака, где они втроём – Ксеня-чан, Сашенька и Ботва – иногда тусовались по вечерам. Каким образом эти двое девчонок, что поцапались на экзамене, сделались приятельницами – мне неведомо, но с девчонками такое бывает.
Через охрану я прошёл нелегально, по чужому пропуску – новая подруга сунула его мне в руку. По этому пропуску я долго ещё проходил через охрану и тусовался по вечерам в мастерских чужого вуза, вход туда был открыт до самого позднего вечера, но только для избранных. Потом я этот пропуск где-то продолбал, но моя морда в Академии уже примелькалась, и знакомые охранники пускали меня просто так. А потом сделали систему турникетов, но к тому времени наша компания уже распалась.
Мы поднимались в мастерскую, и я смотрел по сторонам с наблюдательностью Кэнсина[30], которого пустили переночевать в дом люди из Токугавского сёгуната – я был уверен, что пустили меня сюда в первый и последний раз. Вот голубая фреска с кудребородым апостолом в сине-алой одежде. Слева от фрески, верхний край которой уходил в потолок, – маленькая дверь с жёлтым треугольным значком посередине: «Не курить: No smoking» – в общем, чистый постмодерн. А вот полукруглое каноническое изображение Христа-вседержителя в синем плаще и на золотом фоне: под копией иконы спокойно себе висит батарея отопления старого образца, выкрашенная облезлой светло-бежевой краской.
Помню, как мы вошли в мастерскую – она тогда показалась мне меньше, чем я предполагал, – помещение было заставлено подрамниками, завешано драпировками. Его, наверное, не ремонтировали лет десять, а то и двадцать. Пахло пылью и скипидаром. Верхний свет пока не зажигали – в шесть вечера было ещё довольно светло, – но две икеевские лампы на прищепках, закреплённые на вертикальных штангах, освещали деревянный стол с тёмным керамическим блюдом. На блюде лежали яблоки – жёлтые, с красными брызгами на блестящих боках.
Я увидел тех двоих: Сашеньку, бодро малюющую что-то на холсте, и Ботву – он сидел на полу у неё за спиной, рядом с неаккуратно сдвинутыми к стене старыми подрамниками. Ботва снова был одет в чёрное, щека с наколкой с моего места была не видна, но и без того вид у него был пугащий; такая аура держалась вокруг него всегда – и когда он глушил свой «Адреналин-раш», и когда не глушил; это было его собственное душное биополе, мало кто мог долго его выносить.
Парочка нас упорно не замечала – мы тоже к ним не лезли. Ксеня-чан показала недоделанную работу – тоже яблоки, как и у Сашеньки, чуть в ином ракурсе. Я должен был посмотреть на холст свежим взглядом и сказать, что здесь не так. Через несколько минут мы нашли ошибку и Ксеня-чан сунула мне в руку кисть:
– Исправишь?
– Почему я? – Предложение звучало более чем неожиданно. – Это же твоя работа. Кто из нас поступил в Худак?
Девушка нетерпеливо дёрнула меня за рукав.
– Просто исправь. Я заплачу.
Я пожал плечами и попросил фартук.
– Так и знала, что всё это не моё, – сказала она, уступая мне место. – Весь этот скучный академизм.
– Ты просто не знаешь основ. – Я закатывал рукава. – Как ты вообще прошла отбор?
– Основы – вещь относительная. – Ксеня-чан принялась завязывать фартук мне на поясе, сзади. – Например, древние китайцы, те вообще с перспективой по-особому обращались. Она у них была подвижная, ясно? Посмотри любой свиток, там вообще речи не идёт ни о каком реализме.
– Тоже мне, новость. Кубисты писали так же.
– Твои кубисты допёрли до этого аж в двадцатом веке. – Она с силой затянула узел у меня на спине. – И допёрли не своим умом. А китайцы так работали всегда. И метод создали на десять веков раньше. Вот, например, что такое «теория трёх далей»? Ты и понятия не имеешь!
Она была права, про три дали я слышал впервые.
Сашенька колдовала над картиной в нескольких шагах от меня. Казалось, чувак с наколкой на щеке даже не смотрел, как работает его девушка; взгляд его был направлен в окно, и, хотя сегодня там не было дождя, на мгновение мне почудилось, что дождь есть: словно один его взгляд был способен переменить погоду.
Потом, не поворачивая головы, он сказал подруге:
– Блик не туда.
И потом, через паузу, снова:
– Не туда.
Наконец он вздохнул и сказал:
– Отойди.
Девушка отступила на два шага назад и нахмурилась.
– Скатывается.
Лежащее на переднем плане яблоко и в самом деле «скатывалось» с поверхности картины: казалось, ещё немного – и оно упадёт прямо на пол.
– Бесполезно, – сказал парень, и девушка послушно отошла. Она взяла с подставки тряпку для вытирания краски и принялась чистить кисти. Эмоций на её лице я не заметил.
Парень поднялся с пола, подошёл к картине.
Я думал, девушка отдаст ему свою кисть, но в руке у чувака был мастихин. Парень сделал несколько широких движений, и большая часть только что наложенной на холст краски осталась на металлическом ребре. Девушка выглядела бесстрастно; она отвернулась и просто вытирала кисти. А вот лицо парня вдруг ожило. В его глазах что-то мелькнуло, и он сделал ещё пару движений, прищурился, наклонил голову, на секунду замер. Ещё два-три движения, остановка. Ещё.
– Пойдёт, – сказал он наконец и передал мастихин девушке.
Мы с Ксеней-чан подошли посмотреть. На холсте вместо яблок появилось корявое осеннее дерево со сломанной веткой, на которой, если напрячь фантазию, можно было различить расправившую крылья птицу.
– А всё почему? – Услышал я голос чувака с наколкой на щеке. – Потому что я грёбаный гений.
Интонация, с которой это было сказано, не оставляла никаких сомнений: перед нами стоял действительно он. Гений и дракон.
Ботва был старше нас на два года, он приехал в Москву из Улан-Удэ, и с него почему-то сдувал пылинки весь преподавательский состав. Это было всё, что мы о нём знали, пока тусовались в Худаке. Рассказов о семье Ботва избегал, потому что образу «внечеловека», как он сам себя называл, не могла соответствовать никакая реальная биография.
Уже в юности некий бурятский олигарх купил две работы Ботвинского за баснословные деньги, и этих денег хватило на всё: и на поступление, и на съёмную квартиру в районе метро «Водный стадион». Мы ещё были первокурсниками, а одна работа Ботвы уже висела в музее – то ли в Нижнекамске, то ли в Елабуге; музей маленький, но разве это для нас имело значение? Через два года этот музей взял у него ещё одну картину и предложил устроить собственную выставку. Работу, после которой ему предложили выставку, Ботва писал уже во времена нашего с ним знакомства. Он хотел изобразить злого духа в технике граттаж: выцарапывал контур изображения с помощью бутылочного осколка. В этом «Злом духе» Ботва показал себя таким, каким он и был: гениальным, сильным, самовлюблённым и жестоким – а у нас имелась возможность в этом убедиться, когда вскрылись особенности его отношений с девушками. Бывали периоды, когда Ботва слетал с катушек; одна девушка после свидания у Ботвы на квартире даже заявила на него в полицию, но дело в итоге замяли. Сашенька тоже была в курсе, но казалось, что эта особенность бойфренда не пугает её, а даже заводит.
Со способами передачи замысла и художественными техниками Ботва тоже экспериментировал; с его подачи все в нашей компании хотя бы один раз попытались нарисовать картину вином или тёмным пивом, огнём или нитками. Он научил нас делать специальную пластичную бумагу из упаковок для яиц, обойного клея и старых журнальных страниц: в состав печати по глянцу входит свинец, вот он-то и был важным компонентом в этой смеси. Бумажную массу следовало измельчить в пыль, размочить в воде, смешать с обойным клеем. Получившуюся субстанцию, рыхлую и серую, похожую на тесто, скалкой или бутылкой мы раскатывали на полиэтилене в плоский блин, и сделать это нужно было быстро, потому что если добавишь слишком много клея, тесто мгновенно застынет на воздухе. Незастывшему блину можно было придать какую угодно фактуру; на нём прекрасно отпечатывалась поверхность предметов. Однажды Ботва сделал серию картин на такой бумаге: отпечатки подошв разных людей. Он назвал эту серию «Время». Он придумал её, чтобы «почувствовать время внутри себя». Потому что время, как и человеческие шаги, фрагментарно.
Лука Синьорелли был темой курсовой работы по монументалке у Сашеньки и Ксени-чан.
В программе обучения кроме самостоятельной работы значился пункт: работа с материалом. Преподавателем у их потока был бородатый дядька, его фамилию я забыл, а студенты звали его просто Михлыч. Михлыч предложил студентам самим выбрать тему и произведение, с которого всем курсом нужно было сделать серию монументальных картин. Готовые потом вывешивали в коридорах Академии. Ребятам захотелось работать весело и с огоньком – и они выбрали тему «Божественной комедии» Данте. Преподаватель чуть-чуть подкорректировал идею, и в качестве референса была взята фреска Луки Синьорелли «Проклятые в аду».
Это нужно было видеть своими глазами. Фотографии, которые хранятся у меня в облаке, выглядят слабым подобием реальности и не передают ни нахальства замысла, ни юмора, ни молодого неспокойного горения, с которым создавались эти полотна размером два на два метра. Студенты просто завалили рабочее пространство голыми телами – прописали их с натурализмом позднего Возрождения, жирными мазками. Обнажённая плоть роскошествовала на каждом квадратном дециметре – бледные бёдра чертей, их зелёные торсы, огромная дьявольская задница на переднем плане с зияющей тьмой в крутом разрезе глубокой межъягодичной складки. Набедренные повязки в виде лохматых козлиных бород, прикрывающие чресла нечистой силы, выглядели гораздо жизнерадостнее, чем обвисшие яйца и сморщенные члены грешников; у некоторых демонов в поросли между ног отчётливо угадывалась эрекция, она была настолько рельефной и очевидной – просто глаз не отвести! Рога задорно торчали из костистых, обтянутых кожей черепов, эти рога тоже походили на кривые возбуждённые члены. У демона, накинувшего петлю на шею молодому преступнику, из-за спины торчали лихо прописанные серые нетопыриные крылья, усеянные чешуйками плесени. Всё было мерзко и великолепно.
Потом в Академию пришла какая-то тётка из Минобразования и потребовала срочно демонтировать выставку.
– Где вы такое взяли? – вопила тётка. – Позор какой, постыдились бы! У вас тут, между прочим, Спас Нерукотворный на соседней стене висит!
Ей, конечно, возразили, что Спас – вполне себе рукотворный, а черти – всего лишь копия с работы художника пятнадцатого века, но тётка припечатала: «Не может такого быть».
Картины висели в коридорах всего неделю, а потом начальство приняло радикальные меры и избавило молодых художников от созерцания сатанинских членов.
Михлыча на кафедре уважали (хотя и не любили), а некоторые преподы наверняка ему завидовали; он был любимым учеником предыдущего завкафедрой, который стал классиком и несколько раз выставлялся в Европе. А сам Михлыч из всего курса выделял как раз Сашеньку. Он хвалил её размашистые мазки, заставлял утрировать пластику фигур и считал, что непрорисованные лица – крутой стилевой элемент. Сашенька любила писать экспрессию и работала с открытыми цветами – так писали мексиканцы (Ривера, Сикейрос) и так же писал дядя Коля Кайгородов. В Академии бытовала манера писать цветами закрытыми, которые Ботва и Сашенька презрительно именовали «грязью».
Рядом с портретами краснощёких баб в платках и девиц в пилотках работы Сашеньки выглядели странно; гуляя по отчётной выставке их курса, я собственными ушами слышал, как некий дедок с испитым лицом в пиджаке и клетчатом шарфике, претенциозно закинутом через плечо, громко произнес на весь зал: «А вот эта студентка у нас выпендривается. Ни вкуса, ни стиля, ни меры. Я б не спешил ставить ей зачёт».
Михлыча уволили как раз когда его любимая группа была на четвёртом курсе, после зимней сессии – просто не продлили с ним договор. Новый профессор, которого поставили вести живопись у бывших учеников Михлыча, был идейным противником экспрессионизма. Сашенька написала тогда свою «Молитву» – разъятую на части окровавленную фигуру человека, стоящего на коленях. Эту работу окончательно сняли с курсовой выставки (официальная формулировка была – «за деструктивное содержание»). Прошло заседание худсовета по результатам выставки, и на следующий день после заседания всему курсу, на котором учились Сашенька и Ксеня-чан, переправили оценки с «отлично» и «хорошо» на «плохо» и «удовлетворительно».
Ни один из преподов, что снимали Сашенькину «Молитву» с выставки, не мог и предположить, что через пару недель имени этой студентки в списках курса значиться больше не будет. Причина будет простая: физическая смерть.
Ксеня-чан понимала, что к событиям вокруг Сашеньки она имеет самое прямое отношение. Все знали, что моя подруга в открытую начала мутить с Ботвой прямо на глазах у его девушки, а та не спорила, не устраивала скандалов и никак не пыталась отбить бывшего парня у бывшей подруги. Вместо этого Сашенька строила из себя современную женщину, которой всё по барабану, и долгое время ей удавалось держать себя в руках. До нас как-то слишком поздно дошло, что это была просто показуха.
Я потом долго ломал голову, почему всё так произошло. Почему мы все ходили как слепые?
Обвинять Ксеню-чан не имело смысла: она сама себя обвиняла, и делала это жёстче и больнее, чем любой из окружающих. У меня не укладывалось в сознании: как могла она, повёрнутая на справедливости и честности, так кинуть собственную подругу?
Но в столкновении между понятиями «дружба» и «свобода» внутри Ксениного разума вдруг победила «свобода». Одержимость моей подруги защитой так называемого «независимого волеизъявления» сыграла самую злую шутку из возможных: монстр вылез наружу.
Раньше мне казалось, будто мы, все четверо, друг за друга горой – но сейчас-то я вижу, что в нашем крохотном сообществе каждый был замкнут только на самом себе, на своих собственных проектах и достижениях. Когда Сашенька была с нами, мы даже не пытались ничего разглядеть, да и что, собственно, мы могли увидеть? Что после расставания с Ботвой в её ухе появилось ещё три дырки, а по татуированной шее фактурно поползла красно-зелёная удавка? Я попытался вытащить Сашеньку в кафе, но она сочла это актом жалости и послала меня на три буквы. Я оставил свои попытки, когда её презрительно искривлённый рот выдал мне фразу «Посмотри на себя – кому ты сдался, импотент». Сашенька была девушка резкая, а я на фоне Ботвы и в самом деле выглядел как ободранный хомячок.
Сашенькино настоящее лицо мы все увидели только в гробу: она лежала одинокая, испуганная, так и не освобождённая от себя самой. Сашенькины мама и папа, оба очень молодые, оба не старше сорока, стояли возле гроба с такими же мёртвыми лицами. Её отец на кладбище дважды потерял сознание.
– Я же прямо спросила у неё – сорян, мы с Ботвой переспали, ничего? – Ксеня-чан повторяла как заведённая. – А Сашка мне: ну норм, переспали и переспали.
Сашенька сказала «ну норм». Пожала плечами, набила наколки, воткнула в уши новые штанги, а через месяц закинулась смертельной дозой какой-то дряни. Так как не было ни записки, ни какой-либо другой приметы, которая чётко определила бы, что это самоубийство – полиция сделала заключение о смерти по неосторожности, или что-то подобное. Ботву потом долго ещё таскали по допросам, пытались выяснить, где его подруга добыла ту самую «дрянь» и был ли Ботва в курсе.
Тогда тоже никто не мог предположить, что без Сашенькиного молчаливого присутствия брутальный Ботва полностью потеряет над собой контроль и сгорит за два последующих года.
Я щёлкал и щёлкал Ксениной зажигалкой, а краешек листа с портретом Ботвинского всё никак не желал принимать в себя пламя – словно его сбрызнули какой-то несгораемой субстанцией. Наверное, это и была она, субстанция времени, что никак не желало втягиваться в узкую щель между поверхностями горящей бумаги. Повторяющееся из года в год действие – отпечаток лица, исчезающий в огне, портал в прошлое, в нашу, и только нашу историю, точка в сюжете, возможность короткого возвращения к себе самим, к своему собственному настоящему, в котором все оказываются живы и даже самое страшное небытие можно пройти насквозь и выйти на поверхность нового альбомного листа как в новое бытие.
Капризное пламя решило не доедать два наших листа – Ксенин с карандашным наброском головы Сашеньки и мой с портретом Ботвинского. Обещанный синоптиками западный ветер наплывал уже не волнами, а порывами; поодиночке листы гореть не хотели, и только соединённые вместе, защищённые нашими спинами, плотные куски бумаги занялись и образовали маленькую огненную арку. В эту минуту я думал обо всём сразу – о Сашеньке и Ботве, о Марии и моей картине «Бык бежит…», о пожаре в прерии, о кострах на снегу, о себе самом и о Ксене-чан.
Крохотные обгорелые уголки, за которые мы держали бумагу, Ксеня-чан дожгла уже на бетонной ступеньке. Последний кусочек догорал – в этот момент моя подруга заметила бредущего к нам из глубины сквера человека, по виду похожего на работника охраны. Мы притоптали пламя и быстро (насколько это было в моих силах) зашагали к одному из выходов.
Ксеня-чан проводила меня до метро, мы спустились на платформу и, расходясь по разным поездам, обнялись на прощание. Стояли в центре зала, был час пик, и народу в метро сбежалось много, почти как в Москве. Чей-то проплывающий мимо рюкзак случайно шоркнул меня по спине.
– Ну что, разведёныш. – Ксеня-чан поскребла ногтем воротник моей куртки, счищая с него невидимую пылинку. – Соберёшься в гости к Луке, привет от меня передавай. Всем чертям вместе, и отдельный привет – мистеру Зелёной Заднице.
Она шлёпнула ладонью мне по плечу и побежала к поезду. Голубые волосы затерялись между чужими спинами и головами. Потом они пропали из виду, а я развернулся и направился на свою платформу. От моих пальцев снова пахло дымом.
Уже в вагоне, удачно заняв освободившееся место, я решил проверить Ксенин Инстаграм[31].
Личинки получились и в самом деле – высший класс. Рисовать их было несложно, и даже весело. Может, потому, что стилистически они сильно отличались от всего, чем я занимался последние три года. Во-первых, эти герои были толстые и забавные. Во-вторых, они никуда не летели, ни в кого не стреляли, никого не побеждали и не обороняли. У них были крохотные лапки и бусины на кончиках рожек – милота, чесслово. Мир личинок был крохотным и замкнутым, они медленно соображали, тяжело передвигались и решали свои мизерные проблемки с философской неторопливостью.
Четырёхкадровые истории про личинок я рисовал всё оставшееся время до вылета, настолько вошёл во вкус. Высовывать нос наружу не хотелось, бродить по Ксениному городу в одиночку было неинтересно, и я два последних дня просидел в гостинице, с карандашом и планшетом. Поэтому, собственно, Минска в ту поездку я так, по сути, и не увидел. Он остался в моей голове как город, где в скверах иногда встречаются арочки «Совет да любовь», под которыми медленно проползают пухлые личинки-философы с бусинами на рожках.
У девочки-личинки постоянно что-то подгорало на кухне, у личинки-мужчинки были вечные проблемы на работе, и, надо сказать, сносил он их с пофигизмом, достойным восхищения. Вот и все жизненные тяготы моих героев; такие тяготы никого не грузят, не печалят. Жизнь после развода размеренно приходила в обычное русло. И хоть я сам не особо переживал из-за пропажи штампа в паспорте, мои герой и героиня были совсем не такими. Они грустили, не знали чем себя занять, вспоминали неудавшуюся семейную жизнь и всё-таки продолжали ползти куда-то вперёд.
Второй ёнком про личинок, выложенный тем же вечером (я слегка поправил лайн в диджитал, добавил эмодзи), к утру завирусил Инстаграм[32], а вечером следующего дня уже вовсю гулял во Вконтакте. Мой почти заброшенный паблик, куда, согласно договору, я не имел права выкладывать итоговые арты из «Парусов Регора», – вдруг ожил. В подписчики добавилось больше сотни незнакомцев.
Слава оказалась хорошим лекарством от жизненных неурядиц.
«Интересно, – думал я, листая список людей, поставивших лайк моей публикации. – Может ли Мария быть среди этих людей?»
Судя по именам, которые пробежали у меня перед глазами, Марии среди них не было. Но соцсети тем и хороши, что человек может взять себе какой угодно ник, и под этим ником заходить в любой открытый паблик.
Мой паблик всегда был открытым.
Часть II
Монахопсис
Монахопсис – тонкое, но стойкое чувство, что ты находишься не в своей тарелке.
Джон Кёниг, «Словарь неясных скорбей»
Глава 1
Прилетит вдруг волшебник
К двум часам дня в среду я прошёл регистрацию в Минске. В аэропорту Фьюмичино самолёт приземлился около шести вечера по местному времени.
На паспортном контроле у меня ничего не спросили. Проштамповали страницу и сверху над проходом загорелась зелёная стрелка. Мы с моей (вернее, с отцовской) негабаритной сумкой вышли в холл прилётов; встречающих наш рейс было совсем немного, но ни на одной табличке в руках встречающих я не нашёл своего имени.
Я решил взять такси и поехать на вокзал. Но только сделал несколько шагов в направлении выхода, прямо возле двери меня нагнал темноволосый молодой человек в джинсах из голубого денима и светло-кофейном спортивном пиджаке поверх футболки; на его носу выступили мелкие капельки пота.
– Алекс?.. – спросил он меня по-русски. – Алекс Эйт, всё верно?
Это было имя с обложки моего комикса про «Паруса».
– Вы такой же, как на фото! – Молодой человек сжал мою ладонь преувеличенно резким движением; так обычно делают люди, которые хотят казаться сильнее, чем они есть. – Меня зовут Пит. Вы же гость моего отца? По поводу картины? Хорошо долетели?
Молодой человек говорил по-русски чисто, словно он был таким же, как я, москвичом. Впечатление завершала великолепная улыбка; она то и дело расползалась на круглом лице с мягкими, почти девичьими чертами. Он бурно жестикулировал; с его появлением в огромном зале аэропорта сразу же стало тесно.
– Алексей? – переспросил он. – А почему не Алекс? Так же круче и короче. Я ведь тоже не всегда был Питом. Одна моя покойная бабушка в детстве звала меня Петрушей. Представляете? Ужас какой. «Петру-уша»! Когда мы переехали в Швейцарию, я сказал, что хватит. Теперь я Пит. Или Петер.
Увидел мою сумку на колёсиках и решительно ухватился за её ручку.
– Давайте сюда!