Александр Невский. Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
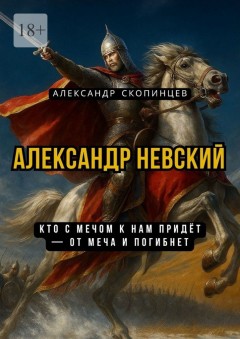
Иллюстратор Александр Скопинцев
© Александр Скопинцев, 2025
© Александр Скопинцев, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-5741-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Аннотация
Когда пала надежда – поднялся он. Александр Невский, молодой князь с огнём в сердце, встал между Русью и стальным валом крестоносцев. Предательство, кровь, ледяное побоище – история, что стала легендой. Эта книга – не просто хроника войны. Это гимн силе духа, стойкости народа и герою, чьё имя невозможно забыть.
Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
ПРОЛОГ
Лето от Сотворения Мира 6740-е, от Рождества Христова 1230-е
В те дни, когда солнце русское померкло от дыма пожарищ, а земля православная стонала под копытами иноземных коней, разделилась Русь на многие княжения, словно разбитый меч на острые осколки. Не стало более единой державы от Новгорода до Киева, от Смоленска до Рязани – каждый град стоял особняком, каждый князь держал свою волю, а враги, аки волки голодные, окружали русские пределы со всех сторон света.
На западе, за частыми, будто сплетёнными из мрака и смолы, псковскими и новгородскими лесами, начинались земли иного духа – суровые, каменные, под тяжестью готических крестов и чуждой речи. Там, где замирают ветры над болотами и хвойные чащи обступают дороги, начинались владения рыцарей – немецких и датских, меченосных и надменных, что скрывали под белыми плащами с чёрными крестами мечи и холодную волю покорителей. Там, в Ливонии, Орден Меча, некогда укоренившийся в землях эстов и ливов, оставил за собой след из пепла и крови – селения выжженные дотла, капища сокрушённые, веру обратившуюся в страх.
Тысячи язычников были крещены не словом, а железом, не молитвой, а кнутом. Но жажда завоевания не знала предела: алчные взоры рыцарства устремились теперь на земли православные – туда, где звонили колокола и кадился ладан, где святые лики смотрели со стен храмов, и крестились люди, как завещано им от праотцев.
На том пути первым стоял Псков – молодой, но гордый, как крепкий дуб рядом со старым лесным исполином. Он был младшим братом Новгорода, наследником вольных обычаев, той же веры, того же языка и закона. Псков не просто хранил западную заставу – он был щитом, прикрывавшим путь к самому сердцу вольной земли, к Новгороду, где вече держали мужи, где купцы с воском и мехами вели дело с дальними странами, где народ сам избирал своих посадников и судей.
Дорога к Новгороду шла через Псков – через его стены, башни, через руки его воев и дружин. И потому взгляд крестоносцев, повёрнутый на восток, всегда натыкался прежде на город, что стоял на камне у воды, в кольце стен, и в нём звучала та же молитва, что и в Новгороде, – на русском языке, с православным знаменем.
Потому и тревога гнездилась ныне в душах: не за один город стоял вопрос – а за всю землю от Пскова до Великого Новгорода, за душу народа, за право жить, по совести, своей, а не под плетью чужого закона.
Рим папский благословлял сии завоевания, нарекая их «священной войной за истинную веру». Булла папы Григория IX гласила: «Да будут обращены в истинную веру все народы северные». А король датский Вальдемар Победоносный и епископ рижский Альберт слали послания во все концы германские, призывая рыцарей к походу на Русь. Обещали им отпущение грехов и богатые земли за службу верную.
На севере, в водах студёных Балтийского моря, господствовали корабли шведские под знамёнами ярла Биргера. Швеция тех времён крепла под властью конунга Эрика Эрикссона, и мечтали шведы о том, чтобы воды Невы и Ладоги стали их внутренними морями. Католическая церковь шведская разжигала рвение воинов, нарекая поход на Русь «делом богоугодным» и «крестовым походом против схизматиков». Биргер Магнуссон, ярл могучий и воин искусный, собирал дружины под знамёна трёх корон шведских, готовя удар по землям Руси.
На юге же, в степях половецких, рождалась гроза страшнейшая из всех, что видала Русь от начала времён. За Волгой и Яиком двигались тумены монгольские под стягами Чингиз-хана и его наследников. Батый-хан, внук великого завоевателя, уже прошёл огнём и мечом по землям булгарским и половецким, и дым пожарищ стлался от Каспия до Днепра. Рязань, Москва, Владимир – все сии грады склонили главы пред саблями монгольскими, а князья русские либо пали в бою, либо бежали в леса дремучие.
Монголы сии, что звались себя «народом войлочных кибиток», знали лишь один закон – закон сильнейшего. Ясак тяжкий налагали они на покорённые народы, а тех, кто противился, истребляли до последнего младенца. Была у них поговорка: «Трава не растёт там, где прошла монгольская конница». И правда сия оказалась – города русские лежали в развалинах, а поля заросли бурьяном и тернием.
Среди княжеств русских не было согласия. Князь Юрий Всеволодович владимирский враждовал с князем Михаилом черниговским. Галицкий Даниил Романович вёл войны с волынским Васильком, братом своим родным. Рязанские Ингваревичи кровью поливали землю в усобицах со своими же соседями. А Новгород Великий, что стоял особняком от всех княжеств, держал свою волю вечевую и не желал склоняться ни пред кем из князей.
В Новгороде том была власть особая – не княжеская единодержавная, а вечевая, народная. На площади у Софии Премудрости собирались все мужи градские – и бояре богатые, и купцы именитые, и ремесленники искусные, и даже смерды простые. Била вечевой колокол, и решалось на том вече всё: кого князем звать, с кем воевать, с кем мир заключать. Посадник и тысяцкий правили градом от имени веча, а князь был лишь военачальником наёмным, что мог быть изгнан, коль скоро не по нраву придётся новгородцам.
Богатство новгородское основывалось на торговле. Купцы новгородские ездили и в Константинополь к грекам, и в Любек к немцам, и в Лондон к англичанам. Соль из Старой Руссы, меха соболиные и куньи из лесов северных, воск и мёд, лён и пенька – всё сие богатство текло через Новгород, как реки в море. А взамен приходили в Новгород сукна фландрские, вина заморские, пряности индийские, серебро немецкое.
Но было у Новгорода и слабое место – хлеб. Земля новгородская, болотистая и лесистая, не родила достаточно зерна для прокормления всех жителей града великого. И потому зависел Новгород от поставок хлеба из земель суздальских и рязанских. Сие обстоятельство использовали князья для принуждения Новгорода к покорности – стоило перекрыть подвоз зерна, как начинался в граде голод страшный.
В те самые годы, о которых ведём речь, сидел на престоле великого княжения владимирского Юрий Всеволодович, муж храбрый, но часто гневливый и своенравный. Сыновья его – Фёдор, Александр, Андрей, Ярослав – росли в учении ратном и книжном, готовые принять бремя княжеское. Старший сын, Фёдор, уже был посажен отцом в Новгороде на княжение, но преставился внезапно, и опечалилось сердце отца великого князя.
Тогда-то, в лето 6745 от Сотворения Мира, и призвали новгородцы к себе на княжение Александра Ярославича, сына Ярослава Переяславского, внука великого князя Всеволода Большое Гнездо. Был тот Александр юн летами – всего двадцать лет от роду, но уже прославился умом острым и храбростью несомненной. В Переяславле-Залесском, отчине своей, показал он себя правителем мудрым и воином искусным.
Принял Александр княжение новгородское в час тяжкий для Руси. С юга надвигались тучи монгольские, с запада – рыцари немецкие, с севера – викинги шведские. А Русь, разделённая междоусобицами, не могла дать отпора всем врагам разом. Нужен был воин, что смог бы объединить силы русские и встать на защиту веры православной и земли отцовской.
В монастырях и храмах служили молебны о избавлении от нашествия иноплеменных. Старцы вспоминали пророчества древние о «временах лютых», когда «будет народ на народ и царство на царство». Летописцы записывали: «Въ лето 6745 бысть знамение в солнци, и померче день, и быша звёзды видимы». И толковали книжники сие знамение как предвестие великих потрясений.
Между тем, в землях немецких и датских собирались силы огромные для похода на Русь. Папа римский Григорий IX призывал: «Да не будет более промедления! Да будут крещены народы северные мечом и огнём!» Магистр Ордена меченосцев Фольквин фон Наумбург собирал ратников из всех земель германских. Датский король Вальдемар II обещал своим рыцарям богатые земли новгородские за службу верную.
Готовили они удар тройной: с севера должны были напасть шведы, с запада – немцы и датчане, с юго-запада – литовцы и поляки. План был прост и ужасен: окружить Новгород кольцом железным, перекрыть все торговые пути, заставить город сдаться голодом и принять веру латинскую.
А в самом Новгороде шли споры великие. Одни бояре говорили: «Лучше покориться немцам, чем погибнуть от монголов». Другие возражали: «Не быть рабами латинянам! Лучше смерть с честью, чем жизнь в поругании!» Купцы роптали на торговые потери, ремесленники жаловались на тяготы военные. А простой люд молился в храмах и уповал на князя молодого, что должен был стать щитом для града и веры православной.
Так, в годы те лихолетные, когда «земля трясяшеся и вода кипяше», готовилась битва великая между Русью православной и всеми врагами её. И стоял у порога той битвы князь Александр Ярославич, ещё не ведая, что имя его прославится в веках как имя защитника земли русской и веры христианской.
Время испытаний приближалось, словно гроза летняя, что собирается над полями и лесами. И в тишине той грозовой слышались уже дальние раскаты грома – топот коней вражеских, звон мечей, крики битвы грядущей. А над всем этим – колокольный звон новгородский, что звал сынов русских на защиту Отечества и веры православной.
1 глава: На брегах Плещеева озера
Тринадцатый век стал для русских земель временем жестоких испытаний. Словно разверзлись небеса над православными пределами, изливая бедствия неслыханные. С востока пришли татарские орды под предводительством хана Батыя, прошедшие огнем и мечом по городам и селам. Рязань была сожжена дотла, Москва обращена в пепел, под Коломной в битве полегли русские князья. Дымные следы нашествия еще тлели по всей стране, когда с запада появилась новая угроза – тевтонские рыцари в железных доспехах, носившие кресты на плащах, но душой служившие дьяволу.
Русь оказалась между двух огней, словно овца среди голодных волков. Одни советовали мириться с ордынцами, платить дань, но обороняться от железных немцев. Другие кричали, что нужно бить проклятых латинян, а с татарами разбираться потом. В этой страшной смуте люди искали сильного защитника, мудрого воеводу, который указал бы путь из великой беды.
На берегах Плещеева озера, где чистые воды синели под широким небом, где зеленые камыши шелестели на ветру, а плакучие ивы опускали ветви в воду, кипела привычная работа. Озеро раскинулось широко, словно малое море посреди русской земли, и тихие волны плескались о песчаный берег, унося щепки и стружки от корабельных работ.
По всему берегу были разбросаны кучи бревен – дубовых, сосновых, березовых. Одни уже обтесаны острыми топорами, другие еще в коре, только что привезенные из леса. Мужики, больше двадцати человек, в холщовых рубахах до колен, подпоясанных веревками или кожаными ремешками, с закатанными до локтей рукавами, таскали эти бревна, подгоняли друг к другу, мерили, тесали.
На самом берегу, где вода была мелкой, стоял остов будущего корабля – деревянные ребра уже поставлены, киль положен, но бортов еще не было. Одни мужики носили тяжелые доски, сгибаясь под их весом, другие сверлили отверстия для железных гвоздей, третьи смолили щели паклей, чтобы не протекала вода. Работа шла споро, с песнями и прибаутками, хотя пот струился по загорелым лицам.
Рядом с верфью, в воде по пояс, стояли рыболовы, тянувшие тяжелый невод. Вода была прозрачной, и видно было, как в сетях билась серебристая рыба – зубастые щуки, полосатые окуни, широкие лещи, мелкая плотва. Рыбаки, взявшись за края невода, медленно тянули его к берегу, стараясь не спугнуть добычу.
– Не спеши, Федька! Рыба уйдет! – покрикивал кто-то из них. – Держи крепче, не отпускай!
На невысоком пригорке стояла смотровая изба, срубленная из сосновых бревен с тесовой крышей. У входа сидел на лавочке седобородый старец лет семидесяти, в заштопанной рубахе, подпоясанной кушаком. Лицо его избороздили глубокие морщины, узловатые руки лежали на коленях, а глаза, хоть и подернутые старческой дымкой, все еще зорко следили за работой. Это был Микула, старший над всеми работными людьми, человек опытный и мудрый.
Небо над озером то хмурилось серыми тучами, то вдруг проглядывало ясным солнцем, и тогда вся водная гладь загоралась золотом, а капли воды на веслах и сетях сверкали, как дорогие самоцветы. Озерный ветер то стихал совсем, то поднимался сильными порывами, рвал недошитые паруса, развевал русые бороды работников, гнал волны к берегу.
Мужики трудились с утра, и к полудню многие изрядно устали. Кто-то присел на бревно отдохнуть, кто-то пошел к ведру напиться воды. Несколько человек собрались в кружок и затянули протяжную песню:
– Эх, да по морю, морю синему,
По синему морю широкому плывет, плывет корабль…
Голоса сливались в печальный и красивый унисон, песня разносилась над озером, отдаваясь эхом от противоположного берега. Но не успели они допеть до конца, как вдали, за пригорком, послышались иные звуки – конский топот, звон сбруи, крики на чужом языке.
Сначала никто не обратил внимания – много ли кто по дорогам ездит. Но топот становился все громче, и вот уже над пригорком поднялась желтая пыль, а затем показались всадники. Впереди ехал воин на кауром коне, в кожаных доспехах с железными бляхами, в меховой шапке с соболиным хвостом. Лицо его было смуглым, скуластым, глаза узкие и хитрые, черные усы свисали по сторонам рта. У пояса висела кривая сабля в богато украшенных ножнах.
За ним тянулась длинная и печальная колонна. Ехали ордынские всадники, человек тридцать или больше, одетые в разные доспехи – кто в железные кольчуги, кто в кожаные куртки с нашитыми пластинами, кто в стеганые халаты. Шапки на головах были самые разные – меховые, войлочные, кожаные, но все непременно с завязками под подбородком. Кони под ними – степные, крепкие, привычные к дальним походам.
Но самое страшное было то, что тянулось за всадниками. Пешком, закованная в железа, шла толпа пленных – мужчины и женщины, старики и дети, юноши и девушки. Все они были в белых рубахах, по которым можно было угадать, что это русские люди. Руки связаны грубыми веревками, на ногах железные кандалы, которые звенели при каждом шаге. Лица пленных были бледными, истощенными, в глазах – отчаяние и безнадежность.
Ордынские пехотинцы, вооруженные копьями, саблями и кистенями, шли по бокам колонны и подгоняли отставших ударами древков или плетей. Кто-то из пленных споткнулся и упал – тотчас получал удар и принуждение встать. Женщины тихо плакали, дети жались к матерям, мужчины шли молча, стиснув зубы.
В середине колонны ехала повозка, запряженная быками, на которой стояла войлочная юрта – походное татарское жилище. Из-под полога выглядывало лицо ордынского чиновника в дорогих одеждах – шелковом кафтане с золотыми нашивками, соболиной шапке. Это был Хубилай, один из темников Батыя, человек жестокий и хитрый, посланный собирать дань с русских земель.
Увидев на берегу работающих людей, всадники остановились. Передний воин поднял руку, и вся колонна встала. Пыль, поднятая конями и ногами пеших, медленно оседала. Ветер с озера донес запах дыма от походных костров, конского пота и человеческого горя.
Работники на берегу тоже остановились, опустив топоры и инструменты. Все повернулись к неожиданным гостям, в глазах читалось беспокойство. Слишком хорошо знали они, что значит появление ордынцев – ничего хорошего это не сулило.
Передний всадник стукнул пятками коня и подъехал ближе к группе рыбаков, которые как раз тянули невод к берегу. Конь заржал и замотал головой, почуяв незнакомые запахи. Всадник грозно посмотрел на русских людей и гаркнул по-татарски что-то резкое и командное. Потом перешел на ломаный русский:
– На колена! Перед воинством ордынским головы склоните!
Рыбаки переглянулись между собой, но невод не отпустили. Один из них, молодой парень, крепкий, с еще редкой бородой, по имени Гаврила, сплюнул в сторону и буркнул:
– Сами на колени вставайте.
Но другие мужики, постарше и поопытнее, знали, что с ордынцами лучше не спорить. Они медленно опустили невод и нехотя встали на колени, понурив головы. Видели они, сколько сабель над их головами сверкает.
Всадник довольно хмыкнул, но тут заметил, что один из рыбаков, тот самый Гаврила, не только не встал на колени, но еще и выпрямился во весь рост, сжав кулаки. Лицо парня покраснело от гнева, глаза метали искры.
– А кого ищешь, батька? – выкрикнул он дерзко. – Чего к честным людям пристал?
Всадник рассвирепел. Он ударил коня стременами, подскакал к Гавриле и хлестнул его плетью по спине так сильно, что парень покачнулся и чуть не упал в воду. На рубахе осталась красная полоса.
– Молчать, пес! – закричал татарин. – Учись языком своим болтать с господами!
Тут уж не выдержали товарищи Гаврилы. Вскочили они все разом, схватились кто за топор, кто за багор, кто за рыбацкий нож. Старший из них, Тимофей, бородач с проседью, замахнулся топором:
– За что бьешь, поганец? Что за неправда такая?
– Сами напросились! – крикнул молодой Микита, поднимая весло. – Не дадимся!
Завязалась потасовка. Мужики толкались с ордынскими воинами, которые соскочили с коней и обнажили сабли. Кричали, ругались, размахивали оружием. Пока что без кровопролития – больше угрожали, чем дрались, но было видно, что еще немного, и дело дойдет до настоящей драки.
В это время в озере, поодаль от суеты, стоял еще один человек. Он был выше и крепче остальных, с широкими плечами и могучим станом. Русые волосы падали ему на плечи, густая борода спускалась до груди. Одет он был в белую рубаху с вышивкой по вороту и рукавам – славянскими узорами, какие искусные мастерицы вышивали своим мужьям. Рубаха была закатана до колен, и видны были крепкие ноги, привычные к ходьбе и стоянию в холодной воде.
Этот человек стоял в воде по пояс, широко расставив ноги, и держал руки на бедрах. Лицо его было спокойным, но в глазах светился острый ум и твердая воля. Он смотрел на потасовку, но не спешил вмешиваться, словно размышлял о чем-то важном.
Услышав крики и шум, он повернул голову и окинул взглядом происходящее. Потом вдруг громко, на весь берег, крикнул:
– Чего орете, черти? Рыбу всю распугаете!
Голос у него был мощный, привычный к команде, и все – и свои, и чужие – невольно обернулись. Ордынский начальник поднял руку, подавая знак своим воинам, и те отступили на шаг, хотя сабли не убрали в ножны.
Человек из воды неторопливо направился к берегу. Шел он медленно, степенно, не выказывая ни страха, ни спешки. Вода стекала с его тела, рубаха прилипла к телу, но он этого словно не замечал. Выйдя на берег, он подошел к своим людям.
– Не лезьте в драку! – приказал он строго, и в голосе звучала привычка повелевать. – Отойдите.
Мужики послушались, опустили топоры и весла, отступили в сторону. Было видно, что этого человека они уважают и слушаются беспрекословно.
Потом он прошел мимо своих людей, мимо рыбацких сетей и лодок, и направился прямо к ордынскому начальнику. Тот сидел на коне, высокомерно поглядывая сверху вниз, но, когда русский приблизился, в глазах татарина мелькнуло что-то похожее на настороженность.
Русский остановился рядом с конем, протянул руку и положил ее на рукоять сабли всадника. Сделал он это спокойно, без угрозы, но с достоинством. Посмотрел всаднику прямо в глаза и сказал негромко, но четко:
– В дом входя, хозяев не бьют. Такой обычай на Руси.
Из юрты на повозке высунулся ордынский чиновник. Лицо его было умным и хитрым, глаза быстрые, все подмечающие. Он внимательно посмотрел на русского, оценивающе, как торговец оценивает товар.
Всадник на коне повернулся к пришельцу всем корпусом и спросил с любопытством:
– Кто будешь, русич? По виду не простой мужик.
Русский выпрямился еще больше, расправил плечи и ответил с гордостью:
– Я князь здешний – Александр.
– Невский! – басом прогудел чиновник из юрты, и в голосе послышалось узнавание. – Ах, это ты… Согласен, это меняет дело.
Ветер над озером вдруг усилился, словно сами небеса откликнулись на встречу этих двух людей. Он рвал одежды, трепал ордынские знамена с изображением волка, развевал русые бороды и конские гривы. Волны на озере поднялись выше, и слышался их плеск о берег.
Чиновник медленно вылез из юрты. Это был человек средних лет, не высокий, но плотный и крепкий. Одежды на нем были богатые – шелковый кафтан с золотым шитьем, широкие шаровары, мягкие сапоги из тонкой кожи. На голове соболья шапка, на руках золотые перстни. Двигался он неторопливо, с достоинством, привычный к почету и повиновению.
Подошел он к Александру, проходя между рядами своих воинов, которые почтительно расступались перед ним. Остановился в двух шагах от князя и, поглаживая бороду, изучающе глядел на русского.
– Ты шведов бил на Неве? – спросил он, и, хотя говорил по-русски с сильным акцентом, речь его была правильной.
Александр развернулся к нему лицом, встал в привычную позу – ноги на ширине плеч, руки на бедрах – и ответил твердо:
– Бил я их. Наголову разбил, и воевода их, Биргер, еле ноги унес.
– Слышал, слышал, – кивнул чиновник. – Добрая слава о том бое до Каракорума дошла. А здесь что делаешь? Почему не в Новгороде сидишь, не княжишь?
– Рыбу ловлю, – просто ответил Александр. – Корабли строю.
Стояли они теперь друг против друга – представители двух миров, двух судеб. Ордынский чиновник в шелках и соболях, привыкший к роскоши и власти, и русский князь в простой рубахе, опоясанной веревкой, похожий на своих мужиков, но отличающийся от них гордой осанкой и властным взглядом.
– Другой работы нет? – спросил татарин с усмешкой. – Князь, а рыбу ловишь, как простой мужик.
– А чем эта работа плоха? – строго ответил Александр. – Корабли построим, за море торговать поедем, богатство в землю русскую привезем. Верно говорю, братцы?
И обернулся он к своим людям. Те, видя, что князь их не унижается перед захватчиками, воспрянули духом и дружно закивали головами:
– Верно, князь! – Правду говоришь! – Корабли – дело нужное!
Чиновник поднял руку, и его воины отступили еще дальше. Русские мужики тоже отошли в сторону, и между двумя предводителями образовалось свободное пространство.
Ордынский темник подошел вплотную к Александру. Был он головой ниже князя, но держался с достоинством человека, привыкшего повелевать. Взглянул он в глаза Невскому – упрямо, испытующе, но и с уважением. Александр взгляда не отводил, стоял твердо, как скала, но враждебности в лице его не было – только готовность защищаться, если потребуется.
– В Орду поезжай, Александр, – сказал чиновник негромко, но веско. – Хан Батый воинов умных ценит. Большим начальником будешь, города править станешь. Как друг тебе говорю – таким воеводам, как ты, у нас почет великий. Богатство, власть, слава – все будет.
Александр слушал внимательно, но лицо его оставалось непроницаемым. Когда чиновник замолчал, князь тоже помолчал, будто взвешивая предложение. Потом медленно сказал:
– Есть у нас на Руси поговорка древняя: с родной земли умри, но не сходи.
И сложил руки на груди крестом, показывая, что разговор для него окончен.
Шелковые одежды татарина развевались на озерном ветру, но лица он не изменил. Не был он огорчен отказом – видно, ожидал такого ответа. Продолжал улыбаться, человек уверенный в своей силе и в войске своем. Сложил руки на животе, постоял рядом с Невским, словно еще что-то обдумывая, потом повернулся и пошел к своим воинам.
– Твое дело, – сказал он через плечо. – Но подумай еще. Время есть – пока ханская воля окончательная не пришла.
Колонна снова пришла в движение. Ордынские воины сели на коней, пехотинцы взялись за веревки, которыми были связаны пленные. Чиновник забрался в свою юрту, один из слуг подставил спину, чтобы господину было удобнее. Повозка заскрипела, заржали кони, и вся печальная процессия двинулась дальше по дороге.
В колонне были люди всех возрастов – седые старики, которые еле передвигали ноги, молодые мужчины, еще не сломленные неволей, женщины с детьми на руках, девушки с заплаканными лицами. Все они были одеты в белые рубахи, по которым можно было угадать их русское происхождение. Кто-то шел молча, стиснув зубы, кто-то тихо плакал, дети жались к родителям.
Ордынские пехотинцы, вооруженные копьями с железными наконечниками, саблями в ножнах и кистенями на поясах, шли по бокам колонны и внимательно следили за пленными. Если кто-то отставал или спотыкался, тотчас получал удар древком копья или плетью. Жалости в глазах стражей не было – для них это была обычная работа.
Маленькие степные жеребята бежали рядом с большими конями, иногда отбиваясь в сторону, но потом возвращаясь к табуну. Пыль поднималась из-под копыт и ног, ветер разносил ее по берегу озера.
Александр с мужиками стояли на берегу, крепко сжимая в руках топоры и багры, и долго смотрели вслед уходящей колонне. В глазах князя читалась боль – ведь это были его люди, русские, которых где-то на других землях взяли в плен и теперь везли в дальнее рабство, в степи, откуда мало кто возвращался.
Когда колонна скрылась за пригорком и стих конский топот, старец Микула, который все это время молча наблюдал с крыльца смотровой избы, медленно спустился вниз и подошел к князю. Лицо его было изборождено морщинами, руки дрожали от старости, но глаза еще горели ясным умом.
– Тяжелый народ, сильный, – сказал он, поглаживая седую бороду, что спускалась до пояса. – Трудненько будет бить их. Войско у них большое, кони быстрые, стрелы меткие.
– А есть охота? – спросил Александр, не отрывая глаз от дороги, по которой ушли ордынцы.
Старик положил ему узловатую руку на плечо и заговорил мудро, как говорят люди, прожившие долгую жизнь и многое повидавшие:
– С ордынцем пока болтать можно, Александр Ярославич. Подождать можно. Они хоть и поганые, а дань берут и уходят.
– А вот опаснее татарина враг есть – ближе к нам, злее. От него ни выкупом не откупишься, ни данью не отделаешься. Немец то есть. – кивнул Александр. – Немец веру нашу корнем вырвать хочет, души в латинство обратить.
– Вот именно! – горячо подхватил старик. – Его разбивши, и за татар можно взяться. А так – двух зайцев гнать, ни одного не поймать.
– Ну так с кого же начинать? – спросил князь, и в голосе его слышалась готовность к решению.
– Немцы так немцы, – решительно похлопал дед Александра по плечу. – А нам драться невтерпеж. Дальше терпеть уже некуда – народ измучился, земля горит.
– Без Новгорода немцев не одолеть – Новгород брать надо. Последняя вольная Русь там, последняя сила.
– И правда, – согласился дед. – В Новгороде дружина хорошая, казна есть, стены крепкие.
Облака по синему небу все продолжали плыть, то открывая яркое солнце, то закрывая его, и их тени бежали по земле, по водной глади озера, по лицам людей. Озерный ветер не утихал, гнал волны к берегу, где они разбивались с тихим плеском.
Александр еще постоял, глядя на дорогу, по которой ушли захватчики, потом вдруг спохватился:
– А рыба-то уходит! Эй, братцы, за дело!
И побежали мужики к воде, подняв высокие брызги. Присоединились они к тем, кто еще стоял в озере с сетями, и снова закипела работа. Тянули неводы, вытаскивали рыбу, чинили порванные места в сетях. Но песни уже не звучали так весело, как прежде. Каждый думал о своем – о доме, о пленных, о том, что будет завтра.
2 глава: Господин Великий Новгород
Над Господином Великим Новгородом плыл густой, медный колокольный звон – ровный, как дыхание самого времени, и мощный, словно голос древнего колокола Перуна. Он стекал с позолоченных крестов Софийского собора, разносился по каменным башням Детинца, отдавался в скатах черепичных кровель и в изгибах деревянных хором, стелился по мощёным улицам, как благословение. День стоял ясный, наполненный южным теплом и свежестью молодой травы. Солнце играло в зелени берёз и поблёскивало на влажной глине речных берегов. И жил древний град, как жил веками – размеренно, торжественно, насыщенно: торгами, ремёслами, заботами, радостями и тревогами простого, но вольного новгородского люда.
Толпы двигались непрестанно – вдоль широких площадей, по крепким дубовым мостам, переброшенным через бурные весенние ручьи и протоки. Звенели кольчуги дружинников, что шли с высоко поднятыми головами – в блеске железа, напоминавшего чешую речных зверей. Степенно шествовали купцы в тяжёлых кафтанах из сукна, с меховой оторочкой, в соболиных шапках, украшенных янтарными застёжками и позолоченными пряжками. Простые смерды в льняных рубахах и лаптях сновали между телег, неся на плечах корзины с рыбой, медом, пенькой. Всё это струилось и сливалось в пестрый, звенящий людской поток, словно сама река жизни текла меж древних стен.
Но выше всех и весомее всех была Иванова Сотня, старинное купеческое братство, которое держало под своим покровом лучших торговцев воском, мёдом и хлебом. Их деревянные лавки, богато украшенные резьбой и обиты медью, стояли ближе к Опокам, у церкви святого Иоанна Предтечи, чья высокая глава вздымалась над рынком, будто молитва над суетой.
Ивановское сто возникло не вчера – их устав был дан ещё самим князем Всеволодом Мстиславичем, и с тех пор члены сотни пользовались особыми привилегиями: могли торговать без мыта, имели своих судей, и даже слово их на вече звучало тяжелей, чем у иных бояр. Их узнавали сразу – по высоким шапкам из барса, по тяжёлым перстням на пальцах, по серьгам в ухе, что были не прихотью, а знаком купеческой чести. Они говорили негромко, но каждое слово весило, как пуд воска.
Среди них были и те, кто владел целыми артелями пчельников в псковских и тверских лесах. Их воск – чистый, белый, как утренний иней, и душистый, с запахом лугового меда – шел не только в новгородские храмы и княжеские палаты, но и за море: в Любек, Ригу, Сигтуну. За него давали серебро, шелка, красную ткань, иноземные ножи и стеклянные бусы, что потом украшали локоны новгородских невест.
Их суда – ладьи и струги с драконьими головами – стояли у смоляных причалов, покачиваясь на реке, как звери на привязи. На их бортах были выжжены имена владельцев, а в трюмах – поклажи, обвязанные восковыми печатями. Молодые купцы Ивановой сотни обучались с малолетства – сперва при лавке, потом в дороге, а к двадцати годам уже могли вести собственную партию товара на юг, к Полоцку или даже к Днепровскому порогу.
И вот сегодня, как и сто, и двести лет назад, Новгород жил: звенел, дышал, двигался. Звон колоколов сливался с криками торговцев, с гулом людской речи, с плеском воды под борта ладей. На этом торгу заключались сделки, вручались невесты, звучали присяги и строились мечты. Город хранил в себе и древнюю силу, и неиссякаемую живую энергию – и в её сердце билось имя, данное с уважением и любовью: Иванова Сотня.
Повсюду слышались детские голоса – малые ребятишки с визгом и беззаботным смехом носились между взрослыми, играя в войну деревянными мечами и самодельными щитами, а где-то вдалеке доносились мерные удары кузнечных молотов да протяжный скрип тяжело нагруженных телег, везущих всякий товар из дальних весей.
Праздничная атмосфера витала в весеннем воздухе, словно благословение самого небесного свода. Взрослые мужики, проходя по улицам по своим делам торговым и ремесленным, не могли не засматриваться на красивых девушек и молодых замужних жен, что степенно и с достоинством шествовали по городским стезям в своих лучших праздничных нарядах.
Женщины были одеты по всей новгородской красе: в длинные цветные сарафаны из добротного сукна – синего, зеленого, багряного, – что надевались поверх белоснежных холщовых рубах с искусно вышитыми золотыми нитками воротами и манжетами. Головы их покрывали узорчатые шелковые платки или высокие кокошники с жемчужными поднизями и серебряными бляшками, что переливались на солнце. Девицы на выданье носили свои русые и темные волосы в две тугие косы, перевитые цветными лентами и украшенные металлическими подвесками, а замужние женщины благочестиво прятали свои локоны под белые льняные убрусы.
У самого дальнего причала, возле целой горы мешков с отборным зерном и связок сушеной рыбы, стояла особенно приметная девушка в богатом наряде. Ольга Даниловна была хороша собой – высокая и стройная, с ясными серыми глазами и двумя тяжелыми медными косами, что спускались ей на плечи из-под узорчатого шелкового платка. Сарафан её был сшит из дорогого заморского сукна темно-синего цвета, подпоясанный широким шелковым поясом с серебряными бляхами, а на ногах красовались сафьяновые сапожки красной кожи с загнутыми носами. Рядом с ней толпились её подруги – тоже нарядно одетые боярские и купеческие дочери, и все они что-то оживленно обсуждали, то и дело поглядывая на проходящих мимо молодых мужчин и посмеиваясь.
Двое молодых новгородцев – один с окладистой темной бородой, другой еще безбородый – уже добрую половину утра не сводили с красавицы глаз. Делая вид, что их живо интересуют разнообразные товары на торжище, они неприметно следовали за девушкой и её веселыми спутницами, переходя от одной торговой палатки к другой, притворяясь, что выбирают себе что-то нужное.
Кругом кипела бурная торговая жизнь города. Нескончаемой вереницей шли прохожие, неся в руках плетеные корзины со свежим хлебом и вяленой рыбой, на плечах тащили тяжелые мешки с мукой, солью и пшеном, а скрипучие деревянные волокуши, запряженные выносливыми низкорослыми лошадьми, медленно ползли под непомерной тяжестью самого разнообразного груза – от дубовых бочек с душистым медом и березовым дегтем до тюков с дорогой пушниной: соболями, куницами, горностаями.
Городской гул и гам стоял неумолкаемый с раннего утра и до поздней ночи: где-то раздавались раскатистые мужские голоса и звонкий женский смех, где-то азартно препирались торговцы с придирчивыми покупателями, кто-то бранился и толкался, пробираясь сквозь плотную толпу к своему делу. Постоянно слышались зазывные крики уличных разносчиков, нахваливающих свой товар на все лады, звонкое ржание коней и заливистый лай бродячих собак, что вертелись под ногами в надежде поживиться объедками.
Ближе к самому центру города, на главной торговой площади перед белокаменным собором, плотными рядами стояли добротные деревянные палатки и просторные лавки именитых купцов, доверху заваленные всевозможными товарами. Здесь шла торговля цветными сукнами и дорогими мехами, острым оружием и женскими украшениями, заморской утварью и искусными изделиями местных ремесленников. Между торговыми рядами степенно прохаживались седобородые старые купцы в дорогих одеждах, опытным оценивающим взглядом поглядывая то на выставленный товар, то на снующих покупателей.
Ольга Даниловна неспешно подошла к обширной палатке, торгующей тканями, где за широкими деревянными прилавками стоял дородный бородатый купец в высокой меховой шапке и ярко-красном праздничном кафтане. Он разложил на своих прилавках самые дорогие заморские сукна – фландрские, немецкие, византийские. Двое её неотступных преследователей тут же оказались рядом, делая вид, что им срочно понадобилось что-то купить.
Это были Гаврила Олексич, сын боярский из знатного новгородского рода, парень крепкого сложения, широкоплечий и статный, с умными карими глазами под густыми бровями и аккуратной окладистой бородой каштанового цвета. На нем был добротный синий кафтан с серебряными пуговицами и высокие сапоги из мягкой кожи. Рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял его закадычный товарищ Василий Буслаев – еще безбородый, но уже под тридцать, веселый и лихой малый с озорными зелеными глазами и русыми кудрями. Одет он был проще – в серый суконный кафтан и простые кожаные сапоги.
К ним сразу же подошел еще один человек – пожилой мужик средних лет в поношенной, но чистой одежде ремесленника, с хитроватыми глазками и ловкими руками. Он начал увертливо кружить вокруг молодцев, настойчиво предлагая им свой товар:
– Кольчуги новые, господа добрые, витые! Шлемы боевые! Мечи булатные! Всё из-за границы везенное – индийская сталь самая лучшая, татарская работа искусная, китайские украшения дивные! Игнат-мастер народ честный, не обманет, всё по совести!
Василий весело рассмеялся, показав белые зубы, а Гаврила Олексич неторопливо повернулся к назойливому кольчужному мастеру и сказал с лукавой усмешкой:
– Не бойсь, Игнат-мастер! Сам своими руками делаешь да бьешь ночами напролет, а нам продаешь, словно из-за далеких морей везенное.
– Теперь вольные птицы своим клювом добычу достают!
Между тем оба приятеля неотрывно смотрели на Ольгу Данилову, которая со знанием дела перебирала разноцветные ткани на прилавке, выбирая себе материю для нового платья. Её движения были грациозны и неторопливы, а лицо сосредоточенно.
Василий вдруг заметно погрустнел и задумчиво сказал:
– Отвоевались, братцы… По-другому теперь думать нужно, по-мирному.
Кольчужный мастер Игнат, уловив перемену в настроении молодца, лукаво подмигнул и в шутку заметил:
– Бычки бунтуют, весну чуют! Женихи засиделись!
– Отвоевались, правда… – Василий почесал затылок и повторил с тяжелым вздохом. – Теперь и о себе подумать самая пора пришла.
Гаврила Олексич хитро прищурился и не преминул подколоть товарища:
– А что это, Василий Буслаев призадумался так? Не женитьба ли на уме? Не красна ли девица сердце тревожит?
Игнат-мастер тут же подхватил:
– А я уж слышал от добрых людей – Васька жениться задумал! Козёл через высокий тын поглядывает!
– Эх, замаялся я, братцы, – признался Василий, которого явно пристыдили такие открытые намеки на его симпатии к девушке. – Надоело мне это всё – поножовщина разная, драки пустые.
Он взял один из выставленных на продажу боевых топоров с прилавка Игната и задумчиво потрогал острое лезвие пальцем.
– День дерусь не покладая рук, а два следующих в тоске лежу на печи. Хотел бы на широкую Волгу податься, с лихими людьми поиграть топоришком по-настоящему! – более весело и бодро закончил он, лихо махая тяжелым боевым топором над головой.
Он даже сделал вид, будто бреется этим топором, проводя лезвием около щеки, но потом опять заметно погрустнел, украдкой поглядывая на прекрасную Ольгу.
Гаврила, видя смущение друга, решил подколоть его еще больше:
– А что это, Василий-братец, не в монахи ли собрался? Может, в монастырь подаваться хочешь от мирских соблазнов?
– Сердешный наш Василий! – подхватил Игнат, хлопая себя по коленям от смеха. – А вот не выйдет ничего, по моему разумению! Смешно сказать, – смеётся Игнат, – сам без сапог, а мечтает, как её в кивоте к венцу поведёт! Уж не вилами ли путь расчищать думает?
Оба насмешника – и Гаврила, и Игнат – громко засмеялись, дружески хлопая друг друга по плечам и подмигивая окружающим. Василий от их подначек стал еще грустнее и растерянней.
Между тем Ольга Даниловна, закончив свои дела у торговца тканями, стала неспешно удаляться. Гаврила, заметив это, поспешно оставил своих приятелей и догнал красавицу.
– Ольга Даниловна! – почтительно обратился он к ней, слегка поклонившись.
Она остановилась как вкопанная и подняла на него свои ясные серые глаза. Вблизи стало еще заметнее, какая это была писаная красавица – с правильными чертами лица, нежной кожей и длинными темными ресницами.
Тут подоспел и запыхавшийся Василий.
– Прикажи, красавица, сватов к твоему батюшке засылать! – торжественно произнес Гаврила, вытянувшись по струнке как настоящий дружинник.
В это самое время подскочил разгоряченный Василий:
– Коли уж засылать сватов, так от меня! – громко и решительно объявил он, гордо выпятив широкую грудь и задрав подбородок.
– Пусть сама знак подаст, кого выбирает, – более сдержанно и хмуро сказал Гаврила, бросив косой взгляд на соперника.
Ольга Даниловна в замешательстве переводила взгляд с одного молодца на другого, явно не ожидая такого внезапного и прямого объяснения.
– Пусть её доброе сердце само выберет достойного, – повернулся Гаврила к девушке с галантным поклоном. – Ольга Даниловна, дай знак – кому из нас двоих сватов к родителю засылать?
– Простите меня, добрые люди, – потупившись, извинилась девушка и попыталась пройти мимо них, скромно опустив глаза долу. – Не ведаю я, кому свататься… Простите великодушно, не знаю, о чём речь ведете.
И она попыталась пройти мимо, но молодцы преградили ей дорогу.
– Ну как же не знаешь, красавица? – искренне возмутился Василий. – Чего вола за хвост тянуть понапрасну? Говори прямо, за кого замуж пойдешь! Выбирай любого по сердцу! Хочешь высокого да веселого? – Он указал на себя. – Или выберешь степенного да скучней? – Он кивнул в сторону Гаврилы. – Поклонись тогда Гавриле-то, – более грустно и обиженно закончил Василий.
– Хочешь битой быть и мужа слушаться? – как бы в шутку, но довольно грозно прорычал Гаврила, театрально поклонившись сопернику.
– Хочешь хозяйкой в доме быть и детишек растить? Я тебе буду верный муж! – более мягко и почти на ухо прошептал Гаврила девушке.
Но она, так и не оборачиваясь к говорящим, тихо произнесла:
– Не знаю, что и сказать вам, добры молодцы.
Потом оглянулась через плечо и добавила с легкой, едва заметной улыбкой:
– Оба вы хороши и статны. Дайте срок подумать.
И более чувственно, с легким придыханием, как бы невольно играя с чувствами обоих настойчивых женихов, повторила Ольга Даниловна:
– Дайте срок… время всему есть…
И тут внезапно зазвенели колокола – не радостно и торжественно, как утром, а тревожно и грозно. Все люди на площади разом обернулись в сторону, откуда несется набатный звон, и, бросив свои дела, устремились туда бегом. На улицах все прохожие, забыв о торговле и ремеслах, помчались к центру города, пробегая мимо золотых церковных куполов и белокаменных боярских хором.
Прибежав на соборную площадь, сбежавшиеся люди увидели страшную картину: несколько человек несли на руках тяжело раненого воина, всего замотанного в кровавые тряпицы, а высоко в колокольне звонари неистово били в большой медный колокол.
Медные колокола Святой Софии Премудрости Божией разлились по всему Великому Новгороду тревожным, надрывным звоном, что прокатывался волнами по заснеженным кровлям теремов и избушек. Не радостно и торжественно, как в дни праздничные великие, когда весь христолюбивый люд собирается на молитву, а горестно и призывно били они, созывая народ на вече грозное. Звук медного литья дрожал в морозном воздухе февральском, отражался от белокаменных стен храмов намоленных и деревянных срубов, почерневших от времени, катился по узким улицам кривым.
На торговую площадь широкую, что раскинулась меж рядами купеческими и лавками ремесленными, стекался люд всякий – посадские бородатые в тулупах овчинных, ремесленники в передниках кожаных, купцы в шубах соболиных, бояре в мантиях горностаевых, смерды и холопы в зипунах серых. Шли они поспешно, с тревогою великою на лицах обветренных, ибо весть уже прошла по городу, словно пожар по соломе сухой: Псков пал под немецкою силою проклятою, и враг движется к стенам Новгородским крепким.
Женщины семенили в платках цветастых, придерживая подолы, чтобы не замарать о дорогу. Старцы седобородые ковыляли, опираясь на посохи резные. Молодые парни спешили, расталкивая плечами прохожих. Дети льнули к матерям, чувствуя недоброе. Даже собаки дворовые поджимали хвосты и скулили тихонько, словно предчувствуя беду великую.
Посреди площади торговой, у самого подножия колокольни каменной, стоял человек, весь обмотанный тряпицами кровавыми и грязными. Стоял он, пошатываясь, как береза на ветру, и каждое движение давалось ему с мукою великою. Левый глаз его был заплыв и закрыт повязкой из холста, что покраснела от запекшейся крови. Правая рука висела плетью безжизненною, обвязанная бинтами, сквозь которые проступали пятна алые. Лицо, искаженное болью нестерпимою, хранило следы жестокой сечи – рубцы свежие, ссадины, синяки багровые. Это был псковский воин, который один из немногих избежал смерти лютой и добрался до Новгорода, чтобы поведать правду о беде великой.
Народ обступал его плотным кольцом, словно стена живая. Впереди стояли мужики крепкие – кузнецы с руками в мозолях, плотники с топорами за поясом, рыбаки, пахнущие озерною тиною. За ними толпились женщины всякого звания – от боярынь в дорогих шубах до простых баб в полушубках заношенных. Старики кряхтели и перешёптывались, качая головами седыми. Молодёжь тянула шеи, стараясь рассмотреть получше пострадавшего.
В наступившей тишине, что давила на уши, словно перед грозою страшною, слышно было лишь тяжелое дыхание раненого, что вырывалось из груди хрипом болезненным, да скрип снега под ногами сотен людских, да далёкий звон колоколов, что всё призывал и призывал.
Пскович с великим трудом поднял здоровую руку, и пальцы его дрожали, как листья осенние на ветру. Горло его перехватило, дыхание сбилось, но он заставил себя говорить. Голос его, хриплый от ран и усталости, надорванный от горя, разнесся по площади, и каждое слово падало в тишину, как камень в воду:
– Словене-новгородцы! Отцы и матери, сыны и дочери! Немец поганый Псков взял, и на вас идёт ратью великою! Ратных людей всех перебил, что мечи против супостатов подняли. Кого с оружием поймали – секли по мечу железному, кого с хлебом насущным – за хлеб брали и мучили. Матерей родных да жен верных истерзали за сынов их да мужей…
Голос его сорвался, и он закашлялся, выплёвывая кровь на снег белый. Женщины в толпе заахали, мужчины угрюмо нахмурились. Кто-то из задних рядов крикнул: «Говори дальше, служивый!»
Воин перевёл дух и продолжал, уже почти шёпотом, но слова его долетали до каждого уха:
– Кто вскрикнул от боли – секли за крик, кто смолчал, терпя муку – за молчание казнили. Нет пощады ни старому, ни малому. Немецким воеводам, проклятым всю Русь, расписывают!
Слова его падали на толпу, как искры на солому сухую. Сначала прокатился ропот тихий, потом он стал громче, и вот уже вся площадь загудела, словно растревоженный улей. Женщины заголосили, покрывая головы платками и раскачиваясь в горе. Мужчины сжали кулаки большие, и жилы на шеях их набухли от гнева. Молодые парни ругались сквозь зубы, старики качали головами и крестились.
– Вот оно что! – выкрикнул из толпы рыбак с седою бородищею. – Вот она, правда-то горькая!
– И до нас доберутся, гады немецкие! – вторила ему баба дородная, тряся кулаком в воздухе.
Раненый качнулся, едва держась на ногах, и две молодые женщины поспешили подхватить его под руки. Но он отмахнулся здоровою рукою и продолжал говорить, сквозь боль и слабость выдавливая из себя каждое слово, каждый звук:
– Кому теперь Псков, кому Новгород? Все земли русские расписывают немцы окаянные по своим баронам да воеводам басурманским! Не стало Пскова вольного – не будет и Новгорода Великого!
Тут из толпы, раздвинув плечами стоящих впереди, выбежала девушка – Ольга Даниловна. Лицо её, обычно спокойное и приветливое, теперь горело праведным гневом, а глаза метали искры. Она подхватила падающего воина под руки и воскликнула на всю площадь:
– Слышите, люди добрые? Слышите, чем нам немцы грозят?
В этот самый миг на стене крепостной, что возвышалась над площадью каменною твердынею, появились трое мужей в дорогих одеждах. То были знатные бояре новгородские, что правили городом и торговлею заморскою ведали. На старшем из них была мантия из сукна багряного, подбитая мехом соболиным, на шее – цепь золотая тяжёлая, на пальцах – перстни с каменьями дорогими. Двое других были одеты не менее богато – в шубах беличьих да лисьих, с поясами серебряными, на которых висели ножи в ножнах резных да кошели кожаные, туго набитые.
Главный из них, человек средних лет с бородою ухоженною и лицом сытым, поднял руку в перчатке дорогой, призывая к тишине. Посадник Ян Власьев. Голосом спокойным, почти насмешливым, полным презрения к простому люду, он произнес:
– Погоди, служивый! Чего зря шум подымаешь? Чего людей добрых морочишь страхами пустыми? С немцами у нас мир крепкий записан, грамоты подписаны!
Толпа притихла на мгновение, словно ушатом холодной воды окатили. Но молчание это было грозное, как перед бурею. Лица людские потемнели, брови сдвинулись, и в глазах заплясали огоньки гнева.
Другой боярин, что стоял по правую руку от главного – человек тучный, с брюхом круглым и щеками отвислыми, – махнул рукою в рукавице расшитой и закричал голосом довольным и беспечным:
– Да мало ли что Псков взяли? Дело житейское! Авось выйдет – откупимся от немцев добром! У нас товару девать некуда, Новгород богат несметно! Все причалы завалены товаром заморским, все лари забиты серебром да золотом!
Третий боярин, молодой ещё, но уже с брюшком наеденным, добавил, смеясь противно:
– И что нам до Пскова? Каждый за себя стоит, каждый свою выгоду блюдёт!
Ольга Даниловна, всё ещё поддерживавшая раненого, вскинула голову, и косы русые её выбились из-под платка. Глаза её сверкнули, как молния в грозовой туче, и она закричала так, что голос её перекрыл весь шум:
– Русскую землю на товар меняешь, окаянный?! За серебро родину продаёшь?!
Со стены раздался смех противный и пошлый. Главный боярин наклонился над стеною и насмешливо проговорил:
– Эй ты, баба неразумная! Какая тебе русская земля? Где ты её видала? У каждого свой двор, своя изба – вот и вся земля! Каждый сам для себя стоит, сам себе хозяин!
К боярам подбежал поп в мантии чёрной, человек тощий и подобострастный, с глазками бегающими. Он начал кланяться и поддакивать, расшаркиваясь перед знатными господами:
– Истинную правду говорят бояре наши! Каждому своё, каждому своё! Не нам, убогим, судить о делах великих!
Псковский воин, собрав последние силы, поднял голову, и единственный здоровый глаз его сверкнул ненавистью. Он поглядел на попа, на бояр сытых, и прохрипел едва слышно, но так, что каждый в толпе услышал:
– Пёс… собака продажная…
И тут толпа взорвалась окончательно, словно бочка с порохом от искры. Сотни голосов слились в рёв негодования. Полетели шапки к небу, поднялись кулаки мозолистые, раздались крики и ругательства такие, что даже вороны с колокольни поднялись и закаркали испуганно.
– Продажные твари! – кричал рыбак, размахивая руками.
– Торгаши проклятые! – вторил ему кузнец, и голос его гремел, как молот по наковальне.
– За золото землю продают! – голосила баба из толпы.
Женщины запричитали, покрывая головы и раскачиваясь в горе, а мужики начали поносить последними словами тех, что сидели на стене высокой. Молодые парни подбирали с земли комки грязи и швыряли их наверх, хотя стена была высока и камни не долетали.
– Сытые брюха! – кричали из задних рядов.
– Немцам мзду дать хотят! – добавляли другие.
Из толпы выступил человек средних лет, широкоплечий и крепко сбитый, опоясанный передником кожаным с пятнами от угля и железа. То был Игнат, мастер кольчужный, человек прямой и острый на язык, которого в городе уважали за умелые руки и честное сердце.
Игнат посмотрел наверх на бояр холёными глазами, полными презрения, и сказал громко, так чтобы вся площадь слышала:
– Всякий гад – на свой лад!
Толпа засмеялась, поддерживая Игната. Его слова разлетелись по площади, и люди повторяли их, смеясь злобно. Игнат выступил ещё на шаг вперёд и, глядя прямо в глаза главному боярину, произнес с усмешкою горькою:
– Не корми меня тем, чего я не ем!
Боярин нахмурился, не понимая, к чему клонит кольчужный мастер. Но Игнат уже повернулся к народу и заговорил голосом звучным:
– Знаю я этих господ! Им, богачам жирным, всё едино! Что мать родная, что мачеха лютая – всё одно! Где выгода да барыш, там и родная земля для них! За серебро и душу продадут!
Он поднял руку, указывая на бояр:
– А нам, малому люду, смерть верная под немцами!
Толпа поддержала его криками одобрения. Голоса сливались в единый рёв:
– Правду говорит Игнат!
– Так оно и есть!
– Не дадимся немцам поганым!
Игнат поднял обе руки над головою, и мышцы на его руках, привычных к тяжкому труду, напряглись. Он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил, так что голос его прогремел над площадью, закричал:
– Надо звать Александра! Немцев бить до смерти!
Площадь взорвалась согласием, словно гром грянул среди ясного неба. Сотни голосов подхватили этот клич:
– Александра! Зовите Александра!
– Не хотим Александра!
– Александру быть здесь!
Люди толкались, размахивали руками, кто-то подпрыгивал, стараясь перекричать соседа. Старые воины, что помнили ещё прежние битвы, кивали головами и говорили товарищам: «Правильно кричат! Только Александр может!»
Со стены Ян Власьев, красный от злости, попытался перекричать толпу, размахивая руками:
– Нечего тут Александру делать! Не ждите его, не придёт! Соберёмся сами, ударим на немца! Домаш Твердиславич нас поведёт! Он воевода опытный!
Но голос его потонул в общем гуле. Толпа не желала слушать.
Тут на стену, рядом с боярами, поднялся муж статный и представительный. То был Домаш Твердиславич, воевода новгородский, человек средних лет, с бородою русою, тронутою сединою. На нём была рубаха полотняная белая, поверх – кольчуга блестящая, а сверху – плащ из сукна доброго, зелёного цвета. При бедре висел меч в ножнах кожаных, украшенных серебром. Лицо его было серьёзное и думное, глаза – умные и добрые.
Домаш поправил плащ на плечах, поклонился народу низко, по-доброму, и поднял руку, призывая к тишине. Постепенно гул стих, ибо Домаша в Новгороде знали и уважали за храбрость и честность.
Когда стало тихо, воевода заговорил голосом глубоким и торжественным, и каждое слово его звучало, как колокольный звон:
– Братья мои милые! Сыны и дочери земли русской! Беда идёт на нас большая! Враг лютый подступает к стенам нашим, и не простой это враг – немец окаянный, что веру нашу православную искореняет, а людей русских в рабство вечное гонит!
Он помолчал, давая словам своим дойти до сердец слушающих, а затем продолжил с ещё большею страстью:
– Больших людей от нас такая беда потребует, великих дел и жертв немалых! Не я для того годен – другой потребен, у которого рука крепче моей, голова посветлее, сердце пожарче! И чтобы слава его была по всей земле русской, от моря до моря, и чтобы враг его боялся, только имя услышав, и ведал о искусстве его ратном!
Голос Домаша становился всё громче, всё торжественнее:
– Тут нужен только князь – и не иной кто, а тот самый Александр Ярославич! Один только он может русскую землю от напасти избавить!
Народ внизу заволновался, задвигался, зашептался. Имя Александра переходило из уст в уста, словно молитва спасительная. Женщины крестились, мужчины кивали головами.
Из толпы выступил другой мужчина – Гаврила Олексич. Он нахмурил брови чёрные и воскликнул воодушевлённо, так что голос его прозвенел над площадью:
– Слушайте, люди православные! Как погонит немец русских людей в полон, как зажмёт нас меж своими полками, как поставит над нами воевод басурманских – вот как тогда и напляшемся под чужую дудку!
Он сжал кулак и потряс им в воздухе:
– Не дождёмся мы от немцев милости! Только меч может нас спасти, только битва честная!
Гаврила поднял руку, словно отдавая приказ дружине, и закричал так, что голос его разнёсся по всему Новгороду:
– Звать Александра! Звать немедля!
И тогда вся площадь торговая загудела, словно море во время бури великой. Тысячи голосов сливались в единый клич, что поднимался к небесам серым и низким:
– Александра! Александра Ярославича!
– Зовите князя нашего!
– Без него погибели не миновать!
Люди размахивали руками, подбрасывали шапки, кричали до хрипоты. Старики и малые дети, мужчины и женщины, богатые и бедные – все сливались в едином порыве. Кто-то из молодых парней вскочил на лавку торговую и завопил:
– На коленях молить будем, только пусть придёт!
– Землю поцелуем под ногами его! – вторила баба из толпы.
– Спаси нас, княже! – кричали женщины, воздевая руки к небу.
Колокола всё били, всё звали, и медный звон их сливался с голосами человеческими в единую песнь-молитву. Казалось, что сама земля Русская вопиет о помощи, о заступнике, о том, кто способен поднять меч за веру православную и землю отчую.
Бояре на стене переглядывались с беспокойством. Они видели, что народ не на их стороне, что толпа требует князя, которого они боялись больше немцев. Ибо знали: придёт Александр – и власть их торгашеская кончится.
А вдали, за лесами дремучими, за реками быстрыми, за болотами топкими, уже слышался топот коней немецких и звон доспехов крестоносных. Время шло неумолимо, и каждый час был дорог, как жизнь человеческая. Судьба Новгорода Великого, судьба всей земли Русской висела на волоске…
И всё громче, всё настойчивее звучал над заснеженною площадью призыв отчаянный:
– Александра! Зовите Александра!
3 глава: Падение Пскова
Словно саван из преисподней, опустился над Псковом дым – густой, удушливый, пропитанный запахом крови и пепла. Ветер что шелестел в листве берёз и нёс смех детворы, ныне разносил по улицам гарь пожарищ да предсмертные стоны умирающих. Воздух дрожал от жара догорающих строений, и казалось, что сама земля стонет под тяжестью обрушившегося на неё горя.
Псков – град, что гордо стоял на берегах Великой – ныне лежал поверженным. Белокаменные палаты бояр, что ещё вчера горделиво возносились к небесам, отражая в своих окнах блеск солнца, стояли обгорелыми остовами. Их резные наличники почернели от огня, крыши провалились, а из окон, словно из глазниц черепа, валил дым. Стены храмов, что прежде сияли белизной, теперь были покрыты копотью и кровавыми потёками.
По мостовым, где ещё недавно звенели голоса торговцев, зазывавших купить заморские товары, где смеялась детвора, гоняя обручи, где степенно прохаживались почтенные граждане, обсуждая дела градские, – ныне валялись тела. Псковичи и крестоносцы лежали вперемешку, их кровь смешалась на камнях. Кони, что гордо несли в битву своих всадников, распростёрлись рядом с хозяевами, и стрелы торчали из их боков, словно смертоносные цветы.
Смрад смерти стоял в воздухе – тяжёлый, приторный, он забивал ноздри и вызывал тошноту. Мухи роились над трупами, а вороны, осмелев, садились на тела и принимались за свою мрачную трапезу. Собаки, что остались без хозяев, бродили по улицам, воя.
По этому кладбищу, что ещё недавно было вольным и многолюдным градом, мерно шагали железные колонны завоевателей. Рыцари Тевтонского ордена двигались в полном молчании – лишь позвякивала сталь их доспехов да скрипела кожа ремней и сбруи. Топот их коней был глухим и мерным, словно стук молотов по наковальне. Каждый шаг отдавался эхом в пустых улицах, напоминая о том, что здесь теперь хозяйничают чужеземцы.
Белые плащи с чёрными крестами развевались на ветру, словно знамёна смерти. Эти кресты – символ их веры, что они несли огнём и мечом, – казались кровавыми пятнами на белизне ткани. Топфхельмы – железные шлемы с узкими прорезями для глаз – придавали рыцарям вид бездушных призраков войны. Через эти щели проглядывали холодные глаза, в которых не было ни жалости, ни сострадания – только жестокая решимость покорить и уничтожить всё.
Кольчуги их были сплетены из мельчайших колец, каждое звено отполировано до блеска. Поверх кольчуг надеты кирасы – нагрудники из закалённой стали, что могли выдержать удар меча или наконечника стрелы. На руках – наручи, на ногах – поножи, всё тело закрыто железом. Щиты украшали гербы знатных родов: львы, орлы, кресты и мечи – символы власти и войны.
Пехотинцы шли следом за рыцарями – люди попроще, но не менее жестокие. На них были кольчуги покороче, шлемы попроще, но в руках – те же мечи и копья, что несли смерть людям. Лица их были грубыми, обветренными, в глазах светилась жадность – они уже прикидывали, что можно захватить в качестве добычи.
Главная площадь Пскова, где прежде собиралось вече, где звучали пылкие речи о вольности и правде, где решались судьбы града, – ныне превратилась в позорище. Старые камни, что помнили ещё княжение Всеволода-Гавриила, были забрызганы кровью. Посреди площади пылал огромный костёр – выше человеческого роста, жадно пожиравший останки защитников города. Пламя било ввысь, искры летели в стороны, а треск горящих брёвен смешивался с шипением плоти.
Вокруг костра, точно чёрные вороны над падалью, сновали католические священники в тёмных мантиях. Они воздевали к небу кресты – не православные, четырёхконечные, а латинские, с удлинённой нижней перекладиной – и бормотали молитвы на непонятном простому люду языке. Голоса их были гнусавыми, монотонными, и от этого бормотания по спине бежали мурашки.
У стен Троицкого собора, что один остался нетронутым среди разрухи – его белые стены всё ещё сияли, а золотые кресты на куполах отражали отблески пожаров, – воздвигли трон. Это было кресло из дубового дерева, обитое красным бархатом, с высокой спинкой, украшенной латинскими письменами. На нём восседал епископ – человек грузный, с обрюзгшим лицом, изрытым оспинами. Глаза его, мелкие и жестокие, блестели от сытости и довольства. На голове – широкополая шляпа с красным пером, на руках – перчатки из тонкой кожи с символикой аббатства.
Мантия епископа была из дорогого сукна, подбитого мехом горностая. На груди – золотая цепь с крестом, усыпанным драгоценными камнями. Он сидел, откинувшись на спинку трона, и обводил площадь взглядом хозяина, что осматривает своё новое владение. Время от времени он поднимал к губам кубок с вином и медленно отпивал, смакуя каждый глоток.
Перед троном, на коленях, в кровавых путах стояли пленные псковичи – более сотни мужей, что защищали родной город до последнего вздоха. Это были ремесленники и торговцы, воины и простые горожане – все, кто не успел бежать и не пожелал покориться. Одежда их была разорвана в битве, лица избиты, руки скручены за спинами грубыми верёвками, что врезались в плоть.
На многих зияли раны – рубленые мечом, колотые копьём. Кровь засохла на рубахах, смешавшись с грязью и потом. Волосы спутались, бороды покрылись пылью и сажей. Но в глазах многих по-прежнему пылал неукротимый огонь – огонь гордости и непокорности. Они не опускали взора перед победителями, не молили о пощаде, а смотрели грозно, исподлобья.
Некоторые шептали молитвы, крестясь, как могли, связанными руками. Другие молчали, стиснув зубы, готовые принять смерть с достоинством. Третьи бормотали проклятия в адрес захватчиков, не боясь навлечь на себя ещё больший гнев.
За спинами пленников, у стен собора, в тени его древних стен, жались друг к другу женщины с детьми. Их не связывали, но страх сковал их хуже любых пут. Было их человек полтораста – жёны, матери, дочери, сёстры тех, кто пал в бою или стоял теперь на коленях. Все знали, что творят немецкие захватчики с побеждёнными, какая участь ожидает жён и дочерей воинов.
Бабы качали на руках младенцев, пытаясь унять их плач. Груднички чувствовали материнский страх и хныкали, а матери прижимали их к груди, шепча колыбельные дрожащими голосами. Девицы прятали лица в материнские подолы, старухи крестились дрожащими руками, бормоча молитвы к Пресвятой Богородице.
Молодые женщины, понимая, что их ожидает, обнимали детей покрепче, будто пытаясь защитить их собственными телами. Глаза их были красными от слёз, но плакать вслух не осмеливались – боялись привлечь внимание захватчиков. Лишь изредка вырывались сдавленные всхлипы да шёпот молитв.
Рыцари стояли кольцом вокруг площади – железная стена, о которую разбивались последние надежды псковичей. Их доспехи сверкали в отблесках костра: кольчуги, поверх которых надеты кирасы, наручи и поножи из полированной стали. Каждая деталь была выкована лучшими оружейниками Европы, каждое звено кольчуги проверено в бою.
Щиты их были расписаны геральдическими знаками: золотые львы на красном поле, чёрные орлы на жёлтом, серебряные мечи на синем фоне. Копья с треугольными наконечниками вознеслись к небу, словно стальной лес смерти. Древки их были из крепкого ясеня, наконечники – из закалённой стали, способной пробить любую броню.
Мечи висели на поясах в богато украшенных ножнах. Рукояти были обмотаны кожей для удобства хвата, навершия украшены гравировкой. Это было оружие не только для битвы, но и для демонстрации богатства и власти.
Среди рыцарей выделялся один – магистр Тевтонского ордена. Он был выше других ростом, шире в плечах, и само его присутствие источало власть и силу. Доспехи его были самыми дорогими – каждая деталь сияла, как зеркало, каждое украшение говорило о высоком положении владельца.
Магистр медленно, с расчётом на впечатление, поднял руки к голове и снял свой топфхельм. Движения его были неторопливыми, величавыми – он знал, что все взоры устремлены на него, и наслаждался этим вниманием. Шлем он взял в руки и держал перед собой, словно корону.
Лицо его было суровым и властным: белокурые волосы, тронутые сединой, зачёсаны назад, открывая высокий лоб. Глаза цвета зимнего неба смотрели холодно и расчётливо. Мощный подбородок говорил о решительности, тонкие губы – о жестокости.
Белый плащ с чёрным крестом развевался за его плечами. Крест был вышит золотыми нитками, а по краям плаща шла кайма из соболиного меха. Под плащом виднелись доспехи работы лучших миланских мастеров – каждая пластина была подогнана идеально, каждый шарнир работал без скрипа.
– Господин магистр! – раздался льстивый голос, разрезавший тишину площади. – Что повелите делать с сими псами? Весь град у ваших ног лежит!
Говоривший – Твердило, боярин псковский, человек властной натуры и неспокойного духа, некогда сидевший на посадничьем месте, ведавший судом, словом, и городским порядком. С виду – породист, степенен, с правильными чертами и речью неспешной, украшенной вежливыми оборотами. Но под этой наружной гладью давно гнездилась скрытая жажда – жажда власти не ради дела, но ради себя, и золота не на службу общему, но в закром душевный, без дна.
В год бедствий, когда тевтонский рыцарь встал стеной у западных рубежей, когда немец подошёл к стенам Пскова, а дым чужих костров заволок небо, Твердило не поднял меча. Он поднял глаза к тем, кто пришёл с крестом в одной руке и мечом в другой – и склонился перед ними. Не с молчаливой покорностью пленных, но с хитростью торговой: открыл ночью ворота, и впустил врага в сердце города, как вор пускает грабителя в дом соседа, надеясь на долю в добыче.
Он предал город, в котором вырос, и стены, что некогда защищал. Предал не из страха, не по принуждению – по воле своей, по расчёту, по страсти к власти, что бывает сильней долга и родства. И имя его с той поры звучало не как память, но как напоминание: что легче всего сдать врагу не стены – душу.
Твердило подобострастно кланялся магистру, заглядывал ему в глаза, ждал одобрения. Он потирал руки и улыбался, глядя на страдания своих соплеменников, и в этой улыбке было что-то звериное, отвратительное.
Магистр неторопливо окинул взглядом пленных псковичей, задержал взор на их лицах – гордых, непокорных. Потом посмотрел на горящий костёр, на трупы, разбросанные по площади, на дым, что поднимался к небу. Всё это было плодами его победы, и он наслаждался зрелищем.
Затем магистр повернулся к Твердиле, и голос его прозвучал низким басом, что разнёсся по всей площади, отразился от стен собора и заставил всех притихнуть:
– Так города не сдают, Твердило.
В голосе его звучало презрение – не к врагам, а к предателю. Магистр понимал ценность мужества, даже если оно было направлено против него самого. А предательство вызывало у него лишь отвращение.
– Если ты мне и Новгород так же сдашь, – продолжал магистр, указывая на тела рыцарей и пехотинцев, что пали от мечей защитников Пскова, – повешу на первом же суку.
Твердило побледнел, отшатнулся, понял, что навлёк на себя гнев того, кому служил. Руки его задрожали, улыбка сползла с лица. Он попятился, пытаясь скрыться за спинами других приближённых.
В этот миг к ногам магистра бросился монах Ананий – подручный Твердилы, человек малого роста, с хитрыми глазками и лысиной, что блестела от пота. Рясы его была запачкана грязью, лицо покрыто испариной. Он упал на колени, простёр руки к магистру:
– Великий магистр! – завопил он дрожащим голосом. – Прикажи верёвки грузить!
– Что? – переспросил магистр, нахмурившись.
– Новгородских смутьянов вязать! – зашептал Ананий, подползая ближе. – Новгородцы сопротивляться задумали, за Александром посылать хотят!
При имени Александра в толпе пленных прошёл шёпот. Многие подняли головы, в глазах вспыхнула надежда. Имя князя Александра Ярославича было известно всей Руси после победы на Неве над шведами.
– Это тот, что на Неве шведов побил! – продолжал шептать Ананий.
Твердило наклонился к уху Анания:
– Мути народ против Александра… Опасен сей князь…
Магистр усмехнулся – усмешка была холодной, презрительной. Он отвернулся от Твердилы, словно от назойливой мухи:
– Ещё не родились люди, могущие нас побить.
Его плащ развевался на ветру, как и белые плащи других рыцарей. Ветер поднимал пыль, разносил дым, и казалось, что сама природа содрогается от происходящего на площади.
Магистр кивнул в сторону десятка знатных воинов, что стояли поодаль в дорогих доспехах. Это были рыцари знатных родов, что прибыли в крестовый поход против язычников и схизматиков:
– А князей у меня вассальных сколько угодно, – произнёс он с гордостью.
Он указал на одного из рыцарей – высокого, широкоплечего, с тёмной бородой:
– Доблестный рыцарь Губертус! Как старший князь покорённых русских земель жалую вас князем Псковским!
Рыцарь медленно снял свой топфхельм, обнажив загорелое лицо с глубоко посаженными глазами. Он низко поклонился, приложил руку к сердцу:
– Благодарю, господин магистр! Буду служить верно!
– Рыцарь Дитрих! – продолжал магистр, указывая на другого воина – молодого, с русыми волосами и голубыми глазами. – Жалую вас князем Новгородским!
И этот воин обнажил голову в знак покорности, склонился перед магистром:
– Приму сию честь, господин магистр!
Каждый раз, когда называли имя нового «князя», пленные псковичи стискивали зубы, в глазах их вспыхивал гнев. Видеть, как чужеземцы раздают русские земли словно поместья, было для них мучительнее физических страданий.
Тут поднялся с трона епископ, расправил плечи, воздел руки к небу. Мантия его заколыхалась, золотая цепь зазвенела. Голос его был гулким, надрывным, и он зазвучал над площадью, разносясь до самых дальних углов:
– На небе один Господь! – возгласил он, и голос его отразился от стен собора. – На земле один его наместник! Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам! Один римский властелин!
Епископ говорил с пафосом, с убеждением, словно проповедуя с амвона. Каждое слово он произносил отчётливо, с расстановкой, чтобы все поняли:
– Всё, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено! Нет спасения вне единой истинной церкви! Схизматики и еретики – враги Христовы!
Речь его была долгой, обличительной. Он говорил о том, что православные – не истинные христиане, что их обряды – мерзость перед Богом, что их храмы – рассадники ереси. Пленные слушали эти слова шепча молитвы.
Твердило, воспользовавшись моментом, навис над пленными псковичами. Лицо его исказилось злобной усмешкой:
– Ну как, православные? Согласны служить истинному Богу? Согласны принять латинскую веру?
Он ходил перед ними, заглядывал в лица, ждал ответа. В глазах его светилась жестокая радость – он наслаждался своей властью над теми, кто ещё недавно был равен ему.
Тогда один из пленников – седобородый муж в разорванной и окровавленной рубахе – подскочил на коленях, насколько позволяли путы, и прохрипел надорванным в битве голосом:
– Не бывать, по-твоему, Твердило!
Это был Павша, псковский воевода, что командовал обороной города. Лицо его было изрублено, левая рука висела плетью – её изрубили ещё в бою. Но глаза горели неукротимой яростью, а голос, хоть и хриплый, звучал твёрдо:
– Не пойдёт Русь под немца! Бивали мы вас и прежде, побьём и ныне!
Эти слова прозвучали как клич, как призыв к сопротивлению. Другие пленные подняли головы, в их глазах вспыхнула прежняя гордость. Кто-то зашептал: «Правда, воевода! Не сдадимся!»
Твердило побагровел от ярости. Он указал на Павшу закованным в железо пальцем, и голос его сорвался на крик:
– Казнить сего охальника! Немедля казнить!
К воеводе подбежали пехотинцы – грубые, жестокие люди в кольчугах и шлемах. Они схватили Павшу за плечи, поднимали его на ноги. Воевода не сопротивлялся, лишь гордо выпрямился, расправил плечи.
Тогда из толпы женщин раздался пронзительный крик. Из-за материнских подолов выскочила девушка – молодая, красивая, с длинными русыми волосами, что развевались по ветру. Это была Василиса, дочь Павши, девица лет семнадцати, что славилась своей красотой по всему Пскову.