Пробный маневр профессора
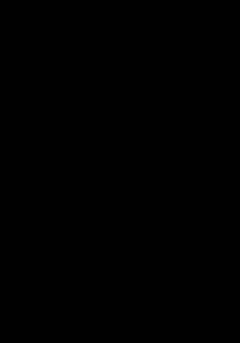
Глава 1. Поехали!
«Мама, зачем солнце так кричит?» – приставал малыш к своей маме. Мама у малыша была веселая и расхохоталась, попросила показать как солнце кричит, назвала сынулю Симкой. Симка вытаращил глаза, надул щеки, поставил ноги на ширину плеч и зашипел. Сергею Львовичу Аненкову это так понравилось, что он даже в ладоши захлопал, похвалил соседа по вагону и маму его тоже и пошел в свое купе поезда «Москва-Саранск». Солнце и вправду даже раздражало своей яркостью, слепило до рези в глазах. Весна была пасмурной и медленной. Накануне было несколько настолько беспросветных дней, мрачных как как готические развалины ночью, что Аненков даже на улицу не ходил. Он отсыпался после гонки с изданием монографии и после тяжких конфликтов с руководством. Освобождался из объятий Морфея только поесть да почту посмотреть. И то только до момента, когда его давний дипломник, которого не просто помнил, а часто ссылался на совместную статью, вдруг проявился оригинальным способом – пригласил на вернисаж.
И в его выспавшейся, ничем не отягощенной свежей голове зародилась идея. Прочно поселилась и не захотела выезжать. Да он и не гнал ее, он ее вынашивал. Хорошая же идея, красивая, смелая, перспективная. О ее воплощении было так приятно мечтать.
Долгожданное солнце, богатство апрельских звуков, шум стекающего ручьями снега, звонкие птичьи голоса синхронно включились в тот момент, когда он отдал заявление об уходе с должности профессора универа. «Что так долго ждал? Давно надо было освободить место! Может давно бы погода улучшилась!» – вопил завкафедрой вслед. Сергей Львович достал телефон и отправил его в бан. Стало полегче. И правда: погода-то апгрейдилась. Слякотная темная зима наконец прощалась с городами, лесами и полями. Анненков решил символически расстаться со всей своей прошедшей скорбью методом ритуального убийства контактов. А чем еще в поезде заняться? Он скроллил записную книжку: «Ага, попался, голубчик! Написал докладную ректору о том, что я со студентами занимаюсь до десяти вечера вместо положенных двух часов? В бан и чтоб тебе в раздевалке преподавать!». Аненков тыкал в экран с разной силой, разным персонажам его вузовской жизни доставалось столько, сколько заслужили. Дошел в телефонном справочнике до фамилии заведующего, приостановился, как будто целясь, рьяно поерзал как кот перед прыжком и бац пальцем по экрану: «В бан! Лети фанерой над Парижем, лети! Давно пора освободить место!». Хорошо стало профессору. Он оживился, выпрямился, криво заулыбался оскалом победителя.
Юным пассажирам на верхних полках показалось, что этот лысоватый и полноватый скалящий зубы дядька – персонаж ума недалекого и играет в какую-то примитивную игру. Они хихикнули:
– Поколение тетрис!
– Сергей Львович меня зовут, деятели. Запомните, дорогие попутчики – в играх ничего нового придумать невозможно. Один принцип касается доминирования во времени, а другой – в пространстве. Ну да ладно, потом узнаете. Ах да, чуть не забыл – доминирование в интеллекте. И я бы добавил – смелости или воле, но таких игр нет. Как зовут вас, представители поколение альфа, будущих спасителей человечества?
Мальчишки молниеносно ответили. Один назвался Сережей, а второй Геральтом. Степан, их отец, одетый в теплую тельняшку, тоже представился и они тепло пожали руки.
– Вы, наверно, музыкант, – решил угадать Степан по рукам.
– Преподаватель механики в вузе, а Вы, наверно, геолог.
– Почему?
– Мои знакомые геологи носят тельняшки и у них руки похожие.
– Я пожарник, МЧС. Выезжаем, чтобы отмочить там, где кто-то отжег, – улыбнулся Степан.
– Пожарником стать –мечта моего детства, даже сочинение «Кем хочу стать» писал про него. Плакаты раньше были: «Спички детям не игрушка», «Не шути с огнем». Опасная у вас профессия.
– Не опасней других, если знать и уметь. «Искру туши до пожара, беду отводи до удара», – так сейчас у нас на плакатах пишут, а о вашей механике пословицы есть, кроме «дорогу осилит идущий»?
– «Не плюй против ветра», – они посмеялись вместе с Сергеем Степановичем и Геральтом Степановичем, оказавшемся Федей. Ребята тоже включились в эту викторину и вспомнили про скорость, которая нужна при ловле блох и «поспешишь – людей насмешишь». Аненков оседлал любимую тему и не начал рассказывать Феде и Сереже про относительное и абсолютное движение и что происходит при резких остановках и почему не надо терять бдительности на верхних полках, но в их взглядах стало читаться «дядя Сережа, душно стало», им оказалось интереснее мнимое движение в их смартфонах.
Аненков еще посиял зубами по инерции, а потом вспомнил о тех ветрах, которые гнали его из столицы и продолжил свое захватывающее занятие по чистке телефонных контактов от скверны. Давая отдых глазам и нервам, смотрел в окно на небо и землю, проплывающие дома, проносившиеся поезда, мелькающих людей и птиц. Он ехал в Заболоцк с чувством будто путешествует в не ближе, чем в Саратов. Колеса стуком метронома неумолимо отсчитывали время и расстояние, за окном мелькали таблички с указанием километров от Москвы.
Безупречным выбором для побега считал Аненков этот захолустный городок, а ведь пару дней назад он с его сельским вернисажем ни на йоту заинтересовал бы профессора.
А ведь раньше Аненков не выезжал из Москвы для отдыха или путешествия. Только по делу, только по работе. Он считал, что не может позволить себе более дня безделья. Радовался, если прожил день на высокой скорости, чувствуя себя человеком, который сдела все что мог. Считал время непрожитым, если оно не выражалось в результатах. Коллеги его жили не так. И терпеть его положительный пример не собирались. И пусть хитросплетения изощренных и беспринципных интриг и подсиживаний со стороны титулованных сослуживцев и откровенных бездельников не интересовали, их результаты не заставили себя ждать. Сначала запретили работать во внеурочное время. Это по доносу этого молодого бездельника, в бан его. Потом стали ходить с проверками в научный кружок. А это затеял этот старый дурак, его туда же.
«Куда несешься с такой скоростью? Сердце выдержит?» – кричали вслед в коридоре бывшие однокурсники. Отшучивался фразой из старого фильма: «Не скорость убивает, а внезапная остановка». Попросит Аненков чтобы пустили в компьютерный центр сделать расчеты, потому что надо срочно. В воскресенье надо, чтобы к понедельнику работа была готова. Ему отвечает охранник: «Только через мой труп». Профессор нашел у себя телефон этого охранника, которому успел не раз помочь с регистрацией в Москве, и тоже отправил в черный список. «Люди, всего лишь люди, – успокаивал Аненков сам себя. Теперь он выспался. Теперь академическое сообщество стало для него трупом, который забыли похоронить: «Пусть я для них давно персона нон грата. Это даже почетно. Наша незабвенная Маргарита, философиня, им в глаза сказала, что мол профессор Аненков раздражает вас самим своим существованием, что они сразу выглядят мелкими крохоборами». Как бы то ни было профессор предпочитал эту возню общению с семьей.
«Мама меня не очень-то понимала, старые друзья и подавно», – обреченно подумал Львович. Он всегда считал способность работать в любых условиях своей сильной стороной. На вопрос соседей «Куда ваш сын уходит каждые выходные», мама Сергея Львовича уже стыдилась отвечать, что на работу или в библиотеку, чтобы не словить в ответ ехидной ухмылки. И он чувствовал себя виноватым. Виноват– не успел, не обеспечил, не отвез, не завез, не принес, не открыл, не закрыл, не вынес, не женился, женился, не развелся и развелся… И, наконец, недоглядел. Не поверил маме, что она скоро уйдет. Даже не попрощался толком.
Работа отлично спасает и от вины и страха перед жизнью, страха оказаться разоблаченным, показать свои неприкрытые латами точку. Ведь туда ударят. И не дураки – попадут. Некоторым не только слабину показывать не надо, а и дорогу к ним. Только страшно стать великим лжецом, запутавшимся в лабиринте самим же причудливо спутанных следов. Аненков считал себя мастером по обхождению опасных препятствий и предотвращению провокаций, не сразу понял ставшего очевидным – самая большая опасность прячется в мнимой безопасности.
Но и нынешняя свобода от суеты и тщеты его профессионального рвения не дала ему свободы от пустоты в душе. А тут еще приятель, сосед по площадке, с которым он вместе рос, лысый как кришнаит, подтянутый полковник как вдарил кулаком в наметившийся животик:
– А ну-ка, Серега, включай запасные мощности. Что-то тебя слишком развезло в последнее время. Утром строиться. Давай пробежки делать. Я тебя пасти не буду, но один раз сбегаем на Воробьевы горы, потом сам. Я тоже один люблю гонять. Что далеко? Полчаса трусцой через Нескучный сад – это далеко? Что значит нет сил? Попрет адреналин с дофамином – и придут силы, не дрейфь.
Аненков купил спортивный костюм, удивился, что пришлось брать на два размера больше. Побежал на Воробьевы горы один. Побоялся, что приятель будет с ним обсуждать историю про то, как профессор пошел писать заявление на военную службу по контракту, да остановили – на диспансеризацию отправили. А в здоровье своем он сомневался. «От себя побежал что-ли? – скептично посмотрел на себя со стороны, пробегая огромные витрины на Ленинском проспекте, – но красиво скачешь, конь педальный».
Когда Сергей вспомнил заброшенную привычку прогулок с фотоаппаратом, ежедневные побеги от себя стали удовольствием. За три последних месяца он обошел почти все свои любимые места в городе. Изменилась всегда изменчивая его любимая и родная Москва. Львович пытался определить, не потеряла ли душу. В детстве он был так горд, что родился именно тут, в столице великой страны. Сначала с мамой, потом один он частенько прогуливался либо в родном Замоскворечье, либо на Покровских воротах, от Ленинки, ставшей вторым домом, поприветствовав Достоевского по Воздвиженке шел приветствовать Гоголя или по Большой Никитской Чайковского, воображая, что некогда они тоже здесь ходили , говорили, мечтали.
Сбегал в безлюдное раньше Коломенское, там хорошо думалось. А долгая прогулка в людском потоке потоке вдоль течения Москвы-реки по набережной от Воробьевых гор через Нескучный сад, через кипучий людный Парк Горького, через Вернисаж на Крымском валу до самого Кремля всегда наполняла энергией молодости. Если не спалось – даже гулял вокруг Кремля. Он знал наизусть историю каждой его башни. В последнее время столь близкий родной город стал становиться чужим. Пройти дворами как раньше уже нельзя – чужая собственность. Милые сердцу виды сменили доминанты, хоть глаза закрывай чтобы не видеть этих вставных челюстей – небоскребов. Вызывающие восторг могучие раскидистые тополя уступили место сирым и убогим полуживым деревцам, выстроившимся пешками вдоль похожих друг на друга зданий. В местах вроде одичавшего от торговли Арбата он старался не бывать вовсе. Аненков помнил свою Москву – город в лесу, сохранившийся точно таким лишь в районе Тимирязевской Академии. Самозабвенно снимал все городские виды и репортажи фотоаппаратом, планшетом, и телефоном. Вспоминал законы композиции, искал ракурсы, ловил свет и интересные детали.
Сергей полистал фото, сделанные на телефон: «Похоже, Львович, ты так прощался с Москвой». Открыл телефонную книгу. Вот студенты групп, в которых дочитывал лекции. Решил оставить. Вот две сестры из соседней лаборатории. Всегда с радостью составляли компанию сходить на обед и поили кофе. Надежде, библиотекарю, профессор позвонил. Вроде как по делу, сказать, что изданную на свои монографию он принес, ее можно почитать в зале, а потом развезло. Видимо, так криво говорил о желанном увольнении и о том, что мол всю жизнь мечтал заниматься искусством, что заставил Надю плакать. Врал местами безбожно, очень не хотел быть побежденным, но не чувствовал сил для противостояния. А ведь надеялся, что она потом всем расскажет, что вот, какой Аненков у нас разносторонний оригинал. А она умеет излагать, да такие краски подберет, что даже недруги будут с удовольствием пересказывать ее байки.
Под стук колёс и звон ложек об подстаканники, неизменный во все известные ему времена, перед мысленным взором профессора представали забытые моменты его жизни. Проявлялось непроявленные фотопленки, осознавались, чтобы справиться с тем, что уже не изменишь и изменить то, что пока живо. Страшно тянуло в сон. Львовича подвело то, что он привык бороться с бессонницей с помощью аудиозаписи звука поезда. Он часто засыпал мечтая в поездке. «И вот теперь я в поезде и мечтаю о прошлом» – подумал он.
Вот советские семидесятые – ВДНХ с папой, побеги из школы в кино. Вот восьмидесятые – «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым», он студент, аспирант. Вот девяностые – для него это диссертация, конференции, преподавание, вера в то, что скоро наука восстановится, станет все как было, ведь иначе он не представлял. Август 1991 он хорошо запомнил, так как был как раз недалеко от Фороса, где Горбачев отрекался. А когда вернулся приехал, удивился количеству диванных героев среди коллег, каждый на своих баррикадах Коллеги ломали копья в политических схватках, многие стали уходить из вуза. Возможности заработать там не стало. Сергей все же дотянул до лучших времен, он чем только не занимался со школьниками и студентами – и математикой, и физикой, и сопроматом и даже английским и оставался в этом мирке. Занятия карате давали ему иллюзию безопасности и принадлежности к особому клану, он даже крутил нунчаки и стоически носил вшитый в одежду свинец для нагрузки. Мама беспокоилась о семье. Тогда он быстро женился как будто не для себя или не в себе, и так же быстро развелся, испытав грешное блаженство выпущенного на волю.
– М-да, а был ли я женат – то? – задумчиво сказал Сергей Львович.
– И я тоже, – махнул рукой суровый Степан.
Но они посмотрели на верхние полки и не стали развивать тему.
– Дочь у меня постарше Ваших мальчишек года на четыре, уже студентка, – единственное, что сказал Анненков.
Вот Аненков вспомнил про то как его первая статья в международном журнале в первый же месяц после публикации собрала около тысячи ссылок. Значит его эксперимент был нужен, выводы актуальны. Теперь он надеялся получить финансирование дальнейших работ. Он надеялся на поддержку коллег. Вместо ожидаемого он узнал, что то, что институт как анекдот обсуждает то, что его единственная статья цитируется поболее всех статей ректора. Чей слух, чья интрига или глупость? Аненков не привык об этом думать, но все таки стал опасаться последствий.
Седьмого января мама Сергея Львовича отошла в мир иной. Он сидел у ее холодной постели, а коллеги бодро слали поздравления с Рождеством. В день похорон утром надо было на работу. Ему звонили и стыдили за то, что он не предупредил, что не придет принимать экзамен. Если вы ни разу не сидели рядом с охладевшим телом отца или матери, вы не осознали этого моментального взросления и ощущение своего ничтожества и ничтожества окружающих одновременно. Сказать, что ушла мама? Они того даже не стоят. Зачем они ей звонили и сообщали всякую чушь? Пусть лучше останутся драгоценные воспоминания о том, как вместе с мамой в этот последний Новый год наряжали елку бережно сохраненными игрушками и вместе мечтали, грустили о прошлом. Старый Новый год он встретил уже один.
Знать какое его глобальное прозрение привело к тому, что несчастья и испытания посыпались как из рога изобилия. Даже ученик, которого считал научным наследником, сбежал не прощаясь из страны, друг предал, коллеги отвернулись, продолжая кормиться его разработками. Руководство не советует аспирантам и дипломникам идти под его руководство, его научному кружку не дают помещения, финансирования нет. И это становится похоже на изоляцию с целью удушения. Последней каплей стало то, что декан и однокурсник его пообещал, не торгуясь, поддержать новую прорывную, почти революционную тему на ученом совете. Аненков поверил и рассчитывал. На совете декан высокомерно сообщил, что проф. Аненков занимается малоизученными теоретическими вопросами, а финансирование предусмотрено для имеющих практическую ценность и возможность быстрого внедрения. Закатай, плебей, губу. Что ж ты такой бедный, раз такой умный – пронеслись слова бывшей жены в голове. Предчувствие катастрофы или уже катастрофа – задавал себе вопрос Аненков. Думать не хотелось о том под властью каких демонов эти респектабельные люди душат все живое. «Всех в бан, всех в черный список! Поставить на этом точку? Или многоточие?»
Дочь перевел в другой вуз и купил билет в Заболоцк. Стал собираться. Когда Сергей Львович ставил том своей монографии в книжный шкаф, на него свалилась с верхней полки давно забытая книга о Ван Гоге. Удар Ван Гогом – тот еще каратистский приемчик. Эта книженция ему попалась впервые в пору увлечения единоборствами. Ван Гога с тех пор он обожал. Не столько картины, сколько характер, ту же жизнь на невероятной скорости. Темп «картину в день» мало кто выдержит. Вот живучий! Один день – одна картина – одна новая жизнь. Вдохновляющая через века. А если бы он остался проповедником?
Колеса крутятся, по поезд приближается к Заболоцку. Аненков уже не против доехать и до Саранска. Мысли крутятся быстрее колес. Сергей мечтает, что бы они привели его в искусство, настоящее и большое. А то, что волшебным образом перестанет хандрить, это само собой. Пусть лучше что-то прекрасное, удивление, радость испытать и перенести на холст! Потом картина удивит кого-то, вдруг отзовется в душе посетителя галереи спустя десятилетия, столетия. Живопись не имеет пределов ни в чем. В ней можно совершенствоваться бесконечно, ее можно толковать свободно, она останавливает время, давая возможность и художнику и зрителю остановиться и совершить свой выбор. «Эх, прокачу в прошлое и будущее, когда вникну и вспомню руками», – мечтал Аненков.
Бледнели его воспоминания, как эти засвеченные и выбеленные солнечным светом поля, леса, дороги, крыши, советские строения уже забытого назначения.
– Ока! – закричал Федор, он же Геральт, выхватил профессора из ступора.
– Из Московской области выехали, – обрадовался Степан, – А вы смотрите-ка, отличается пейзаж от подмосковного. Вот поля вспахали. Не ждут, когда зарастет, чтобы построить свои коттеджные поселки.
Сергей Львович придирчиво пригляделся к бесконечному холмистому ландшафту. Тут бы виноград выращивать на южных склонах. Наверно северный виноград будет как северный мед, в сто раз полезнее. Вот ремонтируется здание станции, а вот разрушается старая красивая водокачка. Жалко, можно было бы отреставрировать. Вот один трактор увяз, а второй его вытягивает из весенней пашни. Люди работают, люди делом настоящим заняты. Сергей Львович читал глазами пейзаж как книгу, выхватывая слева, справа, вверху в небе, внизу на земле самое интересное и удивительное. Бескрайний простор, небо безгранично и бесконечно. Показалось, что зрение стало яснее прежнего. Да что там зрение – он вчувствался в это новое пространство, ощутил себя в нем, представил как гладит тех коров, что выходят из загона, как растирает в руках маленькие пахучие почки. И Львовичу захотелось простой сельской жизни со всеми ее радостями бесхитростными, чтобы понежиться в траве не солнышке как кото и чтобы поутру серьезная деревенская девушка принесла ему крынку парного молока и теплый хлеб из печи. Размечтался. Ему стало чертовски нравиться его побег из своего институтского болота с забаненными обитателями. Скоро-скоро он поселится в новом месте, приглядится. Вот уже и поезд сбавляет скорость перед станцией. Заболоцк! Пассажиры потихоньку идут на выход, стали прощаться.
Резкое торможение, попадали вещи, грохот и крики. Мальчишки проворно соскочили с полок, сообщив Львовичу, что они прочувствовали момент инерции. Машинист объявляет, что если кому-то из пассажиров нужна медпомощь – срочно обратиться к проводнику, а аварийная остановка произошла по вине человека спрыгнувшего на пути.
– Кто опасности не боится, того она сторонится, – сказал на прощание Степан и помог заробевшему растерявшемуся Аненкову надеть рюкзак поверх видавшего виды пальто и найти выроненную любимую перьевую ручку, пожал руку на прощание и по праву сотрудника МЧС стал помогать сотрудникам и пассажирам.
Глава 2. Из трясины
Солнце «кричало» еще довольно сильно, когда Сергей Львович вышел из поезда. Вспомнил Симку и заулыбался, настроение было прекрасное.
Художественная выставка у Антона как художника и галериста планировалась на майские праздники. Двадцать лет прошло с тех пор, когда они, научный руководитель и студент, вместе творили в институтской изостудии «Взгляд художника». Да мало этого – он как наяву представил ее бескомпромиссную руководительницу, пожилую, но изысканно одетую светлой памяти Ираиду Александровну. Она была как из другого века. Поговаривали, что училась у Бакшеева. Вот Антон ее уроки внедрил в жизнь. А ведь Львович на минутку по-детски ему позавидовал.
– Антон, встречать меня не вздумайте, я приеду заранее, хочу поближе познакомиться с городом, перезагрузиться, поразмышлять спокойно об искусстве, о живописи. Вспомнить про тот самый отвлеченно-художественный взгляд на мир, о котором Ираида говорила. То есть мыслить как художник.– позвонил он Антону из поезда.
Заболоцк встретил Алексея Львовича безупречно чистым вокзалом образца восьмидесятых годов прошлого века. Гулкая, немного пугающая музейная пустота. Как будто застывшее время в бесхитростном стандартном интерьере. Она погрузила его моментально в состояние беспечности и веселья, он представил как шумел бы тут с однокурсниками, с которыми каждое лето колесил вот так по российским городкам со стройотрядом. Гитары, джинсы, брезентухи с названиями вузов на груди и спине, ощущение избранности и братства. Дерматиновые лавочки без поролона, батареи, мерцающие газоразрядные лампы, отделка ракушечником, крашеные стены и потолок, решетки на окнах и кот на вокзальном подоконнике —декорация прошедшего века. Только безлюдно. Безмолвие Тарковского.
К замершему Аненкову тихо как во сне подошел сухонький старичок, и его мерное шарканье эхом отозвалось в пустом зале ожидания.
– Доброго вам вечера, вы в Москву? – спросил старичок и бодро подал руку, присаживаясь. – Кассу откроют минут за двадцать до поезда.
– Здравствуйте, не уговаривайте в Москву, я только что оттуда. Не подскажете, как лучше добраться до улицы Пограничников?
– Она находится с той стороны этого вот леса, – бодро привстал дедок и показал в окно. – Автобус туда колесит по трассе, потом петляет минут сорок, да по нашим по ухабам. Тяжко ехать. А через лес шагать минут двадцать пять, краем болотца. Не больше двух километров. Места тут, мил человек, красивые, идти нетрудно. Главное следи, чтобы болото, оставалось всегда слева, там и тропинка есть. Кабаны туда редко наведываются, обувка у тебя годная, только не задерживайся, закат скоро, ночи пока холодные, снег кое-где лежит, хоть завтра уже первомай. Ну, доброго пути, с Богом, – пожелал он и направился к скрипнувшему окошку кассы.
Сергей Львович и сам взбодрился от уверенного, совсем не стариковского рукопожатия. «И что я расклеился?». Остался позади вокзал, уехал автобус. Аненков нащупал в рюкзаке буксировочный трос, по старой туристической привычке он его всегда брал с собой, решительно отправился в лес. Широкая тропа настойчиво уводила в чащу, в глубину прозрачного смешанного леса. Свежих следов на ней почти не было, и Алексей Львович подумал, что его легко можно будет найти по четким следам ботинок на недавно оттаявшей мокрой дорожке. Если заплутает и не будет связи.
Как же давно он не был в весеннем лесу! Очарование весеннего вечера вытеснило все его опасения насчет возможности заблудиться. Закатное солнце пригревало спину и заливало теплым светом березовый лес, в распускающейся листве пели многоголосым хором дневные птицы, и вдалеке уже начал свою пасторальную мелодию первый соловей. Справа, дополняя шум леса звоном колокольчиков, радостным мычанием и хрустом веток, медленно проплыло небольшое стадо коров. Музыкой в сердце отозвалось их черно-белое движение и даже щелкание пастушьего хлыста казалось звуком божественной красоты. Да что там, он представил давно забытый вкус парного молока.
«Это же "Первая зелень, стадо" Алексея Грицая!» – обомлел Сергей Львович от ясного воспоминания.. Ему вдруг, что он не покинул дом несколько часов назад, а, наоборот, пришел, вернулся в свой дом. Он представил, как открывает глаза и сквозь сон видит маму через прутья детской кроватки . Она принесла и повесила на стену репродукцию в деревянной рамке, рассказала про коров и о том, как они дают молоко. Потом покормила. Сергею показалось, что он даже ощутил этот вкус на губах – вкус настоящего парного молока. И вот она – эта ожившая картина! То же настроение, коровы, берёзы. Теплые на освещенной стороне и холодные, небесно-синие в тени и утопающая в серебристо-лиловой дымке даль. И чуть видный желто-зеленый намек на будущие листья, и светящийся воздух, полный весенней влаги, каждая частица которой напоена светом солнца и неба.
Сорока, скандально стрекоча, пролетела мимо и вывела его из оцепенения. «Ходи, Сережа Львович и обнимай эти березы. Дышать— не надышаться. Смотреть – не насмотреться!»
Заметив свою длинную синюю тень, то сливающуюся, то размыкающуюся с падающими тенями берез, Аненков подумал, что как это интересно и пластически красиво выглядит – общая тень с лесом. А вот и лесной царь, доминанта всего этого леса, огромный дуб. Он пока и не думает распускаться. Алексей Львович вспомнил, что дочка удивлялась тому, что разные деревья распускают листья в разное время. «Дуб долго силы собирает», – сказал ей, и она долго молчала. Аненков присел на поваленный ствол, выпрямил спину, запрокинув голову к небу – туда, куда стремились все эти линии, фактуры, цвета, запахи, звуки. Перспектива радовала, какие только обрывочные сведения о перспективе Возрождения и обратной перспективе иконы не пронеслись в голове.
Кажется, что не ты смотришь на лес, а лес и небо как творящие жизнь начала смотрят на тебя, охватывая синью, зеленью, всеми красками и линиями, вкусом воздуха и запахом весны. Представишь себя частью этого целого – безграничной природы и неистощимой жизни, вырастишь до размеров целого леса и вернёшься в собственное бренное тело, унося с собой вибрации и звуки этого места. Аненков подумал, что это он в своем воображении превратил прямую перспективу реального леса со стволами сходящимися почти в космосе – в мнимую обратную, представил как лес будто апсида охватывает. Увлекает то в даль, то внутрь своих переживаний и мыслей. Всё, на что обращаешь внимание, что узнаешь или что удивляет – обретает ощутимую форму и объем, оставляя остальное плоским фоном.
Аненков проголодался и достал бутерброд. Привычка брать с собой еду досталась от мамы. Достал и блокнот с карандашом. У художника же всегда должен быть наготове блокнот с карандашом. Жажда рисовать оказалась сильнее. Рисовал жадно и быстро, торопясь зафиксировать светотеневые отношения, красоту линий веток, коряги, похожие на лесных чудовищ. Вспомнил, как его учили разделять пространство на первый, второй и третий план. Набросал суетливую белку, подбежавшую в надежде на кусочек бутерброда. Солнце неумолимо садилось. Аненков этого, может, и не заметил бы, не упади его взгляд на маленькую елочку, а ухо не услышало бы детский плач филина. Одинокая новогодняя ночь с елкой, наряженной еще живой мамой, мрачно встала перед глазами. Хорошо, что мысли о смерти уже не испугали, только насторажили. «Всё, турист.Блокнот в рюкзак – и на тропу», – сказал он сам себе. А дорожка-то потерялась в сумерках, края болота не видно, телефон сел. Заскрипела береза, помрачнели силуэты старых пней и поваленных деревьев, обострился запах сырости, рухнуло дерево неподалеку, смолкли птицы. Зато отчетливее слышались бешеные, еще неладные трели одинокого соловья.
Лесные коряги, покрытые мхом, злобно усмехались, резко похолодало. Вдалеке послышались крики. Будто в лесу шла толпа. Людей Сергей Львович воспринял с радостью – теперь он знал куда идти. Слева закричала выпь – значит, не сбился с маршрута. Аненков сориентировался на восток и быстро зашагал не дожидаясь полной темноты. Маленькими лужицами блеснули на влажной глине раздвоенные следы – большие и поменьше. «Кабан с поросятами!» —Опасность пробежала холодком по спине Алексея Львовича. Он поднял увесистый дрын и, размахивая им как мачете, стал проламывать себе дорогу, словно сквозь джунгли, в ту сторону, где людские голоса казались слышнее. Вообразил, что побеждает всех врагов, дурные воспоминания и обиды. Дубиной их, дубиной! «Ну ты, Львович даешь! В свои пятьдесят – ещё терминатор! – изумился он сам себе. – Отдышись, кандидат в инфарктники, давно ли ты махал чем-нибудь кроме указки?»
Сумерки сгустились и почернели, лес перешёл в ельник. Города не видно, голоса – будто глуше. «Еще чуть-чуть», – подумал Аненков, но не смог поднять ногу. Он стоял в болоте. Ботинки утонули и промокли. Вокруг поблескивали как бельма нечисти островки грязного снега.
– Растяпа! Хоть бы фонарь с собой брал, следил за зарядом в телефоне хоть бы», – услышал он слова мамы в своем исполнении.
Истошно закричала кошка. Она металась и звала в опасную сторону.
– Леший тебя послал, что-ли, заблудить меня? Беги себе в болото, я не самоубийца.
Кошка подбежала, прикусила ему ногу, настойчиво звала за собой. «Ну, Львович, боишься сдохнуть? Еще вчера хотел, а сегодня зассал?» – резанул Аненков словами коллеги, которого когда-то не поддержал на выборах ректора, было стыдно, унизительно и неприятно.
Болото бывает очень коварным, особенно весной. Зимой оно проходимое, замерзает как правило. И летом пересыхает, тут можно собирать ягоду. Когда вешние воды и родники напитывают его, местами оно тоже может казаться проходимым, а чуть в сторону наступишь, и все – провалился. Бывает ступаешь, идешь, не задерживаясь аки Христос по водам – все хорошо, ноги отталкиваются от чуть зыбкой поверхности, неустойчивой как в цирке, но остановишься – и пропал уже по колено. Болото не прощает ошибок.
Никто не ищет пропавших на болотах, пропавшие сами становятся болотом. Провалившийся в холодную трясину человек, сразу замерзает, а на его ногах будто пудовые гири повисают. Пошевелишь ногами – и только глубже уходишь в ил, под ледяную воду. А вода в болоте даже летом настолько холодная, что выжить дольше часа сложно. Тем более сейчас, когда температура едва ли выше пяти градусов. Самостоятельно вылезти из трясины пока судорога не свела конечности можно только на силе рук и воле к жизни, держась за палку с крюком, гибкое дерево или веревку. А если цветет багульник, то одурманивающего запаха иногда бывает достаточно, чтобы отравиться. Устаревшее «багулить» и означает «травить, отравлять». Лучше в такое время на болото не ходить вовсе. Но если придется, то нужна длинная прочная палка с крюком на одном конце и острозаточенным с другой стороны. Самые опасные места – поросшие мхом небольшие мочажины, подпитываемые водой из подземных холодных ключей. Сначала это видимые озерца, в которые по доброй воле никто не зайдет, но с годами они затягиваются илом, зарастают сверху растительностью и становятся незаметной смертельной опасностью. Их в иных местах называют чарусами. Они будто очаровывают красивым мхом, зеленой травкой. И только острым концом палки можно определить – стоит ли шагать в кажущуюся проходимой прорву.
Аненков помнил, как в турпоходе под Старой Руссой допустил ошибку по самоуверенности— наступил на покрытую мхом мочажину, и утонул бы, если бы товарищи не вытащили с помощью лебедки. Найденный им только что крепкий дрын заточил с одной стороны и быстро достал из рюкзака и веревку. Осторожно пошел за кошкой, отдаляясь от шума и углубляясь в болото. Оно казалось безопасным, потому что на нем рос довольно крепкий лес. Кошка прыгала вперед и звала. Алексея Львовича охватило осознание незримой связи с животным, он стал видеть и слышать острее, по-кошачьи.
Он стал командовать сам собой. Так захотелось жить! «Смотри под ноги! Кочка, дрын, проверяю, ступаю, проверяю, дрын… Всё не случайно…Детский крик филина…Елка, кошка, болото, ночь…Все в руках провидения… Актум ут супра1 Терять нечего! Я в хорошей форме! С Богом, профессор! Вита брэвис!2 Дум спиро, спэро!3 Пер аспера д астра4…Но пасаран!5 …Пассаремос! 6… – отбивал он словами и фразами ритм, и шагая в полумраке. Тело вспомнило движения , отработанные до автоматизмавтуристической молодости, да и лозунги того же времени.
Крик кошки сменился на мявканье. Она сидела на чем-то светлом. Что там? Котята? Аненков подошел ближе, протер запотевшие очки и не поверил глазам. На кочке стояла нарядная люлька-переноска. В ней лежал ребенок, совсем младенец, в розовом. Младенец проснулся, будто от пристального взгляда, и загукал кошке. Аненков встретился с кошкой глазами и, как будто повинуясь богине Бастет подхватил люльку. Она оказалась совсем легкой, не то что сверток с его новорожденной дочкой. Тот был увесистый, килограммов шесть, не меньше.
Кошка пронзительно вскрикнула. Аненков вздрогнул, и сердце замерло от ужаса. Ему показалось, что в воде – посиневший труп девушки. Показалось из-за татуировок и темноты. Также, как когда-то он сам, девушка провалилась в мочажину. Миниатюрная, похожая на мальчишку, испуганно замерла, не веря в спасение.
Аненков поставил люльку, снял рюкзак, пальто, кинул ей веревку:
–Обмотайтесь, завяжите и держитесь крепче и не шевелитесь!
Девушка дрожащими руками все сделала и он медленно и непрерывно стал тянуть за веревку. Как будто в тисках держит болото свою добычу. Но постепенно, сантиметр за сантиметром, Львович вытащил бедолагу. Голоса людей приближались, между деревьев замелькал свет фонарей. Он закутал девушку в свое пальто и стал, как положено, кричать изо всех сил: «Сюда, на помощь!».
Миссия выполнена !– хотел банально или непонятно им сказать Львович, но увидев фотоаппараты и направленные на него, держащего двух спасенных девчонок и кошку смартфоны и фонарики, вдруг подумал, что история может быть криминальной. У него моментально забрали пострадавших и отвели их в Скорую, вернули пальто, что-то спрашивали, а Львович будто не включился – в его памяти крутились сумбурные события сегодняшнего дня.
– Как вы их нашли? – спрашивала полиция.
– Я не искал, кошка привела, – говорил ошеломленный профессор, рассказывая о себе, о приключениях вечера и показывая билет из Москвы, свои рисунки и письмо Антона.
Его рассказ показался бы полицейским путаным и странным, если бы непожилая дама и менторски сказала: «Наша Бастет и не это может, это же ее любимая кошка». На руках у нее грелась та самая Бастет и сверлила глазами полицейских. Спускающийся на болото апрельский туман как будто предлагал прекратить распросы, подгонял всех идти по домам, оставив на завтра продолжение расследования.
Больше всего уставший, замерзший и грязный Сергей Львович хотел есть и спать, если позволит его беспокойная голова, привыкшая все анализировать и прогнозировать. Пожилая дама, та, что с кошкой, старушка вроде, а вроде и нет, похожая на учительницу на пенсии, говорит:
– Куда Вы пойдете? Приглашаю Вас, переночуйте у нас. —в ее взгляде Сергей Львович прочитал просьбу, а не просто вежливое предложение и согласился.
Ангелина Ниловна действительно была раньше учительницей истории. Она жила с семьей племянника в крайнем доме на улице Пограничников, около леса. По пути она успела рассказать вкратце историю города Заболоцка. В очень давние времена тут жили вятичи, это восточные славяне, и мещера, финно-угры. В округе остались их курганы.
– Чьи именно? – спросил дотошный профессор.
– И тех, и других, но они отличаются друг от друга. Потом возникло село на берегу реки, но оно было стояло очень далеко от дорог и торговых путей. Поговаривали, что в пятнадцатом веке жили тут разбойники. Потом вроде был монастырь, но его разрушили. Краеведы и археологи до сих пор не теряют надежды узнать о наших местах что-то интересное, даже раскопки проводят. Когда в сороковые годы построили железную дорогу и станцию, то стал развиваться промышленный город. Люди со всей страны приезжали. Одно время он был даже закрытым из-за военного производства. Сейчас город пустеет, молодёжь разъезжается кто куда. Вот и один из учеников Ангелины Ниловны работает в IBM программистом. Зато красивые места полюбились художникам из Москвы.
Аненков представился художником, глядя на коллекцию репродукций Билибина на стене гостиной. Соврал. Но жребий брошен— единожды соврамши, уже не ученый. Но это не важно. Кем бы он теперь ни представился, в этом доме его бы приняли все равно очень тепло.
– Рассказать Вам про девочек Вами спасенных?
– Да, очень интересно
– Это Маша, моя бывшая ученица непутевая и несчастная и ее маленькая Ольга, которую она упорно называла Лялей. Как можно? Ляля – это же кукла, сверток. Нельзя так будущую женщину называть. Даже для семнадцатилетней мамочки это непростительно. У Маши материнские чувства очень сильно проявились, но ей не доверяют. Хотят лишить родительских прав. А я вижу в них шанс на спасение ее души. Машенька выросла в семье будто образцовой, самой состоятельной в городе. Но так сложилось, сбегала, бродяжничала. Тому было много поводов и причин, о которых она просила не говорить, чтобы не было хуже. От кого забеременела – скрывает.
– Почему она ночью на болоте оказалась?
– Думаю, скрывалась от опеки, – тревожно вполголоса, как будто опасаясь о чем-то проговориться и ища союзника одновременно, сказала Ангелина Ниловна.– Однажды ее обвинили в употреблении запрещенных препаратов, подбросили. Это неправда, я точно знаю. При всей ее странной татуированной внешности, она не употребляет ничего подобного.
– Куда же она хотела убежать, почему через болото?
– При мне она мечтала уехать в Москву и жить там. Ей исполнится восемнадцать через полтора месяца. Собиралась работать и поступить в педагогический или учиться на психолога. Насчет родителей меня не спрашивайте – рассказывать не буду. Пока не буду. А почему мне ничего не сказала, бедой не поделилась и очутилась на болоте – я не знаю. Возможно испугалась чего-то.
– А что кошка? Удивительное животное.
–Это моя и Машенькина кошка. Представляете, она даже присматривала за ее доченькой—«человеческим котенком», как мы с Машей шутили. Мария эту кошку котенком из того же из болота вытащила и принесла домой. Кто-то топил, похоже. Родители хотели выкинуть, так она мне котеночка притащила. Любили мы с Машулей травяные чаи гонять и болтать, кошка урчала. А потом и девочку свою, что вы на руках держали, приносила частенько. Кошка сначала была черненьким чертиком, лохматым, неуклюжим, глаза разные. Кто бы мог подумать, что вот такая красавица вырастет. Машенька решила назвать ее Бастет. А потом…Потом пошло- поехало. Это целая история, дорогой Сергей Львович.—Учительница помолчала.– Я не знаю что делать. Кое -что пугает и возмущает ее в родителях, поэтому она такая. Мне так и не удалось точно выяснить что. Знаете, если вам коллеги что-то поведают про ее отца, художника Мамонтова, навестите меня, пожалуйста, расскажите. Мне ведь Машенька очень дорога стала. Смотрю на нее как мать на сироту.– Ангелина Ниловна тяжко вздохнула, – нет, скорее как бабушка на внучку с правнучкой.
– Ангелина Львовна, что теперь будет с Машей и Лялей, как Вы думаете?
– Стоим мы слепо пред Судьбою, Не нам сорвать с нее покров, писал Тютчев, – Ангелина Ниловна боялась предположить, – буду помогать, там увидим.
Пригласили ужинать. Сергей Львович уж давно проголодался, его познабливало от перенесенного и услышанного. На ужин ее невестка приготовила очень вкусную печеную рыбу по-ростовски. Они уплели ее с картошкой, солеными огурчиками, квашеной капустой и соусом чатни из местных яблок. Ели, обсуждали тонкости приготовления блюд и Аненкову казалось, что так вкусно и обильно он никогда не трапезничал.
–Давайте теперь чай пить из первых трав, сегодня собрала – медуница, хвощ, мать-и-мачеха, березовые почки. И с медом. Как бы вы не замерзли сегодня, Сергей Львович, после моего чая станете здоровее чем были.
На столе появились несколько чайников, сахар, сливки, мед, сушки, баранки -челночок и давно забытый Аненковым сорт конфет «Кавказские». Он смаковал их и вспоминал как студентами возраста Машеньки или его дочки Саши покупали такие конфеты в сельском магазине, когда были в колхозе на уборке свеклы. Вкуснее этих кавказских были только лимонки, но девчонки больше любили кавказские. Да других почти и не завозили.
– Очень нравится ваш Заболоцк, – мурлыкал Сергей Львович, а глаза его уже слипались, и он даже не запомнил как его сопроводили спать в мансардную комнату, которую не разглядел. Он засыпал под мурчание Бастет, но это не точно, может ему почудилось.
Глава 3. Долгое утро
«Я проснулся или еще сплю? Почему так трудно дышать? Я умер? Нет, но сон продолжается, я его вижу» – Аненков очень хотел записать все ночные видения, и досмотреть их, понять, где он находится, но не мог сделать ни того, ни другого, ни третьего. В какой—то момент, будучи одновременно во сне и наяву, он был не в силах пошевелить или вздохнуть. Лишь гнетущая тишина сонного пространства, прорезаемая громким тиканием механических настенных часов, ощутимая прохлада воздуха и приятная свежесть постельного белья из яви да остатки видений и отголоски шумов, звон кузницы из сна, от которого он, возможно, и проснулся. Оцепенение такое, что не можешь пошевелить ни одной мышцей, натруженной вчера, не в силах даже открыть глаза и дышать полной грудью как положено наяву. Это сочетается с жаром в теле, вкусом только что съеденного во сне сладкого плода, ощущением прикосновения к рукам теплой шерсти дикой кошки, похожей на гепарда, которую гладил в сновидении. Неясно, где ты есть, придавленный семипудовым грузом и подвешенный в воздухе одновременно.
«Летал! Последний раз это было… уже даже не помню когда. Я умер и лечу в рай?» – он сию минуту не понимал, находится ли внутри сна или смотрит не него как кино, которое можно записать, дописать или переписать. «Не исключено, что я еще сплю. Но руки будто парализованы, как и все вокруг. Темно и только остатки видений уже ускользают в навь. Значит сплю, но сюжет не окончен», – его состояние показалось ему блаженным, не хватало одного – ему не удавалось рассмотреть лицо царственной дамы из сна.
Во сне он сначала увидел себя персонажем этого цветного сказочного действа и имел бы право рассказывать историю сна от первого лица. А потом превратился в бесстрастного наблюдателя. А потом стал той самой августейшей особой, незнакомкой, героиней невероятно живописного сюжета. Цвета и пространство неуловимо искажались в зависимости от перемещения в них. Увиденное казалось ожившей давно знакомой картиной или несколькими одновременно, но распознать их было невозможно, определить время ее действия и создания тоже, впрочем, они не должны были совпадать, это же сон, а не музейный артефакт, нуждающийся в атрибуции.
Аненкову, как некогда в детстве удалось возобновить и сон, и полет, прокрутить кино – и горы, и водопады с купающимися девами, и кошек диких и послушных, и даму, с которой ели плоды инжира, но разглядеть лицо так и не удавалось. Он помнит усилия, как старается убрать волосы и вуаль от ее лица. Все безуспешно. Вокруг шум и гам старинного города – бьют часы на городской ратуше, стучат молотки по наковальне, подкованные копыта лошадей по мостовой. Он вполне осознанно, маневрируя, осторожно летал вокруг дамы, чтобы отгородить от вуали лицо и шикарные каштановые волосы. Он кожей ощущал мягкие прикосновения волос и шелковой вуали на руках. Но тут же налетал ветел и мешал открыть ее лицо хотя бы на четверть. Это вглядывание, всматривание, охота за образом напоминало разглядывание незавершенных лиц на обожаемых им эскизах Рубенса. Похоже, но с совершенно другим чувством он пробовал увидеть лицо демона в картине Врубеля.
Ночь. Часы пробили три часа. Точно так же, как некоторые минуты назад во сне звучали удары молота на кузнице. Если у вас были или есть такие древние часы с боем, вы понимаете, что они – как человек, как член семьи, с которым необходимо терпение и с которым тоже надо уметь взаимодействовать – они могут помочь и проснуться, и уснуть.
Тело вынудило своим нытьем вспомнить вчерашние подвиги и всю цепь событий, приведших в это место. Оно, напомнило профессору о том, что тело у него есть. Оно болит, оно тяжелое, оно, наконец дышит. Он давно не придавал значения своему собственному телесному существованию. Желание понежиться по-кошачьи чуть не пересилило острую потребность записать ускользающий сон – это мнимое пространство, которое быстро-быстро сворачивалось, детали размывались, терялась последовательность всех событий. Сон забывался, время стирало его тысячекратно быстрее, чем забываются реальные счастливые моменты, в миллион раз быстрее чем забываются трагедии реальной жизни. Сон ускользал от него как ночь на рассвете.
Он черкнул в блокноте – «горы низкие, перспектива, даль и туман, огромное дерево на горе, под ним царь, водопад, купаются девушки, царица идет по горе к царю, золотые кубки, инжир, золотые амфоры и кувшины, гепард подошел, глажу, движение, жизнь, туман рассеялся и полетели над, не видно лицо, вуаль, волосы, кузница и звон». Сергей наш Львович подумал, что быстрее было бы зарисовать ускользающие видения карандашом, но не получилось даже приблизительно. Не сказать, что его очень сильно это удивило – сны запечатлеть ему никогда не удавалось. Он удивлялся якобы запечатленным снам других художников, не верил. Считал осознанными фантазиями на тему снов. Впрочем, соглашался, в чужой сон не залезешь, может и правда они так видят. Рисуя, он опять засомневался – со стороны кого он смотрел этот сон и кто такие все эти фантомы, глазами которых он видел происходящее? Раздосадованный Львович начал злиться. «Наверно я совсем криворукий. Но и задачу я поставил странную – реалистично запечатлеть мнимое. Но тогда разве не иллюзия все искусство, разве оно может быть полным отражением реальности или только правдоподобием в какой—то мере?». Если с реальным пространством и фигурами он как—то справлялся методами привычной перспективы и приемами композиции, то иллюзорные миры не мог показать так, чтобы поверить самому. Не это ли доказательство объективности мира? Сальвадор Дали с его сюрреализмом стал для профессора расчетливым и логичным, композитором, прекрасным, но лукавым артистом.
Возможности сна невероятно любопытны были Сергею Львовичу, хотя это было очень далеко от его профессии. Обожал изучать стройные мысли Флоренского о малоизученных, предсказательных возможностях сна7. И весьма продуктивно пользовался легендарной методикой Эдисона8 для решения своих исследовательских задач. И не исключено, что в искусстве таких задач не меньше, чем в программировании, математике или физике. Но если бы он не испытал сейчас столь сокрушительное фиаско в рисовании сновидения, то вряд ли задумался бы об этом.
Зато вчерашние лесные зарисовки вызвали приятные воспоминания и даже понравились ему. Понятие «увидеть сон» включало, похоже, в себя гораздо большее, чем увидеть картинку, визуальный след того, что происходит в мозге ночью. Картинку можно было бы нарисовать приблизительно, обобщенно, а потом уточнить. Сон не удавалось передать. И все—таки неловкие зарисовки моментов сна уже превратились в раскадровку, но это чуть больше выражало его ощущения, только и всего. Львович уже почувствовал себя в привычном тупике перед тем, как начать новое исследование. Эта же хватка. Только в другой области. Только в своей профессии он многое знал или интуитивно чувствовал, а тут был как практически чистый лист бумаги.
Окно стало светлеть. Львович набрал в поисковике «Рубенс картины» и принялся искать картину с недописанным лицом девушки, которая никак не выходила из головы. Рубенса он не любил, но почитал и часто подолгу разглядывал его картины. Художников, чей интеллект и интуиция, мастерство и смелость, происхождение и предприимчивость были одинаково высоки, совсем немного в истории живописи. Он искал что-то, сам не понимая, что ищет, замечая аналогии искусства шестнадцатого и семнадцатого веков со стилистикой его сна. Обращал внимание на сюжет, пространство, колорит, часто сочетающий нежно розовые, теплые бежевые, благородно зеленые с контрастными островками красного и небесно—голубого цвета, крепко связанные как в готическом витраже низким звучанием темных тонов.
Вдруг показалось, что он снова погружается в тот сон. Знакомый колорит наполнил комнату, он реально стоял перед глазами. То ли был, то ли мерещился. Розовые телесные оттенки наполняли комнату. Розовый свет и зеленоватые тени. Ощущение восторга и подозрение что он в другой реальности, сходное с внезапным переживанием присутствия при божественном творении. Окно и комнате стали насыщаться оттенками розового, и ошалевший от увиденного Львович осознал, что это восходит солнце. С неожиданной для себя прытью он откинул два теплых одеяла, встал и распахнул окно мансарды.
В окно вплывал розовый туман и утонувшие в нем звуки. Было ощущение, что он стоит над розовым океаном, меняющим свои оттенки от холодных к тепловатым.
Дом Ангелины Ниловны немного возвышался над лесом. Не так чтобы с высоты птичьего полета, но гораздо дальше, чем с просто двухэтажное строение. Сейчас были видны деревья, что ближе пяти метров, а далее – бездна. Но бездна, радующая взор, вызывающая желание выпрямиться и взлететь над ней и это придавало ощущения сказочности происходящего.
Взрослому человеку любых лет на самом деле тоже хочется в сказку. Но попасть туда с возрастом труднее и труднее, потому что знаешь, что это не волшебная страна и ты не король на башне замка над своими владениями, и не маг над бездной, а смотришь из открытых окон мансарды старого деревянного дома на то, как светится изнутри конденсат водяного пара в лучах восходящего солнца, розовых потому, что до глаза доходит именно эта часть спектра. Долой объяснения, пусть продлится восторг. Пусть розовый туман как просыпающийся дух, родившийся на холодном болоте, поднимается неслышно над лесом, увлекаемый ввысь неведомой силой.
Он прислушался к своему учащенному дыханию, к сердцу – волнение стихало. Ощутив себя на крае бездны, завел руки за голову, выпрямил спину, вдохнул утреннюю свежесть. Эта туманная бездна была безгранично зовущей в новые впечатления, давала надежду на удачу и торжество справедливости.
Сергей Львович ненадолго позволил себе побыть мечтателем, и по привычке начал планировать. С начала он обязательно напишет этот вид и туман. Вот повторит забытые основы, приглядится к работам коллег, вспомнит. Работать будет много, благо есть желание и время. Потом приведет в порядок организм, ведь художнику нужно много сил – задумка это одно, но довести до конца нужна и выносливость, и умение быстро, на подъеме и почти в экстазе работать физически. И вот, наконец, вот он напишет портреты —сначала матери, потом, своего учителя, потом скорее всего Наденьки из библиотеки. Он перебрал многих знакомых, потом исторических деятелей, потом в мечтах своих стал совершенствовать технику и мастерство и потом взялся за сюжеты, серии работ, не ощущая ограничений ни во времени, ни в возможностях.
Тем временем туман рассеивался и становился белее и светлее, прозрачнее. Он очень медленно обнажал сначала деревья , потом звуки, и запахи. И наконец, проявилось во всей наготе радостное утреннее пение птиц, провозглашающих и приветствующих солнце. Переживание, сходное с впечатлением от картин Леонардо охватило Аненкова. Сфумато, то же самое неуловимое движение мерцание образа, тот же принцип в технологии живописи, что само природное явление – слои полупрозрачного воздуха или тумана аналогичны слоям лессировок. Наверно, Леонардо придумал свое гениальное сфумато, наблюдая за похожим явлением. Туман представился стал объемным, колышущимся и светящимся занавесом. Медленно, но ощутимо он раздвигался план за планом, сцена за сценой. Как будто сам Творец давал урок световоздушной перспективы. Гений Леонардо этот урок сделал понятным для всех. Шаг за шагом показывается новая деталь леса и новые запахи – от морозной свежести в сочетании с древесными ароматами до ароматов свежих трав и распускающихся почек. И вот уже взошло солнце и совсем в праве своем они птицы хором возвестили утро, им вторили петухи в округе, гуси, залаяли собаки, пастух вновь погнал свое стадо через лес. Футуристическое и одновременно архаическое зрелище с признаками сфумато, называемое просто «туманное утро», завершилось, стремительно превращаясь в дневное кьяроскуро9 с его четкими границами и читаемыми формами.
«Ничто не вечно, постоянны лишь изменения, но и это не точно», – острил профессор Аненков, переходя от лекций по статике к динамике. Как легко было смеяться над умозрительной шуткой. Так непросто было осознать, что единственно постоянная вещь в мире – это изменения. Они происходят так или иначе, неизбежно и это невозможно отменить. Но как подружиться с той силой которая их движет? Как выбрать точку приложения этой силе?
Аненков почувствовал потребность оглядеться в комнате и сделать гимнастику. Если бы день закончился сейчас, Львович был бы благодарен за это долгое утро и счастлив, может и впервые за несколько лет так необыкновенно счастлив. Рассвета было достаточно для блаженства.
Тем временем зазвучала жизнь в этом доме. Уже кто-то пошел на кухню. Снизу потянуло кипяченым молоком и какао, доносился мерный стук деревянных, металлических, керамических предметов. Он был живой, не похожий на тот пластмассовый и механический, что он видел в кулинарных передачах. Звук передавался по лабиринтам дома, через деревянный потолок и стены, тихо множился. Хозяйка готовила вручную, не включала приборы, стараясь никого не разбудить и это составляло цельную музыку вместе с проснувшейся природой. Так ценны дома, в которых оберегают покой друг друга, давая возможность думать и слушать тишину. Тут даже дети ведут себя тише и задумчивее.
Его задержало сообщение от Антона: «Доброе утро, Сергей Львович я наслышан уже обо всем. Узнаю ваш стиль! Вы сможете прийти сегодня часов в одиннадцать в мастерские по адресу улица Пограничников дом шестьдесят? Буду Вас ждать. Вернисаж уже завтра. Приходите если сможете. Напишите, если нужна моя помощь». Аненков сразу ответил: «Доброе утро, Антон! Спасибо за приглашение! Я не могу дождаться когда доберусь до вашего храма искусства»
И вот уже он, готовый к новому дню, спустился в столовую, комнату, которая была почти совмещена с кухней. Его ждал завтрак, приготовленный Ангелиной Ниловной. Они с внуком встали раньше всех и куда-то собирались. Сергею Львовичу не терпелось рассказать подробно про то как спалось, про розовое утро и туман, про то, что у него случилось странное пробуждение и сон смешался с явью.
– Это Суседко хулиганил, домовой наш. Придушил чуток, – Сергею Львовичу показалось, что Ангелина Ниловна так шутит, перемигиваясь с внучатым племянником Васей лет шести.
– Вы верите в домового? – удивился профессор.
– Сергей Львович, как учитель истории и обществоведения, я должна позволять быть разным вариантам объяснения.
– Да, Ангелина Ниловна. Вид проекции зависит от направления взгляда!
– Скажите, пожалуйста, а туман опускался или поднимался? – спросил Вася, с важным видом откусывая бутерброд с маслом и сыром.
– Поднимался.
– Вёдро будет, – важно сообщил Вася
– Это ясная и сухая погода, – уточнила Ниловна, – Главное – не забывайте, мы навещаем вечером Машеньку, ангела моего. Если придете прямо в больницу – спросите о посещении Марии Васильевны Мамонтовой. Запишите, а то забудете! На демонстрацию идете первомайскую? Мы ходим! Сколько знакомых увидишь, радость, все нарядные и красивые. Новости, радости, горести – всем делимся. Глядишь помогаем, жизнь не стоит.
– Спасибо, но я уже договорился с Антоном, ему нужна моя помощь. До обеда я иду в мастерские. При других обстоятельствах я обязательно присоединился. Хорошо бы так и в искусстве жила традиция – «Постоянство – залог успеха», – вежливо отказался Сергей Львович, чувствуя себя школяром перед строгой Ангелиной Ниловной.
– Это в ремесле, не в искусстве, «Постоянство – признак мастерства»! И дело не в традициях. Искусству больше фраза Гераклита подойдет «В мире нет ничего постоянного кроме вечных изменений».
Глава 4. Успеем, сынок
Маленький персональный ад мучил Антона Голутвина все восемь лет с момента увольнения из вуза. Он считал себя почти предателем. Впрочем, другого бы может и не мучил бы, но Антон с большим пиететом относился к Сергею Львовичу Аненкову, единственному человеку, знаниям и опыту которого доверял на сто процентов.Больше чем отцу, Александру Евгеньевичу Голутвину.
Отец тоже много значил для Антона, но с профессором Аненковым были связаны самые важные, самые большие достижения в жизни и самые смелые мечты в науке. Правда, так и не свершившиеся. Он сам оборвал свою научную карьеру. Старт был впечатляющим – статьи, победы в конкурсах и вдруг – прощай, дорогая кафедра. Маневры оказались неудачными, а отец такой финал назвал позором. Объяснять Антон ничего не стал.
Александр Евгеньевич работал главным инженером оборонного завода в Заболоцке. Сумел сохранить производство во время конверсии. А теперь, в свои шестьдесят восемь, руководил столярными мастерскими, обеспечивал художников багетными рамами, мольбертами и этюдниками, разными принадлежностями. Проектировал сам, с помощью Антона и с учетом пожеланий художников. Качество их было его гордостью, сбыт налажен и доходы, вполне радовали. Не так просто было переделать заводской цех в целый комплекс с галереей, столярным и мебельным цехами. «Антош, бросил бы ты свои художества, занялся бы мужским делом. А там, глядишь, возглавил бы производство, потом расширил. Пора уже остепениться-то. Эти твои картины – занятие для сытых времен, а они не вечны», – уговаривал он сына.
Одно дело – отцом восхищаться, стараться быть достойным, а другое – слушаться. Антон тоже всегда добивался результата, но в своих затеях. Алина, подруга, любила своего «трудоголика» Антошу, поддерживала. Но устала. Все замечательные затеи до финала приходилось доводить ей. Она исправно сделала последнюю их выставку, прощая гениальному любимому все его выходки. Стоило увидеть финиш – он терял интерес к делу, поручал все ей, увлекался новыми затеями. Так и в последний раз – бросил ее с художниками и уединился писать новую серию картин. А то же волна вдохновения уйдет, надо же ловить ее, ловить состояние потока. Это ж надо понимать. И она понимала. Понимала —понимала, да и перестала. Так и уехала она, пообещав вернуться, но не точно.
Решительность, с которой Антон пригласил профессора Аненкова на вернисаж, он сам не полностью осознал. Ведь минула вечность, много вода утекло с тех пор как Антон защищал под его руководством диплом. Другая жизнь, ее отделяет пропасть. Не сопоставимы творческие метания и размеренная, уверенная, спланированная научная работа. И только изостудия, в которую они с Аненковым вместе ходили по выходным осталась связующей нитью между «вчера» и «сегодня». Впрочем он вспоминал и программирование иногда, очень редко. Делал мелочи, маленькие приложения вроде каталогов или баз данных этикетажа. Восемь лет назад вся жизнь крутилась вокруг исследований с папой Сережей – статьи, конференции, лекции, семинары. Сейчас будто бы все хорошо – собственные живопись, выставки, продажи. Разнообразные проекты всё время навязчиво роились в голове Антона. Не успевал закончиться одни – начинался второй. Но все восемь лет Антон не прекращал мысленных разговоров с Сергеем Львовичем как с гуру обо всех своих проектах. Он представлял, как тот терпеливо, тонко и уважительно замечает и достоинства, и недостатки. Говорил что-то вроде своего обычного «начнем с грамотной постановки задачи, коллега». Антон даже стал верить в телепатию.
Cудьбу учителя Антон отслеживал. Зачем? Тревожно было, виноватым себя чувствовал и готов был если что подставить плечо. Главное – решиться это сделать. Профессор не вёл ни страниц в соцсетях, ни блогов. Поэтому Антон регулярно следил за новостями института и кафедры, как следят за биржевыми сводками. Позвонить не решался. Зачем звонить, если хвастаться нечем, а разговаривать об своём уходе из института страшно. Да папа Сережа и не поверил бы этой странной истории. Признаться, что он хакнул переписку их кафедрального руководства? Поступил против собственных правил и полез читать чужие письма. И как потом ему в глаза смотреть?
«Просьба не привлекать к работе посторонних людей, так как данные исследования являются предметом моей диссертации и защищены авторскими правами» – требовал коллега он в то время, как именно у этому начальник Антона и привлек. Чтобы написать диссертацию какому-то мутному типу. Дело давнее, но не забытое. Он вскрытл переписку руководства, а потом сбежал с кафедры, не дожидаясь возвращения Аненкова с международного конгресса. И пусть его шок от прочитанного многое прощает, с тех пор его не покидало чувство вины перед Сергеем Львовичем. Папа Сережа, надо отдать должное, не расслаблялся, не оставлял без присмотра даже черновиков и уносил домой всю документацию по разработкам. Как будто знал, с кем дело имеет и розовых очков, как у Антона, у него уже давно не было.
«Да, именно в мае стукнет восемь лет после моего ухода, – посчитал Антон. И опять закрутились мысли-мыслишки: «стоило все-таки сообщить Сергею Львовичу что прочел или сбежал да и ладно». Никому не навредил, сам только закрыл дорогу себе и к научной степени, и к преподаванию. Может был бы уже кандидатом наук. Что с того, что я известный в Заболоцке художник и галерист! Художников и галеристов сейчас, как тогда инженеров, то есть как собак нерезанных».
После ухода из института Антон то продавал картины на Арбате, то писал картины для интерьеров, расписывал стены, автомобили, но в свою настоящую профессию возвращаться было больно.
Интеллект и по-отцовски деловая хватка сделали своё дело – жизнь наполнилась благополучием. Но Антон даже себе не признавался, насколько он несчастен при всей своей успешности. Никто не видел его грустным. Лишь Алина замечала, что у него всегда печальные глаза. Не сложилось с Алиной. Слишком больно она лезла в душу, слишком явно показывала недоверие. Антон считал, что любят его за легкость. Впрочем находились, кто за то же самое ненавидел. А жизнь гнала его вперед. И как только он переставал вращаться в своем чертовом колесе, кончалось все – и деньги, и проекты, и путешествия, о нем забывали люди.
– Жалеешь, что не остался на кафедре?– спрашивала мама, – И сколько же еще времени тебе нужно, чтобы перестать маяться и наконец найти то, что тебе действительно по душе.
– Мама, я всегда занимаюсь своим делом, – отвечал он, – все хорошо, мама.
Антон подошел к окну и увидел свое тревожное отражение в стекле. Он ненавидел периоды уныния, они все чаще повторялись и все реже он чувствовал прилив сил. Алинка ему биполярочку приписала как-то в шутку. Сейчас его опять покидала жизненная энергия, опять надо выуживать ее отовсюду – из новизны, из природы, из людских эмоций и одобрения. Отвоевывать из последних сил, со скрежетом зубовным. Но не хотелось даже выходить из дома. И если бы не вернисаж, если бы не приезд Сергея Львовича, он бы на все и плюнул, пились оно пилой. Вот и сейчас начался мысленный разговор с папой Сашей.
– Сергей Львович, но ведь есть же отсюда выход, из этой апатии?
– Антон, раскрой глаза – выходов столько, сколько у тебя степеней свободы! Вот смотри – белый лист бумаги на столе. Сколько у него степеней свободы? По столу елозить? Да, конечно. А если поднять со стола и подбросить? А написать или нарисовать на нем что —то достойное вечности?
– А не мусорной корзины, – мрачно добавил Антон.
– А теперь подумай, что человек многомернее листа бумаги, сложнее. Сколько у тебя степеней свободы – бесконечно много. Ищи, открывай глаза.
Сергей Львович однажды в ответ на фразу «из любого положения есть выход» сказал, что не один выход, а как минимум столько, сколько у тебя степеней свободы, и подбросил вверх лист бумаги. Теперь в студии Антон начинал с этого занятия по композиции и спрашивал: «Сколько у него степеней свободы?». Учеников охватывало чувство собственного могущества, когда они осознавали, что у обычного листа бумаги— бесконечное количество число степеней свободы. А что уж говорить о человеке…Подспорьем Антона был его ежедневник. Записывал туда идеи, в день штук по опять. Почти каждая запись начиналась так: «Я, наконец, понял, что мне по-настоящему надо». Вчера вечером он записал не идею, а фразу, которую так и хотелось завершить словом «аминь»: «Пусть с приездом папы Саши такая воронка событий закрутится, что в моей жизни все изменится. Да, надо признаться себе в конце концов, что я хочу строить дома, общественные здания и проектировать города. У меня есть проекты, но я в себя не верю. Профессор все расставит по полочкам, он знает, как подступиться к любому делу. Что я того, что я пробовал делать проект частного дома, пусть даже с подземным этажом? Это не то. Хочу доказать, что планировка дома, города влияет на жизнь больше, чем порядок в доме на состояние людей. Пусть профессор подтвердит».
И вот долгожданный момент скоро. Не спалось. Проговорил приветственную речь, прокрутил в голове предполагаемый сценарий встречи: «Сергей Львович спросит про успехи в живописи. Тут есть чем похвастаться. Он спросит, почему ушел тогда из института. Ответить можно уклончиво. Но лучше рассказать честно, даже подробно. И будь что будет. Если спросит про личную жизнь, есть ли семья. А лучше я буду больше вопросов задавать. Наших художников представлю, а то про себя по себя много рассказывать стремно. И вообще, возьми себя в руки, тряпка!»
Антон выпил воды и суетливо привел мастерскую в приличный вид. Достал чайник и мамины пирожки. Дверной звонок прозвучал резко, как звонок на лекцию.
– Здорово, коллега! Как интересно жизнь оборачивается! Постарел я? Узнать пока можно? – в коридор мастерских шумно вошел Сергей Львович со своей фирменной искренней и слегка насмешливой улыбкой.
– Сергей Львович, как же я рад! Здравствуйте, Сергей Львович! Проходите, Сергей Львович! Вот, смотрите как у нас тут все. У нас здесь двенадцать помещений. Активно работают тут девять человек. Но сегодня вряд ли кто-то еще придет. А моя мастерская в самом конце коридора. Сергей Львович, я до конца не верил, что вы приедеете. Спасибо, Сергей Львович, что вы приняли мое предложение…
– Антон, да не тараторь. Тебе спасибо, что пригласил. Ты вот молодой еще, наверно, не знаешь, как жизнь может так потрепать, что сам и не знаешь за что зацепиться. Твой вернисаж мне сейчас как глоток воды.
– Сергей Львович, что же мы стоим, проходите. Вот смотрите какая светлая досталась мне мастерская. С северной стороны, как надо. Далеко видно. Высоко, выше только небо. Из окна можно написать наш Заболоцк.
– Антон, вспомнилось как мы помещение изостудии выбирали.
– О, Сергей Львович, да незабываемо. А помните, как подрались за него с парнями из секции бокса.
– Забыл.
– Им любое годилось, а для нас важно было естественное освещение. Дом культуры наш институтский сказал самим разбираться. Боксеры решили силушку показать, не пустить нас в законную комнату. Ведь и в бокс и в изостудию ходил, меня потом переговорщиком назначили.
– Помню, договариваться ты всегда умел. Заводские приехали, ты сразу договорился о внедрении методики из диплома.
– Хорошее время было. Мы же неплохо зарабатывали на этих договорах.
– Да, неплохо, но недолго.
– Я помню, мы с вами три статьи выпустили.
– Одну из них до сих пор цитируют.
– Класс! Алинка моя не верила, что я программировал. Говорит, что ты, мол, такой неорганизованный, до конца не доводишь ничего. Не верю и все тут.
– Я ей расскажу как ей повезло с парнем, дети будут такие же умные.
– Потом, когда приедет, – Антон смутился, чуть не брякнул «если приедет».
– Женитьба – дело серьезное. Раньше думал, что выбор профессии важнее, сейчас не возьмусь рассуждать на эту тему. Не эксперт.
– Вы во всем эксперт, Сергей Львович.
– Эксперт сам-то – один как сыч, в разводе
– Простите.
– Да ну, ерунда,—сказал Аненков и подумал, что можно уже действительно об этом не страдать, – просто советы в этой сфере не самые полезные.
– Сергей Львович, я предлагаю выпить чаю или кофе. У меня чай есть разный, кофе из кофемашины.
Антон церемонно усадил профессора в элегантное невероятно удобное, обитое бархатистым материалом кресло:
– Как вам, кстати? Мой дизайн, между прочим. Анатомическое, с независимыми пружинами, регулируется по высоте и можно превратить в кресло-качалку. А можно посадить натурщика и писать портрет. Нравится?
– Отличное кресло. Дорогое, наверно. А ты и в дизайне себя пробуешь?
– Может это и дизайн. Я просто рассчитал его конструкцию. Оно эргономичное и анатомическое, а остальную красоту можно считать дизайном. В нем даже думается по-другому. Правда-правда. Это много значит. Представляете, если кресло так влияет, то все пространство влияет еще больше. Потом расскажу об этом подробнее. Смотрите как много места. Я тут сам пишу и с учениками занимаюсь. Не только тут, есть еще галерея и школу искусств при ней. Но галерея моя далековато от центра, на окраине. Многие все-таки сюда ходят. Хорошая идея – давать художникам мастерские. Здесь, в Заболоцке, намного легче получить мастерскую, чем в Москве. Я успел за эти несколько лет, что мы не виделись, вступить в Союз художников. В наш, региональный. Вот мне и выделили эти апартаменты.
– Неплохо художники устраиваются. Инженерам и программистам бесплатных офисов и бюро не дают. Не податься ли мне тоже в художники? Не поздновато в мои пятьдесят? Дадут мне такие же хоромы?
Антон воспринял фразу как шутку, ему в голову не приходило, что Сергей Львович не смеялся, а наводил справки.
– Сергей Львович, нам не нужны подачки союзов. Построить свое – вот наш путь! У меня на этот счет есть вот какая затея…Впрочем, этого в двух словах не расскажешь, лучше потом. – Антон никак не мог решиться рассказать о своем заветном проекте. – А как вы чувствуете себя в этом кресле? Прошу вас, прислушайтесь к ощущениям.
– Нормальные ощущения, удобно, отдыхается. Дались тебе эти ощущения! И чай хороший, и пирожки – ум отъешь. Кресло весьма уютное.
– Вот, вы ощутили великую силу дизайна! – затараторил радостно Антон. – Это кресло – для особых размышлений.
– Антон, смотрю у тебя много литературы по архитектуре и дизайну, есть интерес?
– Да, я какое-то время думал стать архитектором. К тому же как куратору и галеристу надо. А как без этих знаний сделать хорошую выставку? Да и картину в интерьер не подобрать. Картина ведь имеет свойство влиять на пространство, согласитесь.
Антону стало легко на душе от знакомого легкого кивка и внимательного взгляда, неизменной манеры профессора, означающей одобрение.
– Отлично, Антон! Говоришь есть у тебя свой проект? Мечтаешь реализовать?
– Да, Сергей Львович. Но пока разрабатываю, так далеко не загадывал. Да и поддержат ли?
– Нет, конечно, кому нужен твой проект?
Антон опешил. Неужели и папа Сережа такой циник. Аненков продолжил:
– Не смотри так испугано. Никто не обязан поддерживать проект. Их испокон веков защищали. Если надо что-то посоветовать или помочь – спрашивай.
– Ну да… и точный расчет, а он не готов, Сергей Львович. Стыдно признаться, сам не уверен ни в чем, никак не доведу до ума, – Антон засмущался, расписываясь в своем бессилии.
– Ничего необычного, не хандри, и я тогда буду откровенен. Я ушел из университета. Точнее написал заявление об уходе, подпишут по завершении семестра. Научного кружка уже нет. Дипломников у меня нет. Аспирантов тоже. Это долгий разговор. Не хочу обратно, от души воротит смотреть на эти же лица. В Новый год умерла мама. Дочь взрослая, ей главное не мешать. Вот такое тотальное одиночество. Буду учиться жить по-другому. Лучшего занятия, чем живопись, я не придумал для себя, – Аненков говорил спокойно, тихо и внятно, с интонацией покорности судьбе.
Антон несколько секунд сидел в замешательстве, потом обрадовался, забегал, в голове уже пронеслись мечты и планы. Вот он уже у себя делает выставку работ Аненкова, а вот Аненков его консультирует по проекту…Понеслось.
– Антош, ты гостиницу, говоришь, снял. На сколько? Надо снять квартиру месяца на три минимум.
Антон спохватился. Чисто бытовые и простые вопросы ему давались сложно.
–Я снял гостиницу только на две недели, – промямлил он и тут же спохватился: – Но я всё устрою! Очень хорошо!.. Вернее, сочувствую, но….
Антон смутился своей нестройности мыслей, путанице слов. Стало стыдно за свою неорганизованность. Хотел признаться во многом, не хотел чтобы это было похоже на исповедь или прием у психолога. Сейчас он то то в эйфории от своих успехов, то ощущает себя бездарью и фриком. Страшно стало Антону, что вдруг он напрасно питает надежды на то, что придет Учитель, поставит все на свои места и все ему как юноше с горящими глазами, станет в жизни понятно.
– Так, Антон, ничего особенного не надо. Пожалуйста, просто расскажи где лучше снять жилье, может знакомые есть, кто сдает недорого.
– Сергей Львович, спасибо. Я сделаю всё что смогу, поверьте. Я вытянул счастливый билет, сорвал джекпот, сегодня жизнь дала мне, разгильдяю, еще один шанс. Нет, это все не… Я счастлив, что вы здесь, мой Учитель. Я не лентяй, поверьте, и не предатель. Вы, наверное, сомневаетесь из-за моего внезапного ухода из института восемь лет назад. Я все расскажу. Все непросто…
Страшно было смотреть, Антон так забегал, что он на скорости неловко чуть не влетел в окно. Пришлось покидать шикарное кресло. Аненков поймал снующего радостного Антона за руку.
–Стой, Антон! Что непросто, я догадываюсь. Жаль, что ты принял решение так быстро, можно было разрулить. Вожжи упустишь, не скоро изловишь. Вернемся в настоящее! Какие у нас шансы сегодня? В науке какие? В искусстве? Ты поделишься, к слову, рабочим местом в своей мастерской?
– Почту за честь.
– И второе – перейдем на «ты» ? Без Львовича, просто Сергей.
– Второе – непросто. Вот если бы сейчас сюда Эйнштейн приехал, что мне с ним тоже по имени и на ты?
– Разумеется. Он бы обхохотался, услышав «Альберт Германович», —Аненкову удалось рассмешить Антона, —Надеюсь, ваши художники примут в стаю.
– Со всеми познакомлю. Художники добрее и живее прочих. Мастерские у нас хорошие. Со старыми традициями. Живем дружно, пишем часто вместе натурщиков, натюрморты, на пленэры выходим вместе, даже праздники празднуем семейные. Всегда есть к кому за советом сходить. Говорят, что в столичных мастерских уже не так. Есть, конечно, и у нас своя специфика. Пьющие есть, сумасшедшие и слегка фанатичные.
– Бабуся на входе в подъезд ввела в курс дела, – с улыбочкой кивнул профессор.
– Не с Бабы Любы стоило бы начинать знакомство, но ладно уж. Она фрик опасный. Она бомбит управляющую компанию и Роспотребнадзор письмами о наших якобы нарушениях. Поэтому проверки у нас еженедельные, приходится ходить с документами. А то очередная проверка выявит, например, что художник задержался в мастерской, а потом до обвинения в нецелевом использовании, мол, живём тут, а не работаем. Николай наш на волосок до изъятия мастерской был.
– Представил я каково это – быть Бабой Любой, – с театральным сочувствием сказал Анненков.
– Да уж, работенка у нее много. Не дала повесить на здание табличку о том, что здесь работал известный художник-классик. К тому же поговаривают, она – осведомитель одного нашего коллеги. Не удивляйтесь. Отличный художник, но очень подозрительные у него связи. Копирует старых мастеров и не только, реставрирует иконы и картины задорого, очень профессионально. Большие деньги у него крутятся. Неудивительно, что Блюба шпионит для него. Да и сам он всегда как черт из табакерки появляется рядом. Тихо ходит, неслышно.
– О, какие у вас тут испанские страсти. Я еще наслышан о Мамонтове, отце Маши, которую мы с кошкой вчера вытянули.
– С ним стараюсь не общаться, но придется. Когда Вы на него на вернисаже посмотрите, сами все увидите. Он тут давно не был. Хотите я свои работы покажу? Кроме тех, которые повесил в галерее.
– Правильная идея.
– Их можно назвать интерьерными. Хвалят, восторгаются, Сергей Львович. Мне, конечно, выгодно и приятно, но я сам-то прекрасно знаю свой настоящий уровень. На уверенную крепкую четверочку. Буду благодарен Вам за объективное мнение.
Антон стал рассказывать о сюжетах, которые либо нуждались в авторском объяснении, либо зритель мог включить свою фантазию. Они были похожи на коллажи фрагментов из разных мест, времен, даже эпох. Он тонко чувствовал исторические стили и его работы прекрасно сочетались с соответствующими интерьерами. Сергей Львович решил ему сказать о другом.
– Антон, знаешь, что мне больше всего нравится у тебя? Качество. Культура письма высокая. Аккуратно написано, продумано. А то бывает так что и фактуры неуместные вылезают, местами трещинки, пожухлости. Интересно, учился этому?
– Спасибо. Наверно поэтому мои работы любят дизайнеры интерьеров. Учился, конечно. В нашем вузе. Я же технолог, химик, – с довольным видом ответил Антон, – мне легче понимать и художественные технологии.
– Антош, только уж очень бесстрастные, очень сдержанные твои работы. Попроси меня определить возраст художника по картине, я бы тебе лет шестьдесят дал. Эмоций минимум. Не разрешаешь себе проявлять чувства в творчестве?
– Сергей Львович, у меня не арт-терапия, я стараюсь добиться качества.
– Понятно.
– Ладно. Покажу вам работы, которые никому не показываю. Это сделано просто остатками с палитры. Иногда даже фузой. Это то, что мастихином снято с картины в процессе.
– Да помню я что такое фуза, Антош.
– Я это называю «бездумное». Алина называла «безумным». Просто фигачу безответственно. Не то чтобы ради экономии. Да правы Вы – эмоции выпускаю. Половину картинок потом выбрасываю. Иногда получаются вполне годные этюды на состояние. Иногда получается колорит интересный. Вот тут смотрите какое хулиганство. Можете назвать экспериментом.
Сергей Львович удивился:
– Как будто два разных художника рисовали. Мне эти нравятся, они по-своему интересны. Вот эта розовая туманность невероятно хороша. Напоминает мой сегодняшний вид из окна по настроению и колориту. Солнце встает и освещает все розовым, холодным, потом он становится светлее и теплее, потом устремляется вверх и рассеивается.
– Это у меня от натюрморта с пионами краска осталась – крапплак, оранжевый, изумрудная, синяя. Назвал условно «Марсианский рассвет». Оказывается такой и земной бывает.
– Утром в спектре видны холодные красные тона, А вечер если писать – надо писать в теплом колорите, вводить оранжевый. Это, Антош, я еще помню. Меня вечер в лесу сильно впечатлил. Смотрел и удивлялся, как будто в первый раз видел березы вечером. Увидеть в другом свете. Подозреваю, что мое состояние было необычным.
– Березы всегда теплого оттенка. Даже в холодном лунном. Теплее снега зимой. А вот, Крымова можете у меня почитать., – Антон в доказательство достал книгу с полки.
– Лет восемь я не писал маслом, мне еще придется хорошенько повторить, что такое теплые и холодные цвета и оттенки. Теперь надеюсь на твои уроки. По рукам?
– По рукам, Сергей… Львович. Поедете со мной в галерею? Завтра открытие, а у меня конь не валялся. Этикетаж и афиши хотя бы сделаю. Без Алины мне тяжко все это.
–Едем, конечно. Мне к четырем часам надо ненадолго с Ангелиной Ниловной сходить в больницу к Маше. Могу вернуться.
Город лучше смотреть пешком, но первый раз рассмотреть Заболоцк Аненкову пришлось из окна Антонова внедорожника. Поехали вдоль окраин. Первой доминантой в пейзаже увидели старинную кирпичную водокачку, так и не ставшую объектом наследия, рано еще. Потом в поле зрения стали доминировать черные деревянные покосившиеся сараи будто с пейзажей Левитана или фото Мещерина столетней давности, только большие и длинные. Их было очень много, они стояли близко друг к другу, создавая единое большое цветовое пятно, некоторые были обгоревшими. Как будто это был район, в котором никто не хотел жить.
– Антош, а что за декорации к съемкам фильма про обезлюдевшие деревни?
– Это первые бараки строителей города. Теперь – выгодное место для застройки.
И действительно, стали появляться в поле зрения недавно выстроенные шикарные особняки, еще более респектабельные заборы, за которыми они торчали. Их ухоженные газоны с цветниками смотрелись нелепо среди городских ухабистых дорог и покосившихся фонарных столбов. Зато открывались прекрасные виды на долину реки и бескрайнее поле с зеленеющими озимыми. Где —то за бескрайним полем небо соединялось с землей. Вдоль такого вида было приятно ехать и ехать. Вдруг— высокий забор, бетон, колючая проволока.
– Резкий переход, не налюбовался рекой. Что тут, предприятие какое —то?
– Сергей Львович, у нас тут зона. Тюрьма. Тюрьма тут – с основания нашего городка, – стыдясь за свой город, ответил Антон.
– Ух ты, я первый раз вижу зону. Иной раз думаю, что это там не самая плохая публика, – Сергей Львович, похоже, ничуть не расстроился от этой новости, как будто всю жизнь не преподавал в вузе, а с зеками общался.
Антон припарковал машину у здания бывшего дома культуры давно реструктурированного завода «Монолит-З». Но вывеска сохранилась, Аненкову это показалось удивительным.
– Вот она, моя гордость, «Галерея Монолит-З»! —Планировка старая, из восьмидесятых годов. Отделка – новая, моя.
– Где отделка, прости? Все серое, почти бетонное.
– Специально. Такой серый не отвлекает, идеальный фон. По весьма ощутимому запаху художественной краски было понятно, что многие картины на выставке были свежими, вышедшими недавно из-под кисти авторов.
– Давайте знакомиться с нашими художниками, Сергей Львович. Почти все участвуют в этой выставке. Я расскажу о наших талантах и гениях, это я умею. Я их отлично продаю, кстати. В смысле – работы коллег, галерея – для этих продаж. Мои продает Алина в московской архитектурной фирме. Любопытно, но они продаются очень неплохо.
Антон подвел профессора к портрету непримечательному по качеству исполнения, добротному. На нем был изображен мужчина средних лет. Мужественное лицо, сдержанная улыбка, открытый взгляд.
– Этот портрет, я всегда вешаю на главное место, так чтобы видно было и посетителям и на фото в репортажах. Дань памяти другу моего отца Он спас все это от пожара, а позже погиб. Его имя Константин Иванович Баймаков. Благодаря ему остался завод, пусть и производство совсем другое. Многие люди на нем до сих пор работают, не увольнялись. Это здание Дома культуры тоже спасено. Иногда мне кажется, что он до сих пор нас ограждает от бед. Недавно меня привел сюда ночью. А было так: что-то меня подбросило с кровати, сон приснился страшный про галерею. Накинул спортивный костюм – и сюда. И мороз не страшен был. Приезжаю, а у меня обогреватель включен на полную, проводка уже тлеет. Напряжение в сети ночью ведь скачет. Если бы не приехал, или даже на полчаса позднее приехал – пожара не миновать. Если бы не он, то, возможно, этого всего… – Антон обвёл рукой помещение, —не было бы. Это целая история, Сергей Львович.
– Автор портрета – ты?
– Да, но это по фото портрет, получилось не так как хотел. Поэтому не подписал. Хотел как-нибудь поймать Ивана, его сына, моего друга и с него написать с натуры. Но тому некогда, он следак. Как раз делом вашей Маши занимается.
– Хороший парень, запомнился.
– И вот начало выставки, смотрите. Это вот работы старейшего нашего художника Степана Григорьевича Кулика. Ему уже скоро восемьдесят. Художники обычно довольно долго живут. Пишет пейзажи Заболоцка и Академической дачи, что в Тверской области. Он преподает в нашем художественном училище, требует, чтобы я его работы при входе показывал, а то отказывается участвовать. Кое-что о живописи от него я тоже узнал, но сейчас, честно говоря, избегаю советоваться. Повторяется, ничего нового, цитирует сам себя, заранее знаешь, что скажет, только время терять. А то еще и обложит твою картину так, что начинаешь сомневаться в своей дееспособности. Цены на свои картинки он ставит высокие, но они не продаются, только маленькие этюды. Продажи его, пенсионера, будто и не волнуют. Говорит, оставит городу художественное наследие, и в этом читается: «Вы за это должны быть мне благодарны». Ага. Народ шутит, что каждый кулик свое болото хвалит и что после его смерти надо готовиться к туристическому буму, ведь в город приедут куликоведы и будут изучать, где кулик жил, что ел и как размножался.
– Злой ты, оказывается, Потешаться над фамилией – дело не хитрое, – Аненков неодобрительно глянул на бывшего дипломника.
– Да поругался с ним вчера. Расстроился. Вы, Сергей Львович, не подумайте, что я глумлюсь над несчастным. Просто обманываются ученики его, а потом уходят из профессии, иногда очень талантливые. А это все он! Заманит, увлеченный такой, а потом сначала немного, том больше, а скоро так хаять будет, не захочешь возвращаться. Как будто он тебя ненавидит так, что отравит. Студиозусы ведь чувствуют эту враждебность. Как у него учатся, не понимаю. Самое неприятное в нем – его вытребеньки. Прицепится, начнет тебе доказывать банальную истину, а когда согласишься, говорит, что, мол, слава Богу, я вас научил, и теперь, когда вы мне так благодарны, будьте ласковы, подпишитесь на мой канал, купите хоть открытку и тэдэ и тэпэ.
– Да, бывают такие, – вздохнул Сергей Львович, будто вспомнил такого, – Но это не единственное. Бывает так, что художник хороший, а преподавать не умеет. Беда в том, что этот—слепой. Не в смысле зрения. Просто слепой подражатель природе. Впрочем, талантливым подражателем быть – дело богоугодное. Для этого понять надо природу как творец. У него же нет собственной идеи, мысли или чувства. Пусто. Лучше б ковры ткал, честное слово. Не дано, так не дано. Хорошо еще, если не требует от своих студентов в училище тупого копирования его манеры. Смотри, Кулик людей ни в один пейзаж не вводит. Мизантроп?
– Не знаю. Студенты им сначала очаровываются, а потом сбегают. Но на мизантропа больше наш Реставратор похож. Его работ тут нет, но на открытие придет с женой Миленой, она всегда участвует. Тот еще манипулятор – скажет что-нибудь двусмысленное и стоишь, думаешь: «Это похвала? Или меня оскорбили и надо дать в морду?».
– Реставратор – это профессия? А имя?
– «Реставратор» – это кличка, а еще он —«Черный ящик» и «Ришелье». Коллеги на скупятся на его идентификацию. Имя – Савелий Брониславович Еремин. Знаете художника Александра Яковлева? Так вот рисунки Еремина – почти копия. Его все считают гениальным рисовальщиком, а по мне так мертвецки гениальный. Наш Савелий делает дорогостоящие музейного уровня копии и реставрирует, консультирует как специалист по нидерландской живописи.
– Погоди, кажется я о нем слышал! Не могу припомнить что и где. А! Вспомнил! Пришел по приглашению на открытый семинар в Российскую Академию художеств, о судебная искусствоведческой экспертизе. Он там хороший вопрос задал про соотношение копии и подделки. Я не присматривался к нему. Оказывается он из Заболоцка. Как мир тесен.
– Не, они откуда —то из Сибири. Редко удается с ним поговорить, да и побаиваюсь я его. Он все помнит, до мелочей. Именно о технологии живописи от него знаю многое, тонкости разные. Я чаще с Миленой чаи гоняю, мы с ней на одной волне. Кстати, я с ней на «ты», так уж водится тут, хотя она тоже ваша ровесница. У нас нет иерархии. Вот, знакомьтесь – Милена Еремина, это ее картины. Что думаете?
– Очень хороши, но не знаю чем. Просто до души. Мистика. И конечно, все при них – и цвет, и композиция, ясный авторский посыл, и воздух, свобода, – Сергей Львович задержался около картин, – Хороши эти вот натюрморты. Невозможно назвать мертвой натурой. Это —тихая жизнь, стил лайф. Они удивительно живые, почти дышат. Дышат гармонией, теплом, счастьем. И тревогой немножко. А вот эту картину с необычными ракушками я бы даже купил, она мне напоминает кое-что важное. Это тоже ее пейзаж? Любопытно и чуть беспокойно, кажется, будто дерево за тобой наблюдает.
Антон с любопытством слушал Сергея Львовича.
– Вам не кажется. Она так показывает одухотворенность природы. Через антропоморфизм. Вот, смотрите – в очертаниях листвы можно увидеть лица, само дерево – будто с глазами. Даже просвет неба сквозь листву чем —то напоминает толстячка, раздувшего щеки, может и правда – здесь речь о стихиях. Мы любим ее картинки расшифровывать как ребусы. Их все считывают по-своему. Заметьте, как выбран колорит – сближенные по цветовому кругу цвета и тоновые различия в картине небольшие, все на нюансах, которые не всегда просто заметить и различить. Это создает тревожную взволнованность. Миленина живопись похожа на магический реализм, но она отрицает это.
– Почему отрицает? Что ей не нравится?
– Не хочет, чтобы ее расшифровывали. Она вообще не хочет популярности, панически ее боится. Такой характер. А стиль именно такой, попасть в него просто. Надо писать в сближенном колорите. Когда палитра ограничена и при этом нет противоположных контрастов. Например, все тона синего и зеленого. Можно границы сделать нечеткими как сфумато. Границы тогда трудно разглядеть, линии и пятна плохо идентифицируются. Так уж мы устроены – не можем разглядеть, значит бояться надо. Ожидаем необычного, мистического, неочевидного. А тут и рожи еще…
– Антон, вам вся кухня ясна и ничего особенного, а меня картина не отпускает, хочется рассматривать или даже приобрести. Нравится художник. Говорите, чаи гоняете, а меня познакомите?
–Не вопрос. У нас добрые отношения, особенно если подгадать, когда Реставратора не будет. Милена и сама уезжает иногда проводить занятия какие-то эзотерические, с арт-терапией, даже с «графической магией».
– А, так все-таки тема мистики и магии ей не чужда?
– Нет, насколько я понимаю – это имидж. У нее первое образование естественнонаучное, подробности не рассказывает, но владеет нашим глоссарием. И психологическое есть, дополнительное.
– А сколько ей лет?
– Около пятидесяти лет уже, не знаю точно сколько. Я не буду обещать знакомство, она не со всеми общается. Не поймешь почему. Надеюсь, Вам это не грозит. Не волнуйтесь, она адекватная, наш человек, и мы с ней даже о программировании говорили. Но имидж странный, на хиппи похожа. Мне кажется, что он ей не очень подходит.
– О, у нее и портреты прекрасные, психологический портрет, кажется. Это кто?
– Николай, Коля Ветров. Она написала его таким, каким он был лет десять назад и каким хочет его видеть. Комплиментарно изобразила, не точь-в-точь, хотя он исправно позировал. Он чуть не расплакался, когда увидел. Потом ее хотел запечатлеть с натуры. Она категорически отказалась. Тогда он – по памяти. Ему не запретишь. Идите сюда, посмотрим.
Антон повел Аненкова в лабиринт стендов, в самый дальний темный угол. Разглядеть картину в нем было непросто.
– Милена сказала, что тут она слишком похожа, чувствует на портрете голой и запретила выставлять. Потом они с Реставратором посоветовались и разрешили, то без своего имени. Назвали «Светлая печаль». Коля – удивительный тонкий мастер. Никогда не догадаешься, что без натуры писал, даже без фото, по памяти.
– Антон, мы можем эту картину снять на время, поднести к свету и рассмотреть?
– Конечно! – Антон снял картину и перенес ближе к окну
– Шикарно написано, видно, что Николай писал с любовью. Деликатно. Красивая ваша Милена. Очень интересно. А ты не знаешь, что еще она пишет? Море пишет?
– Пишет, – удивился Антон, откуда вы знаете?
– Предположил. Такие женщины пишут море, я убежден. Коля Ветров, похоже, гений и Милену любит. Отвечает она ему, нет?
– Сергей Львович, ну и вопросы у вас. Ну лечит Милена Колю своими шаманскими методами от алкогольной зависимости. А вы с какой целью интересуетесь? Не советую думать больше, чем о профессиональной дружбе с ней. Иначе Реставратор уничтожит.
– А что уже есть пострадавшие?
– Не знаю. Она повода не дает, вообще мало с кем общается. Только по работе, и то редко.
– Николая лечит, значит, за что —то ценит.
– Ну, Коля наш гений. Я в этом убежден. Посмотрите на его живопись. Правда, видно, что писал не очень трезвый, вам не кажется?
– Пожалуй, ты прав. Вот тут, на этом куске, он работал в полную мощь, видимо, трезвый, а вот тут – кое-как, кривенько, небрежно мазал «на отвали». Можно было бы считать это задумкой, но выглядит уже недоделкой, системы в этом нет.
– Но посмотрите, насколько это не мешает абсолютно управлять цветом и колоритом! Это же праздник! Ну на рисунок «положил», упрощает, конечно. Но рука настолько поставлена, что никогда не пропьешь. Утверждает, что писать надо пьяным, а поправлять трезвым.
Антон показал Сергею Львовичу к небольшому портрету в классических барочных тонах на темном теплом фоне и спросил:
– Кто автор?
Этикетки не висело.
– Рембрандт, и без охраны. – Львович обмер, глядя на произведение, которое облагородило бы любой музей.
– Он же, Николай Витальевич Ветров. Заслуженный художник, кстати. Это его старая работа. Мне о нем известно от дочери его, Ники, она тоже у нас работает и тоже пытается его из болезни вытаскивать. Ника говорит, что папаша в женщинах запутался, мол, в этом беда. Попробуй такого выдержи! Приходит в мастерские часов в пять и орет: «Трубы зовут, трубы горят, будет пожар». Потом через полчаса и опять объявление басом Шаляпина: «Трубы горят, будет пожар». Самые пугливые разбредаются и стараются впредь приходить на работу пораньше. Иногда он просто работает, любит когда тихо. А если он потом пьет, то Ника идет его скручивать. Поговаривают, что она его бьет. Слаб человек.
Львович промолчал, рассказывать «научному сыну» о своем печальном коротком алкогольном опыте не стал.
– Эту цитату из Фауста все до такого минимума сокращают, что от смысла остается лишь оправдание безволия. А полная версия как звучит, кто и кому ее говорит? Подожди, надо найти и зачитать. Говорит Бог Мефистофелю:
«Слаб человек; покорствуя уделу,
Он рад искать покоя, – потому
Дам беспокойного я спутника ему:
Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!»10
Николай, может и правда слаб, а алкоголь его совсем расслабил. Или горе его так велико, что не справляется. Милена-то что говорит?
– Она никому не рассказывает, что вытащила его недавно чуть ли не с того света. С недавних пор он в завязке и много пишет. Вот еще портрет = этот еще свежий.
– То есть он тут под присмотром. Либо Ника накостыляет, либо Милена отшаманит. Нравятся его картины, невероятный талант, не пропал бы. Взять его на поруки?
– Не заставляйте меня за Вас беспокоиться.
– Ну вот напьюсь с Колей Ветровым – может на «ты» со мной перейдешь сразу. Разрешаю мне даже накостылять за это. Можно ногами.
– Блин, придется переходить на ты как можно скорее, уговорил, старый черт, – решительно выдал Антон, – А теперь показываю следующего талантливого художника – Ника Николаевна Ветрова, 29 лет, выпускница Суриковского института. Вот ее метровые пейзажи, написанные за четыре часа. Ну как?
– Ого! И это не мужик писал, нет? Откуда у девушки столько энергии? Смелая. И точно как! Похоже! Ух ты! Обобщенно слишком, но мощь! А открытый цвет как дерзко берет! По пятнам красиво! Движение, динамика! Я ее представляю вот такой … как Родина -мать, больше в голову ничего не пришло. И живопись напоминает одновременно Рериха и Коровина, оригинальное сочетание.
– В корень зрите! Родина-мать. Богатырша. Брунхильда. Полстраны с этюдником, мужским, кстати, объездила, а еще в Индию, в Монголию. То по православным монастырям, то по буддистским, то в тундру,то в пустыню. Пыталась даже в Антарктиду с питерскими геологами прорваться. У нее и большая северная серия есть, с ледоколами. Работы ее расходятся быстро, влёт. Что молодец, то молодец, не каждому мужику под силу. Влюбился бы, да боюсь. Она в каталоге пишет стоимость раза в три больше, чем реальная цена продажи. Для таких как мы с вами цена другая. Это я к слову, вдруг захотите приобрести. Представлю-ка я вас им коллекционером! Ведь это правда.
– Она тоже из Сибири?
– Нет, она как раз простая москвичка, – Антон очень радостно и экспрессивно рассказывал, – переехала в Заболоцк за мастерскую, тут сразу ее получила. Ей у нас нравится все – воздух, красоты, река, близость к столице. Вот и почти о всех рассказал. Про меня вы знаете – я вон там повесился, еще Марат Шакиров, график, приедет завтра и вот на той пустой стене повесится.
– Антош, не пугай меня.
– Что, на самом деле не нравится моя живопись?
– Почему?
– Пугаетесь.
Аненков не сразу понял, а потом они оба от души посмеялись над жаргонным «повесился». Антон принялся за работу, ее хватало – каталоги надо еще разложить, этикетаж сделать, развесить его и пристроить афишу. «И крайний срок оплаты фуршета вот-вот, надо журналистам позвонить», – спохватился о делах Антон, подумал, что как все —таки непросто без Алины, вообще давно забыл, что с этим фуршетом делать, страшно становится.
Сергей Львович какое-то время помогал Антону с этикетажем, ругаясь про себя, что не мужская это работа. Потом спохватился и ушел на два часа.
Когда Антон остался в своей галерее один, его внезапно его охватила такая паника, что он заметался по залам, не понимая зачем все это нужно. Вдруг подумал, что эта очередная выставка опять получается идиотской и стандартной. «А не пошла ли она в пень? – Антон всегда задумывал круче, чем в итоге успевал сделать, – Ну почему я не принял помощь Ники? Покомандовала бы она немного, ладно уж». Антон сел, обхватил голову руками и его взгляд упал на заготовленный для вернисажа коньяк.
Отец закончил работу в багетной мастерской и должен был занести для выставки несколько рам. Он застал Антона сидящим на краешке стула и мерно раскачивающимся, полностью погруженным в себя.
– Что такое? Опять? Что опять не доделал? То аспирантуру бросишь, то бизнес угробишь, то девку выгонишь? Какого черта лысого? – Александр Евгеньевич выругался, завидев в руках у сына бутылку.
– Знаешь, батя, хватит, немало я сделал. Хорошо я поработал, чтобы твой убыточный цех превратить в прибыльный столярный, один багет нам обеспечил ремонт старой нашей хибары между прочим. Почему же ты не сохранил это завод? Да похрен эту выставку, пусть как есть, по-старому тоже сойдет!
На самом деле в голове Антона стучало: «Ну почему я ничего не могу сделать как хочу?». Но когда отец указывал ему, взрослому и самостоятельному, на ошибки, пусть даже и очевидные, Антон себя не мог сдерживать.
– Вот мне думаешь не больно каждый раз смотреть в глаза дяде Косте и сыну его? Пусть я не идеальный, но на мне зато убийства нет, – заорал он, стараясь уколоть отца.
– Что??? Да что ты знаешь про Костю? – отец занес было кулак, но опустил.
– Так что я не знаю?
– А поймешь ли ты? Откуда появился Костя, знаешь? Знаешь, что три ходки по тюрьмам до того, как он стал тут сначала рабочим, а потом главным электриком. Знаешь, что я его прикрыл? Друг он мой с детства. Но что-то пошло не так у него. Я его понял. Знаешь, что это твой отец накопил на дом, а потом отдал Косте на откуп все деньги. Много денег. Откупился мой друг. А иначе он так и остался бы в банде, – отец Антона запнулся, взялся за сердце, понял, что сказал лишнего, – ты только это …матери не говори. И прости. Тебе пришлось халупку нашу править.
– Прости, пап, ты меня не понял, я не то сказать хотел. И я не понял. Блин, это я дурак, наверно, – на вдохе сказал Антон.
Александр Евгеньевич выпил воды.
– И все-таки я тебе расскажу уж, если самое трудное сказал. Костя считал, что обязан мне, что я его спас и так далее. Я, конечно, не ради его благодарности делал все. Мне радостно было смотреть, что друг вырулил. Друг…Брат уже скорее, и Ваня, сын его мне тоже как родной. А Костя – крутой таки мужик, в сорок получил высшее образование и стал у нас работать главным электриком. Судимость с него не сняли, но мы хитро обошли эти ограничения. Девяностые. Тогда этот номер удался. Это мелочи, не нарушение. Вон кто-то весь архив конструкторского бюро вывез в неизвестном направлении. И это никто как преступление не расследовал, – Александр Евгеньевич напряженно помолчал и продолжил, – Был у нас одноклассник Эдик по кличке Алик-Бес. Не смешно мне теперь от такого сочетания, знаешь. Сгинул где-то. Алик-Бес звезд с неба не хватал, но был без тормозов. В девяностые ему все сходило с рук. Много ума не надо, чтобы убивать и воровать. Свалил ли куда-то, предатель продажный, или убили, я не знаю. На его совести и заводской пожар, и гибель Кости. Территория им была нужна. Пустая желательно. Директор тоже свалил, явно в доле был. Главный технолог застрелился, его дело быстренько закрыли. Костя собой пожертвовал, спасал завод, но не ради меня только. Тут работало несколько сотен человек. А между прочим завод – это не только производство и безопасность бывшей страны, это еще и люди, оставшиеся без средств. Мы же и конверсию провели, кастрюли и сковородки делали вместо ракет. Если бы не Костя, который втайне от директора установил слежение и противопожарное оборудование, то для Алика-Беса все было бы очень просто. Но теперь сослаться на неаккуратное обращение с имуществом было нельзя – доказанный поджог. До него тогда не добрались, но банду проредили. Давно уже было, ты в институте был. Ну а Ваню сегодня от дел отстранили. Что за черт, жмёт как… – Александр Евгеньевич положил руку на сердце.
Антон вскочил, но не зная что делать налил отцу немного коньяка.
– Чуть-чуть….кардиологи рекомендуют если сердце….Иваныча отстранили? За что?
– Антош, спасибо, чуть полегче,– Отец немного помолчал, – А за что – я так не понял. Говорит, что вчера Машу Мамонтову спасли из болота. Мужик из Москвы проходил мимо и вытащил. Мол, случайно трос у него был, им и вытащил. Только, похоже, кто-то этому был не рад. Ваню обвинили в недобросовестном следствии, чуть ли в непрофессионализме. Не так дело оформил, свидетелей не допросил с пристрастием. Иван, мне кажется, Машку эту втайне любит, но ведь у ней не подступишься. При этом Ваня заорал, что у него есть доки чтобы засадить половину городской администрации, а потом решил затаиться и написать заявление на службу по контракту. Он это мне не сразу рассказал. Сначала заявил, что матери лечение надо оплатить. Я говорю: «Не бзди, вижу что бы задумал! Нахрен твоей матери лечение без тебя!» Тогда-то он историю про контракт и рассказал. Вот теперь и думай-то ему делать-то? Завтра пойдет в военкомат. Антош, если бы он не в таком состоянии. Я и сам думал не так давно пойти, если б стар не был. Но тут – другое. Чувствую – нельзя отпускать. К тому же он тут сейчас очень нужен. В городе что-то происходит непонятное и подковерное. Все было бы тихо, но эта история с Машей всех взбаламутила. Мы долго были в некотором равновесии с бандой. Неужели они, бесовцы, реванша хотят? Или нас это не касается и там свои внутренние разборки? Мне страшно оттого, что вернутся те времена, когда приходится воевать с голыми руками с теми, кто пришел с оружием убивать. И опять все мы врозь, а они банда. Но я не позволю ни тебе, ни Ивану погубить себя! Не бывать этой истории по второму кругу!
Александр Евгеньевич подошел к портрету друга и замолчал.
– Голова болит. Почему ты не рассказывал, я ведь думал, что ты виноват в смерти дяди Кости? – задал ему вопрос сын, сжав виски.
– Ну я считал себя виноватым. Потому что я выжил, а он – нет.
– А я знаю того мужика, который вытащил Машу. Да и ты его знаешь, если помнишь мой диплом. Это Сергей Львович Аненков. Он вот-вот придет, отошел на два часа к Маше в больницу. Кажется, уже идет, вроде с Ангелиной даже. Слышно отсюда как Ангелина учительским голосом декламирует.
Антон открыл входную дверь и в помещение зашла по-праздничному и безупречно одетая Ангелина Ниловна. Она была в элегантном костюме, шляпке годов семидесятых отличной сохранности, антикварном жабо и с авторской брошью. Профессор заметил, что между Голутвиными явно что-то произошло. Ангелина Ниловна радостно поприветствовала всех.
– Мое почтение, Александр Евгеньевич! Здравствуй, Антон! Рассказываю вот Сергею Львовичу, спасителю моих девочек, краткую героическую, но грустную историю завода.
– Ангелина Ниловна, Вы всегда настольно точны, красивы и безупречны…
– Благодарю!
Сергей Львович пожал руку отца Александра Евгеньевича:
– Ваш сын доказывает, что талантливый человек талантлив во всем, – сказал профессор, – Жду вернисажа. Подарю Антону свою последнюю монографию. Я в ней ссылаюсь на нашу общую статью. А я сейчас помогать пришел. Что у нас с этикетажем? Или еще что-то…
Антон выложил из рук оставшиеся карточки.
– Вы присаживайтесь, пожалуйста. Не вернисаж теперь главное. Константина Ивановича сын, Иван, в беде. Он мой друг и ваш следователь по делу Маши. И почему его уволили – тоже не понятно.
Александр Евгеньевич пересказал историю. Было видно, что Ангелина Ниловна очень нервничала. Она застегнула пуговицы жакета наглухо, встала.
– Ну, к Сергею Львовичу они зря пытаются подкатить, ничего компрометирующего не выловят. Ивана беру на себя. Я в курсе многого, ведь он мой ученик. Но мне кажется, что Алик-Бес, точнее это его изысканное общество, бывшая банда, давно рассосалась и в этом деле совершенно ни при чем. Так, сейчас полседьмого. Я в гости к Ивану. Если дождетесь, то я еще зайду, – она пошла к выходу.
– Спасибо, Ангелина Ниловна, Вас проводить?
– Я очень хорошо знаю их дом, не надо,– твердо отрезала Ангелина. Но вдруг вспомнила, – И главное – вернисаж состоится завтра? Я уже своих учителей пригласила с семьями. Так что варите кофе, доделывайте, а меня дождитесь. Не замучайте мне Сергея Львовича! Он же почти без отдыха. Отправьте его в мой дом, выспится хотя бы.
– Ангелина Ниловна, не беспокойтесь, все в порядке, – сказал Аненков, хотя на самом деле валился с ног. Потом посмотрел на ее удаляющуюся в темноту подтянутую фигуру, сорвался, – Я пойду с Вами! Провожу.
– Сергей Львович, я могу проводить! – решил помочь Антон.
– Я не просто проводить, вы же понимаете, – прошептал Аненков, приложив палец к губам.
Сергей Львович так же тихонько спросил Александра Евгеньевича:
– А как фамилия имя отчество и должность Ивана? Постараюсь помочь насколько в силах.
Он записал и адрес, стал догонять Ангелину Ниловну.
Слышно было, что Антон тревожно бормотал:
– Мы про Машу так и не спросили.
Отец покачал головой:
– Давай лучше карточки. Раньше начнем – лучше выспимся. Глаза боятся, а руки делают. Успеем, сынок.
Глава 5. Комплект ключей от дома
– Ну что ж, Сергей Львович, доброе утро! Ровно пять тридцать утра, точность – вежливость королей,—шепотом, чтобы не будить домашних, спросила Ангелина Ниловна
– Доброе, очень доброе! Прекрасно спалось, спасибо! Как не проснуться рано – такой аромат, ммм… Я даже не помню, вдыхал ли когда-нибудь такой аппетитный завтрак. Чувствую себя как в гостях у доброй волшебницы. И яблоком пахнет, и лимоном, и корицей.
– Вот, смотрите, что волшебница наколдовала с утра. Уверяю, это вкусно. – Ангелина Ниловна достала из духового шкафа противень с только что испечеными малюсенькими пирожками. Горячие, они переехали на старое потертое квадратное дулевское блюдо, хозяйка прикрыла их полотенцем, – А сначала едим кашку «Дружба» на молочке, с деревенским маслом. Приятного Вам аппетита!
– Приятного аппетита! Дружба… Как же я любил эту кашу, забыл про нее!
–Раз уж мой городок доставил вам столько беспокойств, я за него чуть-чуть оправдаюсь пирожками. Нашими, заболоцкими. Знаете, когда город строился, со всего Союза сюда съехались хозяйки со своими рецептами, вот и появилось это блюдо. Не одно оно. У наших заболоцких фантазия богатая, а окрестности традиционно сельские, продукты тоже хорошего качества. Особенно раньше были качесвтенные.
– Так что еще необыкновенного в Заболоцке готовят?
– Пирожки – главное, все знают и пекут. Еще начинается у нас увлечение вином. Местное, из садовых ягод, овощей, даже из трав. Первым покойный учитель биологии Иван Сергеевич это затеял – пробовать разные вина делать, фамилия у него была Голицын, вот и вина Голицынские получились. Звучит гордо, но ни к Массандре, ни к дворянам никакого отношения не имеет.
– Вот-вот, мало ли как называется. У нас один открыл философский кружок, а назвал «Голая правда».
– Не разогнали?
– А кого там разгонять? Собрались три человека, остальные не рискнули. Давайте лучше о вкусностях.
– Мясные рулеты у нас особенные готовят, главное – разнообразные. Я готовлю с клюквой и сыром, например. Рыбу перестали готовить, рыбы не стало в реке. Один московский бизнесмен приехал, дауншифтером себя назвал сдуру, теперь все дауном зовут, так он сыры делает. Дорого получается пока у него. Но покупают. Хочет бывшие каменоломни прикупить и стадо коз завести.
– Даже не представлял, что в маленьком городке может быть столько гастрономических развлечений.
– Мне кажется, наши поесть любят. Большинство у нас либо из Сибири и с Урала, либо с Юга, татар большая община.
– Интересно, пироги объединили? Они у всех есть в кухне. Татарские пирожки, перемячи и чай с чабрецом вспомнились. Специально гонял студентом за ними в татарскую напротив кинотеатра «Ударник». Так-так, попробуем…Ммм…Ум отъешь…
– Ум оставьте, пригодится! Я, конечно, сделала на скорую руку, но вроде хорошие получились. Наливайте какао, – заговорщицки прошептала Ангелина Ниловна. – Вчера вы немного меня потревожили своим сонным параличом. У вас сердце-то как, не беспокоит? Мужчины совсем не думают о здоровье.
– Нет, все в порядке, сегодня кино не показали, спал как сурок, – старался внятно шептать набитым ртом Сергей Львович, помогая мимикой.
– Немудрено отключиться.
– Сегодня Ваш домовенок меня не душил.
– Да не в нем дело! Раз уж мы с вами теперь соратники, я расскажу про свою сестру. Но рассказ может показаться странным. Не удивляйтесь, всему можно найти рациональное объяснение. Вы же поможете как человек науки? Ни в какую мистику я не верю, но наблюдаю странное с этой комнатой уже не первый раз.
– То есть домовенка все-таки нет?
– Домовенок у нас условный, чаще всего на этой должности Бастя. Вот, уже подслушивает. – Ангелина глазами показала на кресло. Поджарая кошка Бастет возлежала на пёстром лоскутным одеяле и томно жмурила желтые глаза. – Красавица моя. Вот какая шерстка стала – вороново крыло. Сытая уже, всю ночь шастала. Пришла полпятого, наелась и спать.
– Кошке можно, а я по вашим улочкам не стал бы всю ночь шастать. Хотел понаблюдать колористические особенности майской ночи, ее отличие от московской, хотел послушать пение соловьев, вдыхать с наслаждением аромат цветущей черемухи, но шестое чувство подсказало, что лучше не отвлекаться и повнимательнее смотреть по сторонам.
– Это вы видели бывший рабочий квартал. Там всегда хмурые места, чужаку лучше не соваться.
– Вчера, похоже, именно в таком месте были. Идешь вдоль заборов, вроде бы и ароматы уютные доносятся, шашлыки и пироги, но все наглухо закрыто, и как-то тревожно. Особенно когда под тусклыми фонарями два силуэта с руками в карманах треников рисуются в тумане. Я даже бегом дунул от этих теней в вашу сторону. На всякий случай. Случись что – кричи не кричи, никто не выйдет. Чувствую себя функцией, с неизвестной областью определения.
– Сергей Львович, я, конечно, интуитивно поняла, что вы сказали. Но давайте изъясняться понятнее и конкретнее, без зауми, нам ведь надо договориться.
– Ангелина Ниловна, мы теперь банда? —шутил Сергей Львович, уплетая горячие аппетитные пирожки.
–Даже в семидесятые годы, вы тогда только-только родились, все знали, что там были мафии всякие. Так не называли, конечно, это потом, после итальянского кино с комиссаром Катани начали, помните такого?
– Смутно.
– Ну вот, были землячества тех, кто приехал строить Заболоцк. А у их детей – появились банды, мафия. Я хорошо это помню, знала многих в лицо. Ох, сколько появилось проблем со школьниками. Не национальные банды, конечно, но винницкая от казанской отличалась. Именно в это время появился и Змей, он же Бес. Да у него с десяток прозвищ. А самая ушлая его подружка – сейчас глава администрации города, Элеонора Добровольская, мать Маши. Про нее анекдоты ходят, а она совсем не дурочка и на обочине никогда не стояла. Отличницей была. На спор с подружками соблазнила Змея. Мне так рассказали.
– Они к винницкой или казанской группировке относились?
– К липецкой или тамбовской, но не важно, этот механизм уже не работал в девяностые. Когда завод перестал работать, появились еще и пришлые, готовые убивать местных. Хотя все были советскими. Да что я об этом рассказываю, наверняка Голутвины рассказали многое уже про святые девяностые.
– Нет, Антон ведь партизан. Он так толком и не рассказал, что случилось перед его уходом из института, а про проект свой лишь обмолвился.
– Да, так бывает, трудно рассказывать о некоторых вещах. А Голутвины, совсем местные, семья испокон веков на рязанских землях жила. Это по отцу. Мама Антона – из Свердловска. Но тоже – из «бывших». Оттуда много наших инженеров, врачей и учителей. – Ангелина Ниловна говорила шепотом, Сергей Львович кивал.—Наверно, наши уральские привезли изначальные рецепты пирожков.
– Вкуснота… А с чем они? Понять не могу.
– Этот – с черемухой. Моя любимая начинка, нас мама научила.
– Вас?
– Меня и мою покойную младшую сестру, Светлану. Тут начинки разные. У меня сегодня с яблоком еще, с клюквой и творожком. Мама такой пирог называла «Дружная семейка». Маленькие пирожки из одного теста с разной начинкой пекутся в одной форме бок о бок. Потом резать не нужно. Удобно – отломил и ешь. А наши заболоцкие идею развили. Формы разные – и круг, и квадрат, и сердцем. Стали сами эти формы делать, когда на заводе конверсия началась. Спрос был хороший, модно стало печь. И форма пирожков разная бывает, и тесто разное – и дрожжевое и слоеное, из ржаной и из льняной даже муки. Придумали один пирожок печь неприметно с орешком. Пирожок-атаман. Кому достанется за столом – тот в это застолье атаман. И назвали по-своему – пирог «Братский круг». По круглой форме для выпечки, которую завод производил. Потом уже появились всякие сердечки, елочки. Сами пирожки «братцами» называются. Некоторые называют «казаками».
– А в вашем есть атаман?
– Конечно! Он должен вам достаться.
– Ну, может, вам, почему же обязательно мне?
– Я же пекла, точно знаю, в каком орех.
– А какой орех?
– Лесной, из нашего леса.
– Давайте мы его Васе оставим.
Сергей Львович увлекся пирожками и какао. Через некоторое время ему захотелось самому, вместо Басти, развалиться в кресле и мурчать. Он мечтательно посмотрел на Бастет, вздохнул и мечтательно прошептал:
– Кто мало отдыхал в этой жизни, в следующей родится котом.
– Не вздыхайте, Сергей Львович, забот у Басти хватает. Иногда она берет на себя и наши. Вон как за человечьих детенышей колотилась, как за своих детей. Она крысоловка, это редкость. Котят у нас забирают всех, в очереди стоят. У кошек ведь как – если мамка не научит котенка в первые несколько месяцев шею перегрызать добыче, то он как правило только в игровой форме охотится, это инстинкт. А по-настоящему взять даже мышь не сможет, не то что крысу. Чему в первые годы научился – не забудешь.
Ангелина Ниловна замолчала. Как будто она говорила не о том, о чём хотела, не решаясь приступить к настоящему разговору.
– Давайте так. Вы спокойно кушайте, а я вам расскажу сначала про наш разговор с Иваном, потом про Машу и сестру.
Сергей Львович кивнул, хотя переключиться на серьезное дело после роли Винни-Пуха, поедающего все что есть в доме Кролика, было трудно. Вкусно, настоящей домашней еды он давненько уже не ел.
– Ваня с порога стал меня спрашивать про Машу, поэтому разговор мне начать было нетрудно. Я ему рассказала в подробностях, что Маша в коме из-за реакции на алкогольсодержащие антисептики, которые ей дали. До этого отека Квинке она сама не знала о своей аллергии. Ваня все записал. Прогноз неоднозначный – она может выйти из комы в любой момент. Если же выйдет через несколько месяцев —то, возможно, всю жизнь проживет овощем. Ваня попросил докторов позвонить Мамонтовым и сказать, что прогноз неблагоприятный и, скорее всего, надо готовиться к худшему. И у него есть сведения, что этого ребенка, Лялю, Элеонора, бабушка ее по факту, хотела сбагрить опеке. Я знаю это сама от портнихи. Это наше местное «радио». Отцу на это, как он сказал, «фиолетово». Это очень странно. Не верю в то, что Элеонора превратилась в такое чудовище.
– Всегда говорил, толковая молодежь, но мне не все верят. Про Ивана я.
– Так вот… Иван, говорю, а до суда Машино дело дойдет? Он тогда и говорит – не знаю. Отстранили. Я, говорит, в сердцах глупость сморозил – сказал, что досье есть на всю их банду. И хоть потом соврал, что у друзей в Москве, это не особенно их впечатлило. Очень вовремя его пригласили на учебу в Москву, он теперь считает, что и от скорой расправы спасет, и он свою компетентность докажет. Ваня вчера отдал мне архив документов, подтверждающих альянс нашей администрации и банды Змея-Беса. Вы понимаете теперь, почему я не дала вам сумку нести?
– Это же обычное дело, что удивительного в таких историях? В любом городе найдется подобная.
– Вот-вот, все привыкли уже, а этого не должно быть. Любовниц у Беса было —царь Соломон обзавидуется. А как звали Беса этого, не все помнят. Для одних – Змей, для других – Бес, таким его горожане побаивались. Любовницы его называли Атосом, погоняло «Алик» – это для «бригады». Элеонора, мать Маши, женщина эффектная и умная, делала вид, что Змею предана. Может, так и было. Была ли официально за ним замужем – не знаю, считалась женой его. Прошло почти два десятка лет. Время бежит быстро. В начале двухтысячных Змей пропал. Властная она, уверенная, рулит городом самозабвенно, не забывая о своем кармане. Ни одно важное решение не принимается без ее участия, ни одна приличная должность не дается без ее одобрения. Строительную компанию мужа она тут же обанкротила, как-то на этом нажилась, а заодно избавилась от бывших «коллег» по банде. Теперь у нее собственности как будто даже и нет, кроме личной. Говорят, что и материнских чувств тоже, не проснулись они, хотя Маша у нее одна.
–Получается, что я спас дочь вашего Беса? Или Вы забыли рассказать что-то? – удивился Сергей Львович.
–Что Вы! —Замахала руками Ангелина Ниловна, – она дочь ее официального мужа Василия Мамонтова, художника. Вы просто забыли, говорила же.
–Помню, но засомневался. Так что Иван нашел?
–Ваня говорит, что, если устроить проверку, она сядет за незаконную продажу городских земель. Это как минимум.
– Как же это все неоригинально, Ангелина Ниловна. Масштабирую. В одном вузе ректором стала бывшая секретарша олигарха из его родного городка.
– А у нас в квартире газ, а у вас?
– А у нас водопровод, вот. У самой воды решили они дома строить, у речки нашей, срыть утес и строить. Уже новая строительная компания пришла. Относительно новая. И очень крупная. Могут позволить себе заморозить строительство. Давно уже пришли, лет пятнадцать назад. Элеонора решила ими рулить, а не получается. Дело уперлось в раскопки. Если бы был жив Бес, не видать бы нам никаких городищ и артефактов, никакой истории, все бы на помойку отправил.
– Разве так можно?
Ангелина Ниловна посмотрела на Сергея Львовича как на наивного мальчика.
– Ну слушайте. Нашли кувшины, предметы быта, оружие, даже монеты. Самое удивительное, это уникальные находки – лодку первобытную деревянную, деревянных идолов сохранных. Директор новой строительной компании, очень крутой импортный олигарх, который давно уже сам не руководил, аж из-за границы приехал, вызвал археологов, работы прекратили, ведут раскопки. Наверно, новый барин может себе позволить. А Элеонора бесится, убытки считает, а руки коротки. Но заграница нам помогла.
– Ну бывало раньше такое, и я частенько пользовался заграницей.
– Да говорят, что этот английский олигарх на самом деле бывший наш. Элеоноре сейчас платить по старым счетам будет трудновато. Вот эта Ванина папка. – Сказала Ангелина Ниловна, показывая две пухлые папки, – Их надо скопировать и спрятать. Копии почитаем. Оригинал я портнихе своей отнесу, у нее никто искать не станет.
– Зачем? Думаете будут у вас искать? А ей можно доверять? Я вообще забыл, что существуют портнихи.
– Никому лишнего не скажет. Хотя имидж у нее болтушки. Вы меня, трусиху, пожалуйста, сопроводите к ней, – от страха Ангелина Ниловна даже сгорбилась, что было ей совсем не свойственно. – Заодно увидите живую портниху. Она, кстати, неплохо живет, ее труд сейчас дорого стоит, может, даже больше нас зарабатывает
– Обязательно, и потом в кафе «Мороженое» вас отведу! – улыбнулся Сергей Львович
– Вы знаете, что сказать, чтобы даму «выпрямило». Спасибо, Сергей Львович, но сегодня не пойдем. Потом как-нибудь. И не в «Мороженое», даже не знаю есть ли такое у нас, не ем сладкое, пойдем в кафе к Сердюку, он у нас кулинарные эксперименты ставит. У него интересно и недорого, туда наши все ходят, иногда новое попробовать.
– Как скажете.
– Сегодня нас «выпрямит» искусство. Как Венера Милосская выпрямила Тяпушкина в Лувре.
– Вот теперь я вас не понял. Теперь я буду просить без зауми. Вы про кого?
– Думала знаете. Это же Глеб Успенский, рассказ «Выпрямила» про то, как учитель, очень тяжело переживающий предвоенную обстановку в Европе, ходил в Лувр смотреть на Венеру Милосскую. Он заметил, что выпрямляется и душой, и даже физически, спина у него выпрямилась.
– Не читал, почитаю обязательно. Сейчас я свободный человек. Время есть на художественную литературу и походы по галереям, музеям, театрам и киноконцертным залам. Нет, я не смеюсь! Кстати, могу сам отнести документы портнихе…
– Нет, – отрезала Ангелина, – Иван доверил мне. И вдруг вы потом к Сердюку не сводите? Я тоже не смеюсь.
– Свожу, самому интересно. Даже радостно, что можно приехать теперь в такое захолустье…Ой, простите грубияна…
– На правду не обижаются. Да и выгодно иногда быть захолустьем.
– Приедешь, удивишься как вкусно в общепите.
– А Элеонора поощряет всякий такой бизнес столовский, у нас прямо таки культ еды. В доме ее родителей так было, очень гостеприимные, хлебосольные. Каких только блюд ни готовили. Ее родители – из Керчи, и в роду у нее и греки, и итальянцы, и турки, но это уже не так важно.
– Откуда вы знаете такие подробности, Ангелина Ниловна?
– Не забывайте, я учительница. Классным руководителем и завучем проработала довольно долго. Чтобы узнать всю подноготную – мне достаточно набрать номер бывших родителей или учеников или спросить у коллег. В крайнем случае – поговорить с портнихой. Будто не знаете, как бывает.
– Да знаю я.
– Да и я уже догадалась, кто учебу для Ивана очень кстати организовал.
– Тсс, – приложил палей к губам Аненков, – сосед у меня хороший, и живу я в доме ветеранов МВД, ему спасибо.
– Ага…Пойдем дальше, продолжим нашу утреннюю конференцию. Отец Маши, Василий Мамонтов, изображает гениального художника. Смешно! Есть даже искусствоведы, которые покупаются и такие ему поют дифирамбы – заслушаешься! Соловьи! Нет, соловьи на заказ не поют, а эти поют. Он наглый и плодовитый. И он – мастер провокаций. Картины его не захочешь, а увидишь. Галерея у него, печатает репродукции. Какой извращенный ум надо иметь, чтобы всё это рисовать. Откуда он берет свои сюжеты? Надеюсь, не из жизни. Видели его картины в интернете?
– Да, посмотрел. Культурных слов не найду.
– Антон его не приглашает к участию. Культурно говорит, что, если, мол, я возьму вас, всех остальных надо будет на свалку. Ага.
– Хитрый дипломат Антоша. Вот молодежь пошла! Кхе-кхе, это я по-стариковски…
– Но Мамонтов давно свою галерею открыл, Антошины выставки ему только для самоутверждения или поиздеваться. Змеёва банда деньги через него мыла. Банды нет, а деньги кто-то моет до сих пор. Элеонора послала бы его подальше – свои не дают. Она не любит, а терпит послушного Васю Мамонтова, это же видно.
– Так что за схема у них?
– Схема такая. Нужно кому-нибудь наличные дать. Покупают мазню у Мамонтова за миллион, он свой процент, тысяч шестьдесят, берет, остальное – в оброк барину. Это уже давно секрет Полишинеля. Вот на таком он содержании у Элеоноры. Но Мамонтов не идиот, он воспользовался своим положением и пропиарился за счет городской казны. Якобы популярный художник из российской глубинки. Теперь его картины-уродины продаются коллекционерам из Европы. За счет города. И напрасно у нас пенсионеры протестовали против его галереи, выходили с плакатами «Тут вам не помойка!» Он и Элеонору обвел вокруг пальца. Еще и титулами обложился.
– Художник, но сообразил, – сострил Аненков.
– Зря вы так, художники – не идиоты, что бы французы ни говорили. Они добрее просто, искреннее.
– «Глуп, как художник»– эту французскую поговорку вы имеете ввиду?
– Да, но наш Мамонтов -вовсе и не художник в моем понимании. Про него я знаю мало, он не наш. Впрочем, его всегда есть за что прижать. У него судимость за изнасилование, об этом писали, когда не пускали его в депутаты городской администрации. Сергей Львович, вы же понимаете, чего я боюсь больше всего. Вдруг он обидел мою девочку? А если он еще и не родной отец. Они не похожи.
– А где сейчас Ляля? Она в безопасности?
– С Машей. Но перевели на искусственное вскармливание. В детском отделении больницы… Ох, Сергей Львович, вы меня пугаете. Я не знаю, на что он способен.
– Надо сделать анализ генетический.
– Кто может? Мать-то в коме, отца нет.
– Сами сделаем. Что, трудно материал добыть, что ли? Неофициально, для себя.
– Дорого, я не смогу на пенсию.
– У меня есть.
– Но Вам-то ещё вкладываться…
– Она мне не безразлична. А вы сдайте мне комнату недорого, пожалуйста. На год.
– Я с радостью. Но я тут вроде не одна. Хотя, согласятся мои, уверена. Я бы и так в гости пригласила. С кем еще так можно и поговорить по душам, и дело провернуть.
– Отлично, по рукам! – обрадовался Аненков, – Хорошо-то как – рядышком с вами, с мастерскими, квартиру не искать, Антона не озадачивать.
– Только зимой тут холодно, надо будет утеплиться. До сентября можно еще жить, а потом придумаем что-нибудь.
– Я сам утеплю, – похвастался Сергей Львович, хотя опыт по утеплению своего балкона у него был крайне неудачный.
Ангелина Ниловна достала кофе, стала варить в турке, поискала в буфете особенную фарфоровую чашку для Сергея Львовича, достала свою таблетницу.
– Интересно получается. Маша – самая завидная невеста в городе и такая неустроенная, – вслух раздумывал Аненков.
– Вот именно. Я пока не могу разгадать эту загадку. Почему она протестует. Поехала бы учиться в Англию, не думаю, что это хуже, чем ее жизнь. Мой племянник там отучился и вернулся в свой город. Впрочем, я уже не знаю, что у него происходит.
– Как это? Есть еще племянник, которого не знаете? И, кстати, насчет Англии, не факт, что лучше. Я мог свою дочь отправить, но посмотрел, что у коллег вышло…Да боже упаси.
Ангелина Ниловна покачала головой и запила таблетки остывшим какао.
– Сердце?
– Да чего только нет, Сергей Львович. С годами не молодеешь. Хотя, как посмотреть. После смерти моей сестры Светланы мне по-настоящему поплохело. Стент поставили, приходится поддерживать себя, и без дорогущих лекарств, думала, не проживу. Сейчас мне получше. Я же пережила клиническую смерть, я из той породы, что уже бабу с косой не боится.
– Это кто с косой? Елена Прекрасная?
– Сергей Львович…Ой, что за пирожок вы мне дали? Атаманский оказался! Хитер профессор! Тсс…тише, а то мы с вами перебудим всех. С чего же мне начать рассказывать про сестру? Я старше ее, я – пятьдесят четвертого года. Прошлого века.
– Не удивите прошлым веком я сам оттуда.
– Когда она родилась, в шестьдесят первом, мне было уже семь, и я пошла в школу. Через четыре года мы остались с мамой. Папа был летчиком, летал на МиГ-21. Во время командировки во Вьетнам его не стало. Мне было одиннадцать, и я стала единственной помощницей мамы, бабушка тоже умерла. Светланка была очень симпатичной и умной девочкой, мне было отрадно, что у меня такая сестренка. Я чувствовала не просто ответственность по отношению к ней. Я старалась заменить ей папу, ведь она-то его не знала почти.
– Ангелина Ниловна, разве может сестра папу заменить?
– Ну как смогла, ведь вскоре и мама скончалась. Мы очень быстро оказались одни. Я по стопам мамы пошла, выучилась на историка, а Света тоже сначала учиться. Потом увлеклась археологией и этнографией перешла на другое отделение. Мы тогда этот родительский дом, где мы с вами сидим, сдавали. Жили в общаге.
– Как бывает по-разному. А я никогда не жил без мамы. Почти до пятидесяти лет.
– Без родителей тяжко. Нищенски жили, что говорить, но не особенно горевали. Впритык всего, не шиковали. И вот моя красотуля знакомится в год Олимпиады-80 с состоятельным женихом и уезжает с ним в Новосибирск, переводится на втором курсе из МГУ в тамошний университет. Пишет мне, что живет прекрасно, как в сказке, что у нее даже домработница есть. Присылает иногда деньги немаленькие. Но к себе никогда не зовет и не приезжает. Я тогда как раз защитила диплом и написала ей, мол, хочешь возьму распределение к тебе поближе? Она даже не ответила. Пропала. А я пошла работать в своём Заболоцке учительницей, приводила в порядок родительский дом.
– Это было в том же восьмидесятом году?
– Да…. – Ангелина Ниловна достала платок и стала потихоньку вытирать слезы. – Простите… В Заболоцк меня притянула школьная любовь. Мы переписывались. Обещала выйти замуж. Думала встречу. Встретила. Груз 200 из Афганистана. Одновременно пришло и письмо из Новосибирска. Света родила. Но не позвала на смотрины и снова пропала. Теперь на тринадцать лет. На тринадцать!
Руки Ангелины Ниловны дрожали. Но Сергею Львовичу не пришлось думать как ее успокоить, она быстро пришла в себя.
– Мне было двадцать пять. Совсем неопытная и глупая. Решила, что раз так – замуж я не пойду больше никогда. Встретимся с Андреем моим на небесах. И начала работать. Мне очень нравилось работать учителем истории, классным руководителем. С ребятами до сих пор нравится, если бы ковид не остановил, и сейчас бы работала.
– Жалеете, что не занимались своей семьей?
– Да вы не знаете ничего пока. Долго я не интересовалась сестрой, обиделась на нее. Думала, что она разбогатела и совесть потеряла. Что меня бросила. Зато я почувствовала, что очень нужна своим ученикам.
Ангелина Ниловна выпрямилась в струнку и раскачивалась из стороны в сторону. Сергей подошел к старинному буфету, взял хрустальный кувшин, налил воды в такой же хрустальный стакан и вспомнил, что такой же комплект был и у них. Точно такой, один в один. Он вложил стакан в дрожащие холодные руки.
– Самое страшное началось позднее. Я все-таки поехала летом в Новосибирск. Разобраться, выяснить отношения и поставить точки над «i». Нашла ее овощем в психбольнице. Мою умницу, отличницу, красавицу. Хорошо, что живую. До сих пор помню её перекошенное лицо, безумные глаза. Сидит передо мной, улыбается как ребенок и качается. Узнала меня или нет, но говорит: «Дождалась». Ей был тридцать один год. Она была уже в разводе и лишена родительских прав. Три года я ее восстанавливала. Тут, на своей земле. В этом доме. Она была такая тихая, спокойная.
– Так что же с ней случилось, Ангелина Ниловна?
– Не вписалась в семью мужа. С каждым годом было все тяжелее. Не садись не в свои сани. Их семья была не просто состоятельная по советским меркам – машина, квартира, дача. Подпольные миллионеры. Начали с золотых приисков. Тут, в Москве, ничего не предвещало беды. Он был очень приятным воспитанным парнем, закончил институт золота и цветных металлов, даже кандидат наук. Отец при власти в каком-то городке, вышел на пенсию, и они переехали в Новосибирск. Много я говорю лишнего, Сергей Львович? Просто надо выговориться, столько времени молчала.
– Говорите, говорите. У меня ведь с Новосибирском своя история связана. Простая совсем. Я там сдуру любовь свою потерял. В девяносто восьмом, решил, что до миллениума поищу и забуду. Мы ведь друг другу ничего не обещали и даже в любви не признавались. Просто красивая история была. Прошло и прошло. Женился на другой. И развелся так же быстро.
– Милый Вы человек, спасибо. И вот я привезла ее. В Заболоцке, в военном госпитале, нашла нужных врачей. Удалили опухоль в мозге, восстановили движения. Светланочка так старалась. А в тридцать пять уже вышла моя красавица за мужчину намного старше себя. За хирурга. Даже родила ему сына. Но на работу уже не смогла пойти, дома хозяйничала. А поселились они тут, со мной. Мы уйдем все на работу, а она остается с ребенком – Васиным отцом, Павлом, моим племянником родным значит.
– Ангелина Ниловна, и все-таки… Вы же узнали потом, что именно произошло в Новосибирске?
– Света, когда приехала туда, продолжила учиться, ездила на практики. По представлению новых родственников – не тем занималась. Да еще и ребенка по турпоходам таскала. Жили они вместе с его родителями. Лет через десять они ее нагнули. Заставили заниматься их компанией, бухгалтерией. То ли чтобы шито-крыто было, то ли чтобы избавиться от нее планировали. Даже сынишку отправили в интернат, а потом на учебу в Англию. А она его Андреем назвала. Света быстро вычислила уголовщину в их бизнесе, не знаю точно что. Все записано, я в этом не понимаю. Сказала об этом родне. Получила по голове скульптурой бронзовой. И – в дурку. Причем муж сначала инсценировал ее пропажу, обвинил в распутном образе жизни и лишил родительских прав.
– Тяжелая судьба.
– Я вину свою чувствую. Зачем я обижалась на сестру. Мне стыдно было ей навязываться. Я и правда решила, что она меня предала.
– Нет, вы бы не справились. Вы сделали все возможное и в нужное время. Вы ангел.
– Спасибо вам. Господи, сколько глупостей! Действительно, мы же почти сиротами росли, никто ничего нам не объяснял после смерти родителей, ни с кем не посоветоваться.
– А Маша при живых родителях сирота. —Сергей Львович произнес. И сразу свою дочь. Стало в некоторой степени стыдно.
– Эта комната, в которой вы ночевали – Светин кабинет. Точнее, она готовила эту комнату, чтобы встретить Андрея. Очень надеялась, что у него все хорошо. Мне его фото в детстве только досталось. Няня бывшая Свету разыскала и передала некоторые личные вещи и фото, которые чуть не оказались в камине. Светин муж умер очень рано. Наверно, сын унаследовал бизнес.
– А еще дети у Светланиного мужа были?
– Вроде бы он женат больше не был.
– Однако. Жалко его стало. Жену избили, сына выгнали. Рано умер.
– А вы ведь правы. Я его ведь ненавидела. После него Света людей боялась. Одна гулять выходила только во двор. В город – только с нами. Покупала подарки сыну на день рождения и Новый год. Часто это были книги. Писала письма, дневники, рассказы для детей и подростков. Очень интересные. И статью ее в журнал приняли, про эти зеркала в Аргарской культуре бронзового века. Это после всего, представляете? Зеркалом каким-то прямо бредила. Умерла она в десятом году от инсульта. В один год с мужем своим. Я стала их сыну, Павлу, и мамой, и папой. Пообещала ей, что найду ее старшего сына Андрея и передам ему все письма, дневники, книги.
– Передали?
– Пока нет. Всё тяну. Может, тоже боюсь. Как там его воспитали, как ему сказать? Жив ли он сейчас? Лучше бы к нам приехал после своей Англии. Хотя что я такое говорю, он же в Новосибирске крупным бизнесом рулит, наверно. Подумает еще, что в родственники ему набиваюсь. Может быть, надо оформить эти архивы как наследство и отправить. А вдруг не дойдет? Или выбросят. Растерялась я. Вы-то думаете, что я сильная. Ученики окрестили после моих исторических экскурсов – Регина, королева на латыни. А я тут сопли на кулак наматываю.
– Королевы – тоже люди.
– В этой комнате несколько человек ночевали. У одного случился сонный паралич. И всем приснились вещие сны. Вот как объяснить? Немного вычитала объяснений у Флоренского, но мистика ведь.
– Я тоже подумал про вещий сон, странный сон тогда приснился. И с женщиной.
– Очень красивая была Света. Да ты видишь по сыну ее и по внуку. Все очень ладные.
– Ангелина Ниловна, и вы очень красивая, всем бы так выглядеть в сорок лет.