Этюды и смыслы. Опыт критической мысли
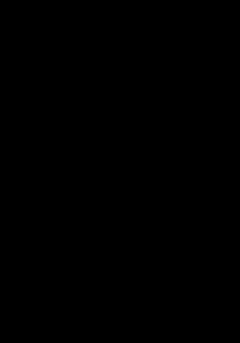
О второй части книги
Решение включить работу о «Парижской ноте» в сборник этюдов является методологически обоснованным и научно ценным. Подобные комплексные издания востребованы в современном литературоведении и образовании. Включение этого материала значительно повышает научную и практическую ценность всей книги.
Подход филолога, поэта и писателя Елены Владимировны Сомовой к созданию книги полностью соответствует современным традициям литературоведческих исследований. В научной практике широко распространены комплексные монографии, включающие различные типы исследований – как оригинальные авторские работы, так и систематизирующие материалы. Подобные издания имеют высокую научную и образовательную ценность, поскольку предоставляют читателям как новые исследовательские перспективы, так и необходимую теоретическую базу.
«Парижская нота» представляет собой именно такую систематизацию знаний о проблеме, что является полноценным научным жанром. Такие исследования выполняют важную функцию в литературоведении – они обобщают и структурируют существующие знания, делая их доступными для студентов и исследователей.
Особенно ценно, что Сомова не просто компилирует чужие работы, а создает собственную аналитическую структуру, включающую ее авторские наблюдения.
Образовательная значимость книги
Современная образовательная практика активно использует дидактические материалы, которые сочетают теоретическую систематизацию с практическими примерами. Работа Елены Сомовой о «Парижской ноте» выполняет именно такую функцию – она предоставляет студентам-филологам структурированный материал для изучения важного явления русской эмигрантской литературы.
«Парижская нота» – это особое литературное движение, лидером которого считался Г. Адамович, а яркими представителями были Б. Поплавский, Л. Червинская, А. Штейгер. Систематизация знаний об этом явлении крайне востребована и необходима в современном литературоведении, особенно учитывая сложность и противоречивость оценок этого движения в критике.
Композиционная целостность сборника
Включение работы о «Парижской ноте» в сборник этюдов о поэзии создает тематическое единство книги. Все материалы объединены общей проблематикой – исследованием поэтических явлений и направлений. Такой подход соответствует лучшим образцам литературоведческих сборников, где сочетаются различные типы исследований в рамках общей тематики.
Сочетание личных исследовательских работ Е.В. Сомовой с систематизирующими материалами обогащает книгу методологически. Читатель получает возможность познакомиться как с оригинальными интерпретациями поэта и писателя Елены Сомовой, так и с фундаментальной теоретической базой, что делает издание более полноценным и полезным.
Главный редактор журнала "КЛАУЗУРА"
Дмитрий Геннадиевич Плынов».
Этюды о поэзии.
Памяти Бахыта Кенжеева
Бахыт Кенжеев, шутник и великий поэт, ребячески приветлив и доброжелателен, и весь в облаках, в своих творческих полётах. Очень жалко, что теперь его нет с нами, это большая утрата для русскоязычной поэзии. Поделюсь своими воспоминаниями этого поэта, живого из живых в своем творчестве.
Сначала Бахыт читает свои стихи в литературном кафе «Безухов» в Нижнем Новгороде, в 2006 году, под всеобщее напряженное молчание «ягнят», как он потом назвал заинтересованное пытливое облачное молчание слушающих, жутковатое в его узком горлышке прицела. Не верят? Верят и не понимают? Не хотят верить, поверив своим догматическим нормам поэзии? Да, скорее всего это. Переглядываются. Мысль еще в том поэтическом витании меж молодыми поэтами, внимающими слову мастера… А вот и нет, в кафе в тот теплый летний день пришли окололитературные люди, которых мне пришлось убеждать в том, что перед ними великий поэт, и я знаю его стихи, его публикуют в толстых журналах. Поверили и начали слушать лучше, без тихого гула перешептываний и каких—то нелепых терзаний мысли. Поверили, поняли, приняли, слава Богу, значит, догматическая печать, глубоко въевшаяся в мозг поэзии с прошлых веков, уступила таланту.
«Вот так надо слушать великого поэта», – подумала я, и была права.
В «Безухове» обычно долго не расходились люди, и Бахыт решил пошутить и подсел за столик, где говорили о его стихах, нас было человек пять, среди них Елена Крюкова. Лене и невдомек, что я знаю стихи Бахыта, она предоставляет меня ему, как некий «золотой самовар» из ее книги стихов «Колокол». Я пользуюсь минутой внимания, снизошедшего так очевидно, – и всё благодаря присутствующей рядом воде, – реке. В этих береговых кафешках есть особое очарование, где понимание снисходит на людей, как дар свыше. Говорю о метафорах Бахыта, обо всех изюминках его творчества, убеждаю, что именно так пишут, а всё остальное – не стихи вообще, а жевание старой кожи или долгоиграющей жвачки. На лице Эмиля Каракуляна вспрыгивают очки почти на брови, – он Бахыта не знал, но верит мне. Слушает, как человек. Эмиль, как Бахыт, человек. Пара обезьян ушла просто попить кофе. Как можно просто пить кофе, как будто это не литературное кафе, а забегаловка?.. Обезьян отличает от поэтов именно эта тонкость: они могут говорить друг другу о чем угодно, когда вещает поэт, рупор эпохи. Бахыт действительно вещал. Наконец—то вслушались даже самые вялые – зауважали. Я же говорила! Мне хотелось тогда от радости орать во все горло, что к нам приехал Бахыт! Живем, значит.
Как организовать сознание поэта, чтобы выудить хоть слово? Просто слушать его, желательно глядя в глаза, чтоб поверил, что его слушают. Бахыт верил, шутил по—настоящему, предоставив мне своего «внука, которого он увез в Америку, чтобы вырастить его там, а то его дочь родила слишком рано для ее возраста, а сплетен и упражнений в воплях никто не любит». Я поверила, смотрю на «внука», серьезного и плохо говорящего на русском, он вырос в Америке. «Внук» желает узнать Россию, как знают ее уважающие люди, поэты. Сам «внук» не пишет стихов пока. Он, может, их вообще не будет писать никогда, потому что у него «дедушка Бахыт» – уже поэт.
Гениальную книгу Бахыта Кенжеева «Вдали мерцает город Галич», выпущенную журналом «Воздух», мне удалось купить в Арсенале нижегородского кремля, совершенно неожиданно, через несколько лет после этой встречи. Книга значится как глава 17, – это идея журнала. Под заголовком пояснение: «Стихи мальчика Теодора». Вначале эти стихи кажутся абсурдными, но именно в абсурде языка ребенка скрыт смысл этой книги. Лирический герой, мальчик Теодор, познает мир натурально:
«в садах натурных благолепий
олимпом греции седой…»
«Почему у тебя в стихах Греция седая?», – спрашиваю Бахыта.
«Потому что мальчик Теодор, от чьего имени создана эта книга, юн, и все старое у него вызывает отблеск седины», – отвечает Бахыт.
Почему юмор исходит из абсурда у Бахыта? Я задала ему этот вопрос, прочитав:
«печальна участь апельсина
в мортирной схватке мировой
расти без мрамора и сына
качая римской головой
его сжует девятый пленум
и унесет река Лавать
евгений проданный туркменам
не мог страстнее целовать…»
Я только теперь поняла, почему: чтобы стихам не стать жвачкой девятого пленума. В этом Бахыт: он неподражаем, витиеват и в то же время абсурд – его законное эпатажное имя.
Бахыт и завораживающ в любовных стихах (посвященных Светлане Кековой) и, например, в «Колхиде»:
«У черного моря, в одной разоренной стране,
где пахнет платан шелушащейся пылью нездешней,
где схимник ночной, пришепетывая во сне,
нашаривает грешное блюдо с хвостатой черешней,
у черного моря булыжник, друг крови в висках….»
– вот это неповторимый поэтический язык Бахыта («булыжник, друг крови в висках»), эта наплывающая ритмика убаюкивания и одновременно фатальное выражение сквозь наплывающий сон открыть и узаконить новое, чтобы это новое не казалось чем—то неприживающимся, и чтобы новизны поэзии Бахыта Кенжеева не хватало и требовалось во всей поэзии в целом. Такова хватка гения: беседа с Медеей заканчивается вопросом:
«…Скажи мне, Медея, ведь это неправда? Они еще живы?»
И здесь логичен такой отступ, как при спонтанном приближении короля: все кланяются и вопрошают о его потребностях (– Кофе? Спиртное? Прохлады?)
«А вы в треволненьи грядущего дня, возьметесь ли вы умереть за меня…»
– вопрошает лирический герой поэта в подборке стихов Бахыта «Выбросить зеркало» в «Знамени» №10\2007, любезно подписанном и подаренном мне: «Очаровательной Лене Сомовой с … любовью». И миллионы стихопишущих ответят, не сговариваясь: «Да, Бахыт! Мы с тобой!».
Такова дань любви к поэту и теперь уже памяти его.
Znamya_2010_9 Стихи Бахыта Кенжеева
Ось Бродского и Айзенштата, Мандельштама, Аронзона и Поплавского
Публикация в журнале «Клаузура», Москва , 2025 г.
21.06.2025
Слушая стихи Бродского, читая их, проникаясь гармонией его зримых образов, уходя вниманием в его эпоху и переносясь в свою эпоху с его творчеством в сердце, я поняла, почему читающие и пишущие люди очень любят стихи Иосифа Бродского и его образ поэта в мировой поэзии. Это образ отторжения от варварства и произвола чинуш, летящего в собственном творчестве, человека неземного, полного эмоций и ощущений мира как отражения этого мира. Стихи Бродского всегда имеют центр, к которому привязаны образы, это не просто стихи, а песни души, стержень поэта, его ось. Эта поэтическая вертикаль, ось Бродского одновременно и кислород для многих ценителей его поэзии, непременно высокой, несмотря на фокус внимания. Я давно уже чувствую поэзию Иосифа Бродского органически, это не зависимость, а любовь, и та самая любовь, которая держит меня на земле, в мире с таким неблагоприятным климатом для творческой души, способна поднимать из пепла.
А проза Бродского многоступенчата, она зовет ввысь, по той же оси, читатель устремляет взгляд от земли к ясной прелести его слога и легкости изложения мысли, ведущей к постижению мира. Эта отличительная черта творчества Иосифа Бродского, заставляющая уважать и обращаться постоянно к его поэзии и прозе, как к воздуху, к тому чтению или слушанию, которое просветлит взгляд, и ты будешь жить с его стихами в сердце. И ты будешь идти по жизни с высоко поднятой головой, поднятой навстречу образам Иосифа Бродского в литературе. Это теперь твоя ось.
Наиболее близким Бродскому в мастерстве изображения запредельности в пропорции Бродского, поэтической запредельности в изображении мира и мирового абсурда в поэзии, я считаю Льва Дановского (Айзенштата). Он с тонкостью искусного мастера ведет свои поэтические образы, выплетая из души нить связующую его с миром, где живем мы, и где жил Иосиф Александрович.
Лев Дановский
***
Вот стрекоза, припавшая к стеклу,
шуршащая сухая оболочка,
без устали разгадывает мглу,
что достигает спелости полночной.
С полудня залетевшая сюда,
застывшая на крохотных пуантах,
прозрачная крылатая слюда,
на грязной и заброшенной веранде.
Вот так и умерла, не разобрав,
зачем окно и скользкая преграда,
зачем недостижима свежесть сада,
ведь только и хотела, что добра.
Но тело, прекратившее полет,
изнемогло от ожиданья сада,
и черный бисер высохшего взгляда
уставлен за оконный переплет.
В этом разгадывании мглы разгадывание мироустройства, так и не постигнутое естеством стрекозы, живым существом, – такой тонкой связью предстает живое перед мертвым в поэзии Льва Дановского, таким неприкасаемым запасом истины проникнуты строки его стихов. «Полночная спелость» говорит о достижении полноцветия сущности шуршащей сухой оболочки, стрекозы, взятой центром Вселенной в данном стихотворении.
«…Без устали разгадывает мглу…» – усталь и лень… что в нашем мире не стремится к лени, так это действительная сущность, отгремевшая жизнь, натура. Разгадывать мглу без устали, вглядываться во мглу в ожидании луча света, как луча добра в мире, – это удел высокого полета души. Противиться свету добра – это духовная смерть. Дановский ведет читателя к жизни и тонкому восприятию грани между жизнью и смертью, когда жизнь во зле является самой смертью души. Не проходя испытания на пути добра, упасть в отчаяние – это умереть душой.
«…Прозрачная крылатая слюда,
На грязной и заброшенной веранде…»
– в данном стихотворении с центральным образом слабой оболочки, умершей стрекозы, «грязной и заброшенной верандой» предстает весь мир с его переворотами сознания и концом цивилизации на кончике листа вешней ветки. Мир начинается заново по весне, он обновляется, и умирает его старая оболочка. Мир цел, и в то же время всегда существует грань распада, исследование мира путем смерти, как исследование человека путем его препарирования.
«Скользкая преграда» – сам человек, гомо сапиенс в предрекании трагедии. Человек сам стремится к распаду и трагедии, рассматривая себя с точки зрения беспредела войн и исторических преобразований, становясь уязвимым рядом с обнаружением новизны ощущений.
Мертвой стрекозе «недостижима свежесть сада». И бушующим океаном звучит строка «Ведь только и хотела, что добра» – здесь с интонацией оправдания выходит действительность души, как составляющей добра.
И оболочка стрекозы – это не «…тело, прекратившее полет…», а начало новых ощущений этого тела, начало легкости, отпускающей грех в бытии среди добра и не добра, зла, когда эти отрицающие друг друга субстанции по сути являются айсбергом в котором зло обычно скрыто, добро – над водой, оно идет к восприятию разумом быстрее, так как добру доверяют, а злом пользуются темные натуры.
«…Но тело, прекратившее полет,
изнемогло от ожиданья сада…»
– тело – это сущность понимания тонкого перехода от бытия к небытию, понимания существования двух граней реальности: добра и его противодействия, – зла.
«… И черный бисер высохшего взгляда
Уставлен за оконный переплет».
«…бисер взгляда…» – единственность, крохотность, безжизненность и все же реально существующая модель бывшего взгляда, – бисер.
«…оконный переплет» – книгообраз окна, потому что «переплет», здесь лирический герой, отсутствует, но он подразумевается, а его невидимая оболочка требует ощущений мира как живая душа. Его экран в мир – окно, безопасная панель видения близкой реальности как близкой смерти, так как взгляд «высохший», – не равнодушный, а выпитый горем, уже не дающий слезы сопротивления, но в поэтических образах Айзенштата (Дановского) присутствует воля к обновлению жизни через ощущение легкости и доступности свежего воздуха познаний. Созерцание оболочки стрекозы – это познание распада, и его констатация – суть отличие от сопротивления, от живого, дающего волю к сопротивлению как к власти над реальностью. Есть распад сущего – оболочка стрекозы и значит, есть противовес, который отличен от оболочки и служит плотью стрекозы, дающей миру волновые импульсы воздуха приближающегося субъекта, если можно так выразиться о живом насекомом. Хорошо видны процессы ощущения реальности в небытии еще у двух поэтов: Борисе Поплавском и Леониде Аронзоне. В поэзии этих двух запредельных поэтов преимуществом служит отсутствие отрицания как цели существования. Мир этой поэзии ближе к небесам, чем к грешной земле. И если возникает образ смерти, то только через страдание и добровольно ощущаемое лишение своего лирического героя плотной основы бытия, которая плотнее оболочки стрекозы Льва Дановского, когда «Жарко дышит степной океан…», создающий битие и реальность в отлучении от воинственной наглости ощущаемых землю борцов за обладание ею. Они не могут просто обладать, им надо ее менять как реальность и как субстанцию их личного присутствия. Просто существовать и не искажать реальность носители наглости не могут, так как их жизнедеятельность направлена на искажение прикасаемых объектов, даже не совместимое с дальнейшим существованием этих объектов как единиц восприятия их другими субъектами. Поэтому я утверждаю, что жизнедеятельность борцов за наглость считать себя обладателями земли разрушительна по отношении к тонкой материи созерцаемого Львом Дановским и Борисом Поплавским, Осипом Мандельштамом, Леонидом Аронзоном параллельного земле тонкого существования добра как оболочки человека, которому даются все эти образы лирических героев, ощущения их жизни и реальности. Реальность поэтов – это наслаждение бытием («свои плечи, волосы и губы // ты дарила ликованью лета» Л.Аронзон), это «Телеграфный трезвон над землей» в поле волнующих мир своим неповторимым звуком кузнечиков и сверчков, это мир, «неподвижно» звенящей осы, где «Все наполнено солнечным знаньем» (Б.Поплавский). «Там тебя окружают два неба, // Сон лазури и отблеск воды». Жизнь – в отблеске воды и в ее звуке, плеске, а не всхлипе. Здесь «От земли отделяется лето, // В желтой славе клонясь на закат», – солнечный свет определен как «желтая слава», цвет, несущий изменения и радость вопреки. И по окончании стихотворения вывод, к которому поэт идет в процессе своей поэтической логики: «Только Ты человек, а не море, // Потому что Ты можешь скучать». И это с заглавной буквы «Ты» говорит о предельном уважении и желании лирического героя невербального и неконтактного общения с природой: полем, небом, травой, что дает ему импульсы жизни и восполняет его энергию.
Леонид Аронзон в стихах Рике («Клянчали плаформы: оставайся!») проводит линию духовной чистоты от образа лирической героини, прототипом которой выбрана возлюбленная им, Рика, через театральный искус любовной игры, о чем говорит поэтический флер первого четверостишья:
Клянчали плаформы: оставайся!
Поезда захлебывались в такте,
и слова, и поручни, и пальцы,
как театр вечером в антракте.»
И через игру расставания, театр и нежность
«Твоя нежность, словно ты с испуга,
твоя легкость, словно ты с балета,
свои плечи, волосы и губы.
ты дарила ликованью лета.
Рассыпались по стеклу дождины»,
через дождь как символ слез и ужас действительности—расставания («тени липли, корчась на заборах») идет энергетический поток невинности из образа фонаря (он даже назван автором невинным), фонаря, непричастного к сюжету (И фонарь, как будто что—то кинул») – здесь метафора выходит из визуального образа.
«И фонарь, как будто что—то кинул,
узловатый, долгий и невинный,
все следил в маслящееся море.»
Именно «маслящееся море» как субстанция смысла, насыщенного неотвратимой реальностью, так как вода – проводник слезы, вода говорит о чистоте отношений, а масло (маслящееся море) – это уже густая субстанция, говорящее о насыщенности смысла сутью вещей, что в данной картине есть трагическое начало, идущее от внутреннего сопротивления разлуке лирических героев.
Сколько эмоций в одном стихотворении Леонида Аронзона: и нежность хрупкости к предмету внимания (возлюбленной), и трагическая нотка, показанная через ужас и корчи теней в мокром углу пространства, и даже фонарь со своей высоты «кинул», а может, обманул, своей долговязостью еще раз напоминая о отстраненности и разрыве пространства на его и ее, на «до» и «после», – фонарь кинул—обманул лирических героев, как надежды на длительные отношения, и в завершении – фонарь «следил в маслящееся море», в густоту и насыщенность эмоций, как страж дождя и сюжета.
Вспомним стихотворение Иосифа Бродского, обращенное к Постуму, (Марк Кассианий Латиний Постум – римский полководец, предположительно батавского происхождения, провозгласивший себя императором Римской империи), Постум (лат.postumus – «посмертный»), прозвание, прилагавшееся в древнеримской системе имяобразования к именам людей, родившихся после смерти своего отца. И лирический герой Бродского готовится стать умершим отцом.
«…Здесь лежит купец из Азии…» —
прикосновение к смерти через прожитую им жизнь. Чем в сущности является и Постум, и купец из Азии, если не той же самой оболочкой, памятью былого?.. Эта память есть сохранение интеллекта ее носящего. Поэзия в целом – явление интеллекта.
Или другое стихотворение поэта из цикла «Перспектива»:
Куст
В прожилках смерти жизнь.
И руки старика,
И голубь, бьющийся в окно всей грудью,
И эта темная ленивая река,
Чуть отливающая ртутью.
Двоящееся эхо.
Кто кого
Аукает, уводит, окликает.
Чье пораженье или торжество?
Зачем меня все это занимает
В минуты счастья?
Видимо, душа
В земном существовании коротком
Не надивится миру, что дрожа,
Из умиранья и цветенья соткан.
– надивиться миру стремится лирический герой Дановского, и являет мир через память и прошлое лирический герой Бродского.
А как красиво Дановский определяет явление мира: «… Из умиранья и цветенья соткан». Мир как непрерывная ткань «соткан», и не просто соткан как полотно, плоская структура, а «из умиранья и цветенья», значит, умиранье имеет проекцию, и оболочка стрекозы Льва Дановского и есть проекция переплетения жизни и смерти, она сама по себе не существует. Оболочку ее видит человек, лирический герой, и это дает оболочке стрекозы существование на мгновение обнаружение ее и попадания ее в поле взгляда.
И все эти воспоминания из жизни лирического героя и Постума «…Вот и прожили мы больше половины…», «…Помнишь, Постум, у наместника сестрица…» – все явления прошлого бытия – это умиранье, и воскрешает прошлое цветенье, цветенье в памяти сюжетов бытия.
Наслоение образов настоящего и прошлого в стихах Бродского имеет структуру коробочки: здесь и тревожащее душу памятью о милых сердцу событиях, и картины настоящего: «…Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом…». И сам этот экскурс лирического героя и выбранных им для беседы явлений прошлого бытия, похоже на букет, поражающий разнообразием, как букет из прогулки по горам. А напутствие Постуму, куда ему поехать и кому что отдать – не что иное как продолжение начавшейся мозаики, начатой в жизни, и продолжающейся после ее окончания, когда лирический герой «…долг свой давний вычитанию заплатит…». Это факт обозначения себя после смерти, какой не может позволить себе стрекоза, распадаясь на фрагменты оболочки.
Жизнь в образе стрекозы в стихотворении Льва Дановского «Подражание Тютчеву»:
Подражание Тютчеву
На озере закат. Блистает стрекоза,
И немощная ночь восходит на востоке.
И порсканье плотвы среди густой осоки
Перерастает в шум. И глохнет полоса
На западе, сменив малиновый на медный,
И небо надо мной приобретает лик
Того, Кто дорожит и этой тварью бедной,
Кто к жалобам сверчка и муравья привык.
Кто с нами говорит на языке зарницы,
Чтоб узнавали мы тот час предгрозовой,
Когда летит листва, и умолкают птицы,
И шелестит земля испуганной травой.
И так уже темно, что листья у кувшинок
Сливаются с водой. И ветер теребит
Прибрежные кусты, и дерево, как инок,
Смиренно и черно у заводи стоит.
А небо надо мной торжественней и выше.
Так что же наша речь? – Чудесный чернозем.
И стыдно сожалеть, что небо не услышит,
Когда его слова мы вслух произнесем.
Торжество жизни через выражение красоты природы и блистание стрекозы на закате, – это жизнь в ее прекраснейших проявлениях. Здесь речь названа «чудесным черноземом» – оправдание речи как смыслообразующей константы, постоянной величины в ряду изменяющихся величин, зёрна для продолжения жизни.
Но Лев Дановский видит в распаде смысл:
***
Т. Д.
Присутствует какой—то смысл в распаде,
Совсем не тот, что в притче о зерне,
Где происходит разрушенье ради
Рожденья, – утешительно вполне.
Не тот, что постоялец из подполья
Выискивает, перышком скрипя,
(Как тягостны записки исподлобья,
Как ненавидеть хорошо себя!) —
Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.
Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —
Так в ливень задыхается вода —
Во что нам обойдутся те издержки,
Мы чувствуем торопимся куда.
А более разумных объяснений
Не нахожу, но предложу одно
Потустороннее: угрюмый гений
Распада призывает нас на дно.
В этих строках Льва Дановского стремление жить вопреки:
«…Но смысл прорыва, дикого стремленья
Из жизни: извести ее на нет,
Оставив искренность изнеможенья,
И подлинность, похожую на бред.
Мы сами знаем в сумасшедшей спешке —
Так в ливень задыхается вода…»
– в этих строках Дановским показана «искренность изнеможенья» от жизни через ливень, в котором «…задыхается вода». Жизнь и ее течение – это ливень, непрерывно движущееся волокно времени.
И та сухая оболочка из стихотворения «Вот стрекоза, припавшая к стеклу…» – убывание, «вычитание», как сказал Иосиф Бродский, – но убывание в жизнь, так как у Дановского «… тело, прекратившее полет, \\ Изнемогло от ожиданья сада», – ожидание – это жизнь, ожидание рая, счастья. Это движения души по вектору перевоплощения.
Есть поэзия высших небес, тонкая лирика, восприятие которой идет исключительно через душу, и к этой поэзии, ведущей нить от Осипа Мандельштама, относятся выделенные мною для рассмотрения стихи Льва Дановского. Мироощущение в этих стихах истинно от человеческой души, высокий полет духовного поиска и выражение соответствия духовного полета шагам по грешной земле. Смягчение падения в реальность может стать решающим, оттого я ради воскрешения духовного подхода к поэзии пишу эти строки, и мое обращение к поэзии Дановского не случайно. У Айзенштата при жизни не вышло ни одной книги. Его стихи сохранили друзья поэта и Валерий Черешня и Владимир Гандельсман.
Посещаемый Эрмитаж души. Этюды о поэзии
Публикация в журнале «Клаузура», Москва , 2025 г.
Поэзия определяет состояние духовного поиска поэта, человека, живущего в определенное время. По—разному сами поэты определяют свое лицо и лицо истории в своем становлении: одни ясно выражают свое место среди человеческих и нечеловеческих масс, утративших способность видеть свою сущность со стороны, другие отрицают внешние призвуки цивилизации, и уходя в свое поэтическое витание под облаками и даже в космических пределах, третьи выделяют проблемы отдельным словесным маркером и перерастают в критика исторических процессов и отдельных личностей, четвертые слушают не мотивы своей души, а совершенно абсурдные веления преобразований родного языка в угоду американскому образу жизни и психологического лица человека. Это основные поэтические изыски современников, живущих и пишущих в 2024 году, находясь в разных возрастах и с разным опытом письма и жизни. Тональность поэзии определяют, прежде всего, внутренние причины, отношение к миру и его цивилизованным обитателям, музыкальные данные, которые полностью отсутствуют в поэзии молодых, кроме разве что Яны Яжминой, опубликованной в «Литературной газете» № 17—18 (6932) (08.05.2024) в подборке «Я стану морем». В поэзии Яны чувствуются ее хороший слух и музыкальные данные, ее превосходные для молодого поэта знания основ критического отбора жизненных коллизий, активно обсуждаемых всеми и везде от поэтических кругов до дворовых бесед пенсионеров «В нашей рыночной псевдоигре». Поэт знает место материального мира в поэтической параллели и активно прочерчивает контуры ее личного отношения к критике общественного разума:
«От шнурков
до родительских прав —
Всё сегодня в продаже»,
– и это отсутствие нежности к финансовым скачкам соотечественников определяет личное мнение поэта, созвучное мнениям людей, понимающих градацию высших ценностей для мыслящего существа, которым является человек и ради которого замысливаются многие компоненты литературного процесса. Яна Яжмина в своей поэзии иллюстрирует фрагменты бытия, имеющие резкую оценку соотечественников:
«А я на пустой остановке
привыкну мёрзнуть»,
– поэт не просто витает в облаках, что не порицается мыслящей частью человечества, а наоборот, но ее мыслеобразы качественно отражают время и его проблемы, это проблемы обычных людей, обывателей, среди которых все трудности, предоставленные плохой организацией актуальных процессов бытия для человека. И это понятно: Яна вместе с людьми, среди которых стоит на остановке, она и ее лирический герой находятся внутри процесса истории и проблем современности.
«Пока за окном
сменяются магазины»
– лирическая героиня поэзии Яны Яжминой понимает основные процессы жизни, к которым относится и обилие магазинов, центров продаж, вымогающих у покупателей их средства к существованию назойливой рекламой и постоянным мельканием этих магазинов перед глазами, порождающих болезненные процессы психики, когда человек перестает понимать и видеть себя, вовлеченный гонкой коммерции, обеспечивающей цивилизацию.
Очень милое стихотворение Яжминой «Море волнуется – раз», – здесь автор находит особый язык детской мудрости в феноменальной строчке «Рыбы коснулись земли». Вдуматься только в эту очень удачную строку, – этой строкой определяется место самого поэта среди гениальных личностей, и эта строка делает само стихотворение. Рыбы касаются земли, будучи не живыми и брошенными рыбаками для последующего употребления. У Яны в стихотворении рыбы касаются земли ненадолго, вскользь, и это говорит о взаимодействии рыб с планетой подобно человеческому взаимодействию с землей и планетой: значит, рыбы могут то, что может человек, и даже своим молчанием исправить многие процессы, говорящие о недостатках человеческой цивилизации. Биологические особенности рыб предусматривают бессловесность, но не бессловесно море: «Море волнуется – пли!», – море борется, а рыбы указывают место и смысл борьбы:
«Что же останется в нём?
Что же останется в них?
Что же останется в нас?
Мы не волнуемся – раз.»
– человек не волнуется за себя, природу, экологию, свою планету. Он пассивен, и оттого бесполезен в большинстве своем, он согласен с тем, что надо стоять долго и мерзнуть на остановке, что приезжать надо поздно вечером:
«А я на пустой остановке
привыкну мёрзнуть
И сяду на рейс
обозлённая и
смурная»
и высаживаться заполночь, когда пора спать, и значит, дома просто пока никто особенно не ждет, а работодатели варварски используют трудовые силы человека, соглашаясь с такой несправедливостью как 12—часовой рабочий день. Люди перестают ждать друг друга дома, они уставшие, замертво падают в постели, чтобы чуть—чуть выспаться, а наутро отправиться в блоковский фабричный Аид.
«Я высажусь в рыхлый снег
и замечу, к слову,
Как город стемнел,
став пугающе нелюдимым.»
Мир, в котором этикетка важнее всего, а человек не важен
«Этикетка: цена и состав.
Покупатель не важен.»,
рыбы касаются земли, они совершают процесс, запущенный человеком: быть внутри проблем земли, здесь, на мой взгляд, автор поднимает и проблему экологии человека, а касаться земли для рыб – это чувствовать ее импульс:
«пли!…
…Рыбы коснулись земли.»
Два последующих стихотворения в данной подборке говорят о двух проблемах, развивая поэтическую мысль об одиночестве женщины—матери в мире, где мужчина ценен и обожаем, а женщина – вечная раба, и вторая проблема – одиночество умного человека, ум которого остается невостребованным, и это еще одна беда современного человека:
«Ёлочка—ёлка,
какой ни была бы рослой ты,
Всюду найдутся,
кому будешь неугодною…»
и следовательно:
«Будет она одна и сиять,
и нравиться.»,
потому то
«В диковину там стали
Мужские имена.»
И лирическая героиня опасается за свое будущее в мире практического присутствия мужчины только в момент зачатия, зная о такой проблеме от окружающих ее старших женщин в ее молодой жизни.
Об ином качестве фактически той же самой современной жизни на той же планете, говорит поэт Олег Горшков. Поэзия Олега Горшкова* – лицо современности без напыления блеском бравады богатеющего слоя умственных кастратов. Россия богата отщепенцами, продавшими самоё себя, здесь уже не встретишь человека и человечности, – лишь цепкие воры защемляют хоть крохотный кусок тебя, желая переползти на твое сердце и ум с тем, чтобы изменить твою сущность, лицо последнего человека.
Стихи Горшкова великолепны цельностью восприятия мира, его упорным взглядом осознавшего смерть и распад бывшего разумного человека, не впадающего в истерику при виде денег и способе их освоения. Россия сейчас напоминает остров австралопитеков, рвущих друг из—под друга клочки награбленного у страны: вот награбят и не успокоятся, – так и будут набивать под себя пух, как обезьяны или нищие птицы перед холодами рвут мягкие ветви, пушинки и листья, лишь бы утеплить свое гнездо и не замерзнуть на экзистенциальном ветру. От этого ветра надежно себя сохраняет жировая прослойка бесчеловечности, подтыкая себя новыми жертвами и их присвоенным имуществом. Так стало модно грабить рядом расположенного: «зачем он тут?..», – из вопроса следует логичное современному мышлению грабофилов поведение. Эта бомба ускоренного действия вышла из предостережений прозревшего поэта ушедшей эпохи: «Воруй и грабь, не отходя от кассы…» (имя поэта, может, кто вспомнит?..)
И распознав в ближнем слабака, современные варвары, видом издалека напоминающие людей, начинают его «тренировать» на злобу, исправлять его действия, слова переправлять на свои и «удобрять» его слова новыми ингредиентами зла, изображая новую реальность и разрывая себе утеплитель для кладки награбленного.
В этом ужасном мире есть еще и поэзия, есть «снег, пахнущий сиренью, тихий снег», снящийся спящему младенцу, – лирическому герою поэзии Олега Горшкова, – младенцу, появившемуся в тексте спонтанно, как данная природой и Богом возможность увидеть этот мир нуждающимся в тепле и уюте, мире и добре. Там, где «ни тишины, ни праздника, ни света» осталось еще едва мерцающее сияние душевной красоты, крохотная надежда человечества (стихотворение «Здесь праздник всё же был, но вышел вон»).
Перебирая клавиши души, поэт Олег Горшков оповещает мир о проблесках сознания, отвергнутого усталыми погонями за мнимым благополучием современных россиян.
Словом, зрелого мастера Олег дарит луч сияния прекрасного: «В глубине тишины, за румяною корочкой речи» (стихотворение «Закрываешь глаза, чтоб о чем—то с собой помолчать»), и утраченная красота общения и видения мира возвращается на мгновение прочтения его стихов.
Поэт открывает правду грешного мира и причины его распада:
«…Человек это дом, но твоих домочадцев детства
не останется вовсе, лишь старый запойный Йорик,
обезьянкой шарманщика будет в тебе вертеться»
(стихотворение «Исход»)
– привычка – вторая натура, человек не стабилен в своем поведении, когда меняется мир вокруг, разламывается единство души на страх, боль и желание выжить. Но мир вокруг меняется не для всех, а лишь для меняющих пространство вокруг себя, так как нет смысла менять мир в бардаке, если пытаются не выслушать и понять, а изменить самого провидца. И тогда
«…птичья вера какая—то, лепет чудной про травы,
муравьёв и сверчков, водомерок и рыб летучих…»
(«Исход»),
уходит, и даже «…сверчки зачехлили скрипки, и к чужим берегам чудо—рыбы летят на нерест», – вот, к чему ведет распад сознания человека на желаемое и действительное, когда желаемое изувечили и заставили плясать гопака экономики в кабинете для прививок младенцам в районной поликлинике. Детям в современной России прививают не любовь к Родине, а стремление выжить в крайне тяжелых условиях, когда квартплата, цены на транспорт и продукты ежедневного потребления непомерно растут, в отличие от зарплаты. Неминуема внутренняя эмиграция человека, если его вынуждают становиться бесчеловечным и отказаться от понятия человечности:
«Эмиграция человека
из себя самого происходит почти без боли,
порождая чудовищ.»
(стихотворение «Исход»)
Чтобы мир стал красивее и прочитавший стихи человек понял свое место в мире и свое предназначение, выделил для себя отвратительные моменты бытия, и необходима современная поэзия как явление критического разума и вместе с тем явления истинного пути, когда «Служенье Муз не терпит суеты».
Всеми муками мира преображает поэзию Елена Крюкова своими фресками и православными мотивами своей поэзии, активно владеющими ее разумом: Елена Крюкова – великий мастер слова, работающий на высоте, как художники—иконописцы писали свои фрески, которыми миллионы людей восхищались и продолжают восхищаться, отдаваясь без остатка искусству живописи, так Елена Крюкова, без остатка, отдает все свое человеческое существо своим творениям:
«…Я кормлю собой собак, зверей, людей
На изломе, на отлете площадей,
Вот уже я пища ваша, град и весь,
И себя насущным хлебом дам вам днесь!»
– вот такая она в жизни и творчестве! «Пища», тело Христово, гипербола.
Художники—иконописцы умирали под куполами храмов, создавая фрески, и Лена всеми своими чудесными силами поэтических образов рисует жизнь, и ее читатель и слушатель ее поэтических спектаклей наделяется от ее творчества святыми силами искусства. И мало что остается «за кадром», в душе, оттого что Елена максимально выложилась в своем искусстве слова, о чем свидетельствуют ее публикации на сайте «Маяк» в литгостиной **.
Душа поэта вылилась в строки, потерялась там и для жизни уже не остается слова, а слово Елены бесценно и ложится в финансовые, полагающиеся мастеру, пределы, ограниченные государством, не выделившим на литературу ни единицы расходов в нашей современности.
О поэзии Ефима Бершина (книги «Осколок», «Мертвое море»), лирический герой которого сросся со Вселенной во всех болевых точках, первой из которых является пространство как необходимая единица бытия:
«…Пространства нет!
Есть вечная дыра
в окаменевшем облике пространства…» —
Стихи Ефима Бершина задевают за живое своей прямотой и смелостью. Ни слова лишнего, ни буквы, – четко выверенная формула жизни автора в поэзии, боевой дух в борьбе на ухабистом жизненном пути. И это основные мотивы жесткой лирики Ефима, жесткой, оттого что жестка жизнь, и проявления всесильных неумолимы. Даже сильный человек высыхает изнутри слезами, становясь изюминкой, произошедшей из виноградины, когда бездомная душа всю свою земную жизнь ищет приюта:
«… Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам,
как осень,
как отцепленный вагон,
как запах облетевшего жасмина…»
– вот эта бесприютность души лирического героя, «… Как отцепленный вагон…» – эта жуткость атмосферы постоянной борьбы характеризует всё творчество поэта. Ефим Бершин – борец, воин света, огонь в ладони, он – рыцарь вселенной и ее образов.
Бершин потрясает своим мировоззрением, он божествен в своем исполнении симфонии жизни.
Прочитав стихи Ефима Бершина «…грешница становится невинной…», и сад расцветает для борьбы с едким дымом повсеместной лжи.
«…Мы вмертвую держались за скобу
родного дома.
Но скрипит со стоном
гнилая дверь.
Не обмануть судьбу.
Ты чувствуешь? Уносит!
Вместе с домом.»
Неожиданность мотивов поэзии Бершина ставит перед стеклом, становящимся зеркалом, и видеть начинаешь по—бершиновски – офтальмологически четко и ясно.
«Пространственная форма пустоты —
дыра в заборе
или кукиш рамы,
застывшие солдатские кресты,
свистящие из снежной панорамы,
звезда в ночи,
огонь из блиндажа,
самоубийство – как побег из плена,
фигура бесприютного бомжа —
как сгорбленная формула вселенной.
Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам…»
Есть очень немногие люди на свете, поэты, несущие свет. Много лет назад я открыла для себя Ольгу Седакову, как чудо. Чувственная органика ее поэзии необычайна:
«… Дикий шиповник
идет, как садовник суровый,
не знающий страха,
с розой пунцовой,
со спрятанной раной участья под дикой рубахой.»
Вот именно «спрятанной раной участья под дикой рубахой» здесь цепляет за чувства, открывает осязательный импульс. Притяжение света и радости имеет неожиданную проекцию в самых неожиданных моментах, мгновениях ее поэтических строк:
«Где—нибудь в углу запущенной болезни
можно наблюдать, удерживая плач,
как кидает свет, который не исчезнет,
золотой влюбленный мяч.»
Явление неожиданного образа: из «…углу(а) запущенной болезни» в «свет, который не исчезнет, в золотой влюбленный мяч». Это диаграмма выхода из темноты на свет дает поэтической душе кислород.
Содержательны стихи Дмитрия Бирмана в подборке журнала «Артикль». Автором великолепно выражена реальность познания мира и себя.
«Кто знает – что нам можно, что нельзя?»
– вершина прозрения, здесь поэт выступает Архатом, и сотворенный не им мир обретает язвительную отметку несовершенности творения. Честно и прямо поэт говорит о принципах и правилах жизни, перешагнуть которые способен только мост фантазии как замена реальности, разрушающей счастье. Это не стихийный выплеск эмоций, понятно, что сердцем выстаданные ощущения дисгармонии мира легли в основу сюжетов стихов Дмитрия Бирмана
. Истоки отчаяния в ироничном восприятии мира:
«Карикатурность бытия
уже давно зашла за грани…».
Лирическим героем стихов утрачена сердечная гармония, карикатурность входит в жизнь, и главной нотой становится минорность настроения, что для современной поэзии норма: личность и лирический герой поэзии Д.Бирмана ищет выхода из лабиринта судьбы.***
Сквозь многожанровость и непохожесть современной поэзии и разных поэтов одного на другого, нельзя не заметить прорывающийся голос прекрасного: природы, ее участия в судьбе лирического героя, совершенно неожиданные ходы лирического созерцания в глубине собственной души, поющей в унисон поэтам—современникам. Это может быть голос народной совести или проснувшегося сознания, когда сквозь гонки социальных перспектив рвется наружу собственный голос поэта. Такой голос надо услышать или разглядеть в строках, и нельзя его затыкать и делать вид, что раз он не похож на другие, то он «не наш», его нам не надо, – это неправильно. Поэзия многогранна, топить ее певчие голоса нельзя неосторожным словом, давлением на личность и душу поэта, ведь поэт пишет от души, и каждое слово против его открытого пения – чтения – прочтения эфемерно и невыносимо для поэта, автора стихов. Переубедить в чем—то своём и попытаться заставить писать иначе – это лишить голоса поэта. Ставить планки: выше нельзя, там занято – это абсурд, который только навредит мировоззрению автора и выведет на тропу войны. Тихо, на цыпочках, могут ходить не все, – это необходимо учесть многочисленным критикам, которые ставят во главу угла свое мировоззрение как единственно ценную идею. Понять и выслушать надо слабого, как сам голос нежности без грохота и лязга.
Стихи Людмилы Банцеровой потрясают великолепием с первых строк «Весной деревья ходят по земле…» – деревья ходят перемещаются, сквозят в пространстве своим великолепием. Я залюбовалась этим вдохновением, рвущимся наружу огнем души поэта, устремляющего свой взор к высотам духа, к говорящему огню листвы. Деревья «поцелованные Богом», как человек—гений, поцелованный Всевышним, деревья дают радость, умиротворение и любовь к родной природе. Хочется удивляться каждой строке – в каждой строке прелесть и восторг бытия. «(деревья) растут в небесье птичьем…»
«Небесье птичье» – похоже на имя населенного пункта, Града Небесного, чьи своды впускают в мир доброты, любви, душевного тепла, – именно эти качества присущи поэзии Людмилы и ее прекрасно поющей поэтической душе. А вот «…медленном крыле…» – это то самое волшебство поэзии, – деревья «…растут в небесье птичьем – медленном крыле…», деревья трепещут крыльями, чей размах отгонит печали и несчастья от человечества. Именно эстетика сохранения добра и тепла, радости жизни в этих певучих строках. Слова поют и душа поэта поёт! И насыщают эти строки любовью и добром. И сразу крещендо борьбы «…сраженье призовёт…» – энергия сопротивления во взаимодействии деревьев и природы: ветров, дождей, лесных обитателей – во всем есть энергия сопротивления и борьбы.
Насколько точны и выверены каждое слово поэта, каждый эпитет, сравнение и метафора! «…ветвями тонкими вонзиться в мирозданье…» – именно тонкими, подчеркивая хрупкость ветви, именно «вонзиться», так как энергия сопротивления искренне и бесповоротно движет стихию. «…вонзиться в мирозданье…» – придти и победить, как Юлий Цезарь, ворваться в пространство неба, не сгибаясь и не уступая, не встревая по—чужестрански, именно нанести мирозданью некий визит, проявить себя, – да, это похоже на спектакль, – быть главным действующим героем и лирическим героем поэзии Людмилы Банцеровой, творящей своим лирическим словом великолепие среди мироздания, в хаосе стихии.