Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане
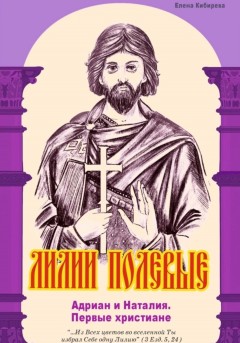
Аннотация
«из архива духовных чад протоиерея Григория Пономарева (1914-1997)»
Перед вами – седьмой сборник рассказов под общим названием «Лилии полевые…»
Книга вышла в серии «Из архива духовных чад протоиерея Григория Пономарева (1914-1997)» и названа «Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане» по названию церковно-исторической повести протоиерея Димитрия Алексича, вошедшей в сборник. В основу седьмой книги «Лилии полевые. Адриан и Наталия…» легли повести, рассказы, легенды первых времен христианства малоизвестных авторов дореволюционной России. Тексты произведений заимствованы и перепечатаны из православных журналов, издававшихся в конце ХIХ и начале ХХ вв. в России под грифами «От Санкт-Петербургского Духовного Цензурного Комитета печать дозволяется». Авторы большинства рассказов мало известны или имена их скрыты, так как в традициях имперской культуры России авторские тексты зачастую подписывались либо одной фамилией автора, либо именем, либо инициалами, либо литературным псевдонимом писателя.
С 2005 года по настоящее время православной редакцией «Звонница» подготовлено к печати семь сборников «Лилии полевые…», содержание которых наполняют рассказы и повести из архива зауральского священника Григория Пономарева (1914-1997 гг.) и его духовных чад. Отец Григорий перешел в мир иной вместе со своей супругой Ниной Сергеевной (в девичестве Увицкой) в один день 25 октябри 1997 года.
Пять книг этой серии ранее получили грифы издательского совета РПЦ.
Книга «Лилии полевые. Адриан и Наталия. Первые христиане» – сборник, составленный курганской писательницей Еленой Кибиревой из рассказов, собранных ею в библиотеках Северной столицы. Продолжая дело о. Григория, она более двадцати лет трудилась в научных фондах русских библиотек С.-Петербурга и откопировала более 20 000 страниц православных рассказов, повестей и легенд из истории христианства, большинство которых не переиздавались в России после революции ХIХ века. Ссылки на первоисточники и авторов взяты из архива зауральского исповедника веры о. Григория Пономарева, репрессированного за служение Господу нашему Иисусу Христу и Его Церкви в середине ХХ века. Тексты заново отредактированы, иллюстрированы черно-белыми карандашными рисунками. К рассказам даны примечания с обьяснением церковно-исторических терминов и малопонятных слов. Книга предназначена для семейного чтения.
Предисловие
Дорогие читатели!
Редакция «Звонница» представляет вам седьмой сборник серии книг для семейного чтения «Лилии полевые. Адриан и Наталия…» Мы рады новой встрече с вами и предлагаем погрузиться в чтение рассказов и повестей об исповедниках и христианских мучениках, живших в первые века христианства после пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа.
Обратим к вам, дорогие читатели, слова протоиерея Димитрия Алексича, в переводе с сербского, написавшего церковно-историческую повесть о святых мучениках раннего христианства «Адриан и Наталия» (изд. 1897 г.):
«Представить жизнь и подвиги святых христианских мучеников – дело далеко не бесполезное и не лишнее, в виду тех многих и многих десятков и сотен тысяч христиан, которым это описание может сослужить хорошую службу в деле спасения их душ. Благодаря истории, они могут извлечь из этого достоверного описания много поучительного и назидательного…» («Адриан и Наталия», Д. Алексич, стр. 90 настоящ. изд.).
Все рассказы и повести седьмого сборника «Лилии полевые…» объединены одним призывом: «Быть свидетелями Божиими, как свидетельствовали о Нем исповедники первых веков христианства».
«На Господа наша надежда, – пели первомученики, когда их вели на расправу диким зверям, – и что может сделать нам вся злоба людей! Христос наш Избавитель, и Он не оставит нас! За Него мы рады принять смерть, и Он украсит нас венцом мученичества! О, сколько радости умереть за Того, Кто столько страдал за весь мир! Да будет благословенно имя Его!» («Сестры Фабиолы», К. И. Семенов, стр. 450 настоящ. изд.).
Нам, жителям ХХI века, как и первым христианам, принявшим учение Христово, предуготован путь исповедничества, сражения за веру Крестом даже до крови.
Церковное предание хранит примеры жизни последователей Христа из первых апостольских времен, как свидетельства верности христианских мучеников Распятому Господу, и герои этих рассказов живут на страницах нашего нового сборника.
«Свидетельство о Боге – всегда опасность и риск, – пишет протоиерей Александр Шаргунов. – Быть свидетелем никогда не бывало легким. Чем неистовей ярится отступнический мир, тем ярче свидетельство, потому что Бог дает силу для свидетельства…» (https://t./me/Nikola_v_pyzhah/195).
Господь, действительно, дает нам силу веры – как через примеры первых мучеников христианства, так и через подвиги исповедников и новомучеников Российских, прошедших тяжкие испытания в годы богоборчества. Исповедники черпали эту силу из поколения в поколение от своих пастырей и святителей церкви, связь с которыми не прерывалась со времен Крещения Руси. Даром Духа Святой Троицы они черпали эту силу от непрерывно возносимой в алтарях Божиих молитвы к Небесному Царю, от заступничества за народ Божий православных монархов, от церковных преданий, хранимых Церковью.
Примером такого исповедничества служит жизнь зауральского митрофорного протоиерея Григория Александровича Пономарева (1914-1997 гг.), репрессированного в сталинское время и отбывавшего наказание в лагерях и угольных шахтах Колымы. Осужденный, как враг народа, отец Григорий только через шестнадцать лет вернулся из лагерей Крайнего Севера на Большую Землю, чтобы всею своею жизнью «свидетельствовать о Боге»…
Далеко за пределами Курганской области прославил Господь имя отца Григория Пономарева – исповедника веры. В народе батюшку еще при земной его жизни почитали как чудотворца и молитвенника. Его ежедневным, неотступным правилом было – ранний подъем в четыре часа утра, молитвенное стояние с чтением нескольких акафистов и канонов, исполнение намеченного плана по переписыванию десятков страниц духовных текстов, сугубые молитвы по прошениям и запискам, Божественная литургия в храме; далее – требы, поучительные беседы с паствой, хлопоты по храму, хозяйственные заботы… Спать в доме батюшки ложились далеко заполночь.
Духовные книги в годы репрессий священства в прошлом веке были запрещены богопротивными властями. Но отец Григорий, выезжая на учебные сессии в Духовную Академию Санкт-Петербурга, привозил из северной столицы в Курган тяжелые чемоданы с библиотечными книгами; он перепечатывал под копирку и переписывал вручную сотни и тысячи страниц свято-отеческих рассказов, повестей, притч, древнехристианских легенд и наставлений, сшивая их в самодельные книжицы. Эти тетрадки он дарил своим чадам, давая духовную пищу каждому по его потребе. Большинство рассказов из архива отца Григория уже опубликованы в сборниках книг «Лилии полевые…».
Во всем помощницей и спутницей отцу Григорию была кроткая и смиренная матушка Нина Сергеевна, урожденная Увицкая. И отец Григорий, и матушка Нина воспитывались в семьях потомственных священников и с юности стали свидетелями жертвенного служения Богу своих родителей, новомучеников и исповедников Российских – преподобномученика Ардалиона (Пономарева) и священномученика Сергия Увицкого, прославленных в сонме Уральских святых.
О подвиге отца Григория, более 40 лет прослужившего в храмах Свердловской и Курганской областей, и о его земном служении Церкви Христовой и Богу написана книга по воспоминаниям его дочери Ольги Григорьевны «Во Имя Твое…», а также издан двухтомник «Исповедник веры протоиерей Григорий Александрович Пономарев (1914-1997 гг.). Жизнь. Поучения. Труды» (Ольга Пономарева, Елена Кибирева. Звонница. Курган, 2006 г.).
Отец Григорий и матушка Нина Сергеевна (в девичестве Увицкая) прожили вместе 61 год и почили во Господе в один день 25 октября 1997 года, явив своей смертью пример истинно христианской кончины. Они похоронены в один день и в одной могиле во дворе Свято-Духовского храма, где служил батюшка, в пос. Смолино г. Кургана Курганской и Белозерской епархии. Он жил среди нас, свидетельствуя о Христе Распятом терпеливым несением своих скорбей и самой своей смертью.
«Свидетельство о Христе – нашу жизнь во Христе – нельзя откладывать на завтра, – пишет отец Александр Шаргунов. – Оно должно начаться с сегодняшнего дня… Как и нам стать свидетелями не одними только словами, а всею жизнью нашей, верностью Господу даже до крови? Ибо только такое свидетельство может быть услышано омертвевшим от безверия миром» (https://t./me/Nikola_v_pyzhah/195, «Сражение за веру»).
Сегодня в России строят храмы и освящают православные алтари. Но разве не беснуется отступнический мир в своем безумии в новое время? Разве не те же тираны из античного мира восстают против христианства, разрушая Церкви Божии, растлевая души не окрепших? Разве не уничтожаются ими города и земли древних христиан?
Поистине, мы живем во времена первохристиан.
«Я боюсь, – говорит героиня одного из рассказов этого сборника, первомученица, — не слишком ли долго продолжается мир, не слишком ли ослабели наши сердца? Не нужна ли борьба, чтобы их снова укрепить? Вихрь… может в один день, если его сюда направит дыхание Господне, разразиться над нашими головами, и тогда, без сомнения, ты, как и я, будем одинаково призваны на арену. Наступит великий день исповедания…» («Сестры Фабиолы», К. И. Семенов).
Исповедницу, не поклонившуюся жреческим богам, под крики безжалостных римлян, растерзали дикие звери на арене Колизея. Она стала свидетелем Бога, исполнив призвание «наполнить мир присутствием Христовым».
«За веру надо сражаться!» Готовы ли мы?
«Ты не знаешь, как велика сила Господа, – отвечала мученица своим тиранам, – и какую крепость Он может дать тому, кто следует Его Кресту и учению».
Нам есть чему учиться у первых христиан.
Обезумевшие от ненависти римские патриции требовали в сенате: «Смерть христианам! Христиан ко львам!»
«Где же преступления, – говорил в защиту христиан Квинт Септимий Тертуллиан, – за которые вы нас желаете преследовать? Правда, мы не признаем ваших богов, не посещаем ваших храмов, не приносим жертв. Но это потому, что мы познали лживость учения о ваших богах. Мы отвращаемся от всех тех пороков, которые совершаются у вас во имя религии и которые я не в состоянии назвать, так как при одной мысли о них краска покрывает мое лицо. Мы не принимаем участия в ваших зрелищах, потому что безысходным последствием их бывает потеря стыдливости и добродетели. Мы избегаем ваших театров, потому что они служат школой всяких пороков. И в то время, как вы отправляетесь на эти зрелища, подвергая явной опасности честь ваших дочерей и жен, мы остаемся дома, предаваясь молитве, чтобы Господь помог нам стать чище и возвышеннее. За что же вы желаете подвергнуть нас позорному преследованию?.. “Христиан ко львам”!? Но каким бы преследованиям вы нас ни подвергли, мы не изменим своему учению, которое проповедует высочайшую Истину» (там же).
Это подлинные слова христианского писателя-теолога Тертуллиана, извлеченные из его трудов.
И сегодня наши пастыри вопрошают нас: «Что вы, христиане, стоите и жалуетесь на мир и не несете миру слова жизни? Что вы ищете защиты от мира, в то время как ваше призвание – наполнить его присутствием Христовым? Восходя к Отцу Небесному, Христос завершил свой путь мучительной смертью. И точно так же первые ученики. И как показали наши новые мученики и исповедники…» (прот. А. Шаргунов. https://t./me/Nikola_v_pyzhah/195).
Рассказы и повести из ранних веков христианства, которые ты прочитаешь в этом сборнике, дорогой читатель, приведут тебя во времена безумных римских тиранов, которые, удерживая власть, употребят все свои силы на то, чтобы усидеть на троне. Они все сломят и свергнут на своем пути к славе и могуществу. Они все принесут в жертву идолу… Они прибегнут к помощи абсолютного зла и сами станут абсолютными злодеями.
Они будут гнать христианство, и уже гонят нас!
Мы должны обрести силу, чтобы не быть малодушными и не обратиться в бегство перед возможными испытаниями, преред сражениями.
Завтра мы придем в храмы Божии и соборно пропоем «Царю Небесный…», призывая Духа Святого как силу свыше, без которой мы не сможем стоять в вере.
«Без этой силы свидетельство невозможно, – учат нас духовные отцы. – С силой, которую дает Дух Святой, все будет иначе. Ибо это Он свидетельствует в нас, Он делает нас мужественными и непоколебимыми среди наших сражений. Вопрос всегда только в одном: каким покаянием, какой верностью Господу среди новых испытаний можем мы стать достойными принятия этого дара» (Протоиерей Александр Шаргунов, https://t./me/Nikola_v_pyzhah/195, «Сражение за веру»).
Аминь.
Елена Кибирева,
автор-составитель, член Союза Писателей России
8 июня 2025 года.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Рисунок Ольги Бухтояровой
Укротитель императорских львов
Рассказ из времен раннего христианства
Префект1 Бассус2 стоял возле императора и с жестокой улыбкой смотрел на рабов, вытаскивавших тела убитых и посыпавших свежими опилками красные пятна, пестрившие на арене. Начиналась самая интересная часть программы. До сих пор разнообразные развлечения этого дня были довольно обыкновенны: борьба, поединок двенадцати пар гладиаторов из двух знаменитых гладиаторских школ; охота Актеона3, изображаемая в лицах, причем роль Актеона играл красивый грек, обвиняемый в отравлении хозяина. Все это только разожгло страсти громадной ревущей толпы, наполнявшей все мало-мальски сносные местечки огромного театра.
Теперь наступила очередь христиан.
Уже неделю праздновалось рождение императора, соблаговолившего устроить торжество для всей Византии4. Лицинию5 было не по себе. Он поссорился с императором Константином, управлявшим западной частью государства, в то время как он сам управлял восточною. Он готовился начать гражданскую войну и собирал войско со всевозможной поспешностью, но ясно чувствовал, что народ не на его стороне. Неделя зрелищ была последней попыткой привлечь сочувствие черни. Лициний сбросил с себя наружное христианство и всенародно обратился к старым богам. При усердной помощи своей правой руки Бассуса, префекта Византии, император приказал схватить нескольких христиан и собирался предать их смерти, и не толпами, как это водилось обыкновенно, но поодиночке, чтобы лишить их взаимной поддержки.
Страдания несчастных должны были довести чернь до высшей точки возбуждения.
Бассус деятельно помогал Лицинию, но император не подозревал об истинной причине такого рвения своего помощника. Дело же было простое, весьма обычное для тех дней. Себялюбивый римлянин увидел христианскую девушку; ее редкая красота привлекла его, и он замыслил погубить ее чистоту. И чем более девушка отталкивала Бассуса, тем сильней росло в нем желание обладать ее прелестью, и когда она решительно объявила префекту, что он ей до того отвратителен, что она скорее готова умереть, чем покориться ему, страсть того обратилась в ненависть, и он заточил ее в тюрьму. И первой жертвой, выведенной ко львам, должна была быть она.
Арзасий, молодой персиянин, укротитель львов, вернулся из подземельных пещер, в которых жили дикие звери, и сам наблюдал за загороженным входом в конце арены, готовый по данному знаку поднять решетку, отделяющую диких, голодных животных от их жертв.
Лициний дал знак, вестники протрубили, большие железные ворота на противоположном конце арены распахнулись, и Кандида6, христианка, в длинном белом одеянии спокойно вышла на арену цирка.
Глаза всего сборища устремились на нее. Бассус нагнулся вперед и со злой улыбкой бросил к ее ногам венок из алых роз. Но Кандида ничего не замечала. Ее губы тихо шевелились в молитве, а прекрасные глаза упорно смотрели на клочок голубого неба, видневшийся промеж натянутого парусинового навеса.
Руки ее были крепко сложены на груди.
Бассус обернулся к Лицинию.
– Как эти христиане любят рисоваться! – насмешливо заметил он. – Дай знак, государь, впускать зверей, пусть их появление нарушит ее благочестивое настроение.
– Я не знал, что ты интересуешься ею, Бассус, – произнес император, взглянув на любимца.
Префект зло рассмеялся.
– Если не невеста римлянина, то невеста диких зверей, вот и все, – отвечал он.
Лициний улыбнулся на замечание царедворца и махнул рукой. Арзасий низко поклонился и, подбежав к концу площадки, поднял решетку клетки, и в ту же минуту два темногривых льва выскочили на арену с ужасным ревом, ударяя себя хвостом по бокам, и налитыми кровью глазами посмотрели на скамьи, усеянные народом.
Они шли, огибая арену, и вдруг один из них присел и прыгнул по направлению мальчика, бросившего в него камень, но стена была слишком высока, и животное с грозным рычанием упало обратно.
– Смирно, Юпитер! Смирно, Юнона! – закричал от решетки, которую собирался опустить, укротитель, обернувшись на крик мальчика.
– Ну! Начинайте же борьбу, – произнес Арзасий и разом остановился при взгляде на девушку, предназначенную на растерзание зверям.
Христианка опустилась на колени на самой середине арены и в порыве совершенно понятного страха скрыла лицо в складках своего платья. Раньше юный перс бесстрашно смотрел на борьбу своих львов с людьми, но нынче, в первый раз со времени своей трехлетней службы, ему приходилось видеть беззащитную девушку, обреченную на ужасную гибель. За последнее время преследования христиан утихли, а в далекой Персии, будучи мальчиком, он мало слышал о ненависти, питаемой римлянами к христианам, и еще менее понимал.
Львы послушались его слов, быстро обернулись и, увидев девушку, оба огромных зверя припали к земле и начали тихонько подкрадываться к ней. Словно кошки, подбирающиеся к какой-нибудь ничего не подозревающей птичке, они все ближе и ближе подползали к ней. Толпа смотрела, притаив дыхание, и на недолгое время водворилась тишина, нарушаемая лишь вздохом и подавленным рыданием. И вдруг среди молчания прозвучал детский крик… Прозвучал звонко и пронзительно:
– Кандида! Кандида! Посмотри, они идут!
Это был тоненький голос родной сестры страдалицы, голос единственного ей родного существа, оставшегося на свете: родители Кандиды умерли, и она взрастила оставшуюся сестренку скорее как мать, чем сестра.
Восклицание пробудило Кандиду. Нет, любящий ребенок не должен видеть ее смерть, ее тело, жестоко растерзанное львами. И в минуту, когда животные готовились прыгнуть, она поднялась на ноги и, собрав все силы, самым повелительным голосом крикнула:
– Есфирь, иди домой! Сейчас же ступай домой!
Она произнесла слова громко, отчетливо, чтобы ребенок, сидевший на самой верхней скамейке, мог ее услышать. Она говорила повелительно, желая скрыть невольную дрожь в голосе.
Но слова Кандиды имели неожиданное, странное действие. Львы, приученные слушаться голоса Арзасия, отлично поняли приказание: «Ступай домой». Они повернулись и пошли к своему логовищу.
Вздох облегчения и удивления пролетел над толпой, посреди которой было несколько христиан.
Как один человек, поднялись они на ноги и сделали хорошо известное движение большим пальцем, и театр наполнился криками:
– Чудо! Чудо! Пощадить, пощадить ее. Львы отказываются! Лициний, услышь нас!
И пока все ожидали ответа, Бассус бросился вперед, потеряв окончательно всякое самообладание.
«Она не вырвется, – думал он, – если это только будет зависеть от меня». И он начал горячо убеждать Лициния, чтобы тот приказал стрелкам поранить львов небольшими стрелами, дабы те бросились на жертву.
Лициний колебался. Бассус же, схватив горящий душистый факел, стоявший близ царского трона, бросил его на арену. По счастью, факел упал в двух шагах от напуганных шумом львов, продолжавших отступать.
Упавший факел брызнул целым дождем огненных брызг прямо в глаза одному из животных, и оно отскочило назад с гневным ворчанием. Между тем несколько камней, брошенных вольноотпущенными приспешниками Бассуса, жаждавшими выслужиться, разозлили львов. Они обернулись к беззащитной девушке, готовые обрушить свою злобу на первый попавшийся предмет.
Шум собрания возрастал. И в ту минуту, когда все махали руками и стучали ногами, Арзасий выскочил на арену и бросился бегом к Кандиде. На бегу он окликал львов по их именам и, добежав, наградил Юпитера ударом ноги, а Юнона, узнав господина, со злобным рычанием отскочила, при его приближении, в сторону.
Бассус, стоя наверху царского места, дико размахивал руками и что-то говорил, но за ревом толпы никто его не слышал. Когда же Арзасий криком и ударами загнал диких зверей в логовище, неся на руках Кандиду, префект погрозил кулаком укротителю львов, завернулся в тогу и исчез по особой лестнице, ведущей от царского места на арену.
«Вот таким образом, – говорит старый историк, – Арзасий, не будучи еще христианином, выказал свое расположение к ним».
Перс отвел Кандиду в дом одного из своих друзей и послал за маленькой Есфирью, чей голос, по воле милосердного Бога, спас сестру.
Поутру Арзасий был несколько удивлен ранним посещением своего приятеля, одного из дворцовых рабов. Он принес неожиданное и удивительное известие: Лициний, по возвращении домой, узнал, что император Константин, его соперник, идет на него, объявляя открыто себя защитником христианства.
В припадке бешенства, император охотно выслушал Бассуса, советовавшего ему захватить Арзасия за его самопроизвольное освобождение императорской узницы, и назло Константину немедленно захватить христиан – всех, кто попадется под руку, – и предать их смерти.
Конечно, Кандида должна быть схвачена первой.
– Отдай ее мне, государь, – говорил Бассус. – Я так буду обращаться с ней, что она не раз позавидует, что не умерла на арене!
Раб, подслушавший весь разговор, пришел еще до зари предупредить друга.
Арзасий был сообразительный и деятельный молодой человек, и раньше, чем раб вернулся во дворец, Арзасий уже был там, где Кандида провела ночь, и в нескольких словах уговорил молодую девушку бежать с ним, отклонив самым решительным образом все ее возражения и сомнения. Час спустя, Есфирь сидела уже на осле, ведомом персом, между тем как Кандида, переодетая негритянкой, шла возле, неся корзину с фруктами, словно на продажу.
Через два дня они переправились через море и были вне всякой опасности, в Никомидии7.
Легко себе можно представить, каково было бешенство Бассуса, когда он узнал, что обе жертвы ускользнули от него. Конечно, он не преминул бы разыскать их во что бы то ни стало и погнаться за ними, но он был вынужден заняться нуждами страны, не терпевшими отлагательства: Константин действовал быстро и уже шел на Византию. Со всевозможной скоростью префекту приходилось собирать войска и идти против врага.
Битва завязалась под Адрианополем8. Константин оказался победителем, оттеснив Лициния в Византию, оттуда в Халкидонию9, разбил его вновь под Хрисополисом10, где Бассус был тяжело ранен, и положил конец войне, разрешив побежденному императору удалиться в Фессалонику11. Бассус же, по странной случайности, удалился с остатком состояния, истощенного войной, в Никодимию.
Константин стал императором и навсегда положил конец римским преследованиям.
***
В течение войны, длившейся месяцы, Арзасий стал учеником Кандиды и христианином; получив место городского стража, он попросил Кандиду выйти за него замуж. Но та пыталась отказаться: ей не хотелось связывать его в то время, когда он начинает новую жизнь, хотя она и полюбила его как человека, который спас ее от смерти и позора. Кандида стала работать, чтобы прокормить сестру и себя. Время быстро проходило.
Мир был заключен, и велика была радость по всему свету, когда христиане узнали о своем освобождении.
Прошел год с тех пор, как Кандида стояла лицом к лицу со смертью. И вот однажды, в чудный весенний вечер, она возвращалась домой почти с пустой корзиной плодов и цветов, а рядом бежала ее сестренка. Ужасы прошлого были почти забыты, и она шла, спокойная и счастливая, по многолюдной площади, направляясь к кварталу, где она жила. Арзасий обещал покатать их по реке, когда взойдет луна, и они должны были поторопиться с ужином, чтобы не задерживать его.
Вдруг, свернув с площади на боковую улицу, Есфирь схватила сестру за руку.
– Посмотри! – с легким страхом шепнула она. – Кто это там?
Кандида взглянула в указанном направлении. По ту сторону дороги стоял мужчина, пристально смотревший на нее. Сразу она не узнала его. В поношенной и потертой тоге, с жесткой бородой на некогда чисто выбритом лице, раскрасневшись от вина, беспечно стоял Бассус. Удивление и ненависть мелькнули на его лице. Кандида же с легким вскриком схватила руку Есфири и, притянув ее к себе поплотнее, поспешно сказала:
– Идем, милочка, не смотри на него! Поспешим скорее домой!
Приближаясь к дому и заметив, что преследователь не отстает от нее, Кандида бросилась бежать. Вбежав в дом, она захлопнула на засов тяжелую дверь.
Что теперь она будет делать? Как убежит она, когда старинный враг нашел ее и стоит тут у дверей? Как известить Арзасия? Заглянув в маленькое дверное окошечко, она увидела префекта, смотревшего на окно со злой, довольной улыбкой на лице. К ее ужасу, перейдя дорогу, он сел под тенью портика12. Неужели он станет сторожить, когда она выйдет?
Но все же надо предупредить жениха.
Кандида вошла в комнату, поставила корзину на пол, вынула пергамент и принялась писать.
«Горячо любимому Арзасию, – писала она. – Бассус префект здесь и нашел меня. Он пошел следом за мной и теперь сторожит у моих дверей. Не приходи сегодня, чтобы он не нашел тебя. Каким образом мы можем бежать?» Покончив с письмом, она обратилась к Есфири, ничего не подозревавшей о грозившей им опасности и спокойно приготовлявшей незатейливый ужин.
– Есфирь, – сказала Кандида, пытаясь говорить спокойно, – сегодня вечером мы поиграем в новую игру. Беги вот с этой запиской к Арзасию. Но ты не пойдешь через дверь. Я буду там тебя сторожить, и ты должна попытаться пройти не замеченной мною. Можешь ли ты перебраться через стену, что позади дома?
Есфирь кивнула, с интересом слушая сестру.
– Ну и отлично. Там ты и проберешься. Теперь ступай и запомни: если я тебя увижу, тогда все пропало. Сделай все, как скажет тебе Арзасий.
Поцеловав дитя, восхищенное новой игрою, в которую входило лазанье через стену, Кандида закрыла лицо руками; ребенок скользнул прочь из дому и бесшумно исчез, как проворный мышонок.
Кандида облегченно вздохнула и, желая показать Бассусу, что она дома, вынула из корзины завядшие цветы и, отворив дверь, через которую она вошла, постояла с минуту на пороге на виду у префекта и бросила цветы на дорогу.
Бассус поднялся на ноги.
– Нежнейший привет, моя давно потерянная из виду красавица, – насмешливо произнес он и, перейдя дорогу, поднял цветы, с насмешливым почтением прижимая их к губам. Но Кандида вошла в дом и снова закрыла дверь.
Арзасий весьма удивился, получив записку, но сейчас же раскинул умом и сообразил, как поступить. Он прекрасно знал, что Бассус станет вредить Кандиде или ему, но исподтишка. Значит, Кандида днем, на работе, была вне опасности, а охранять ночью было уже его дело. Подождав немного, Арзасий повел Есфирь назад по незнакомой дороге. Он перелез через стену, и Кандида впустила его через ворота заднего двора. Молодая девушка, хотя и просила жениха держаться подальше, но при его появлении облегченно вздохнула и позволила прижать себя к груди с большей горячностью, чем всегда. Какое было для нее утешение чувствовать, что у нее есть покровитель и защитник.
– Он все еще здесь? – спросил жених.
– Да, здесь.
– Ну тогда в настоящую минуту ты вне опасности.
И в нескольких словах Арзасий раскрыл свой план.
Кандида должна тотчас же повенчаться с ним. Это даст ему право охранять и защищать ее, когда представится опасность. Но Кандида не соглашалась, страх и упрямство удерживали ее.
– Какое я имею право выйти замуж, когда мне грозит опасность и когда даже в спокойное время я отказываюсь от замужества? – воскликнула она.
– Самое лучшее право, моя голубка, право слабого, когда он знает сильного, – право, данное мною тебе, когда я сказал, что люблю тебя.
Кандида улыбнулась.
– Прости меня, мой дорогой. Подожди немного. Дай мне яснее рассмотреть мою дорогу. Дай нам посмотреть, что собирается предпринять Бассус. Если уж нам ничего нельзя будет придумать, то ты женишься на упрямой девушке и станешь поступать, как захочешь.
Арзасий поцеловал невесту.
– А теперь, – сказал он, – мы освободимся от соглядатая. Я покину тебя, но лишь для того, чтобы охранять твое жилище по ту сторону и до того дня, когда я буду иметь право охранять его изнутри.
И с этими словами он снова перелез через стену.
Несколько минут спустя, за спиной префекта, в тени портика, появилась фигура, закутанная в длинный плащ.
– Не оглядывайся, – произнес некто, угрожая префекту кинжалом. – Не годится бывшему преследователю христиан сидеть ночью вне дома. Теперь совсем иное время, чем было в языческой Византии.
Префект с проклятиями вскочил на ноги.
– Нет, не оглядывайся, мой кинжал у твоего затылка, и если ты вздумаешь познакомиться с твоим благожелательным другом и добрым советчиком, то, быть может, найдешь лишь своего убийцу.
Бассус неспокойно зашевелился. Он не мог узнать голоса и понять, каким образом незнакомец подошел к нему.
– Почему ты меня знаешь? – спросил он наконец.
– Префект Византии пользуется громкой известностью среди Никомидийского народа. Многие из них помнят о цирковой арене. Подумай, умно ли сидеть на страже у дома, где живет существо, которое ты некогда мучил и терзал?
Бассус, подавив бешенство, попытался отвечать с былым хладнокровием:
– Благодарю тебя, неведомый друг. Быть может, со временем я отвечу на твой вопрос.
И, собираясь уходить, префект поправил плащ.
Арзасий видел, как под плащом сверкнул клинок и, насторожившись, пустил в ход последнее оружие.
– И если ты внезапно обернешься, то мой свист созовет немало людей. Я здесь останусь, займу твое место и обещаю, что стану хорошо сторожить.
Целый поток ругательств вырвался у Бассуса, но он знал, что побежден, и, горделиво выступая, он вышел из портика и обогнул угол дороги.
С этого дня Бассус замыслил во что бы то ни стало завладеть Кандидой. Он вскоре раскрыл, что его неведомый противник не кто иной, как бывший укротитель львов, и его ненависть к Арзасию еще больше возросла, когда он вспоминал, как тот заставил его покинуть дом Кандиды.
Но теперь было гораздо труднее достигнуть своего, чем прежде, когда он был могущественным, влиятельным префектом Византии. Его собственная прислуга была слишком малочисленна, доходы уменьшились, и у него не было друзей.
Задуманный план он был принужден приводить в исполнение сам, при помощи нескольких рабов и его главного помощника, старого гладиатора, который из остатков привязанности последовал за своим господином в его падении. Этому-то человеку Бассус поведал о своем замысле, и, согласно его желанию, гладиатор отправился в трактир, где сходились члены местной гладиаторской школы, в поисках человека, который мог бы найти дикого льва и доставить его в дом Бассуса.
Гладиатор, вызвавшийся найти дикое животное, нашелся. Торг был заключен. Оба приятеля сидели и пили вино, быстро опорожняя кубки. Ниссус, слуга Бассуса, изрядно перепив вина, развязал язык и начал хвастаться своими былыми победами на арене. Другие же посетители питейного дома столпились вокруг и всё угощали да угощали его, желая выведать, зачем его хозяину Бассусу понадобился лев, ведь львы были редкие и дорогие животные. Приятель Ниссуса, сам старый гладиатор, был главой школы и вел большую торговлю всем, что требовалось для цирковой арены: львами, рабами, дикими животными и актерами. Но чем больше пил Ниссус, тем тверже хранил тайну хозяина. Видя, что он не очень податлив, его приятель принялся подсмеиваться над его падением, так что скрытые язвительные насмешки скоро привели Ниссуса в бешенство.
– Клянусь богами! – закричал он наконец. – Я не хуже вас. Пустите только меня на арену, привяжите мне одну руку, дайте железную перчатку атлетов, трезубец или что хотите, и я пошлю человека, который посмеет противостоять мне, в ад к его отцу!
Взрыв смеха, облетевший комнату, еще больше разозлил Ниссуса.
– Собаки! – заревел он. – Вы смеетесь над поверженным львом! Щенята вы и больше ничего! Я докажу вам, что старый лев еще умеет показать свои когти.
И с этими словами он вскочил на ноги, выхватил меч и набросился на близстоящего человека
Но гладиаторы и атлеты, привыкшие встречать опасность лицом к лицу и смеяться над ней, держались только за бока от смеха; некоторые из них окружили взбешенного Ниссуса и, вопреки его сопротивлению и угрозам, вытолкали на улицу.
– Протрезвишься, так приходи, старый лев, – крикнули они ему вслед и закрыли дверь.
Ниссус же остался посреди улицы, потеряв рассудок от пьяного бешенства, с обнаженным мечом в руке. Он с руганью и ревом ударял им по столбам, так что все встречавшиеся ему разбегались от него в разные стороны.
Видя это, он расхохотался безумным смехом и помчался за бегущими, разгоняя их по домам.
Так несся он из улицы в улицу, охваченный жаждой крови. Наконец на улице, где торговали фруктами, в его затуманенном мозгу мелькнула внезапная мысль.
– Уж не здесь ли торгует проклятая Кандида? – вскрикнул он, приостанавливаясь на мгновение. – Разве не она причина моего позора?
И он повернул свой бег назад, намереваясь отыскать ее и покончить со своими воображаемыми проблемами.
С сумасшедшим криком бросился он по улице, опрокидывая шалаши, стойки, разбрасывая фрукты, цветы. Покупатели и покупщики13 с криком разбегались при его появлении… И вдруг внезапно он очутился лицом к лицу с девушкой, которую искал. Сумятица настала так внезапно, что она не успела подняться из-за своего небольшого лотка.
– Ага, я нашел тебя… Теперь ты не убежишь! – завопил пьяный безумец и, прыгнув через столик, растянулся у самых ее ног.
– Помогите, помогите, – закричала Кандида, призывая кого-нибудь на помощь, и защитник мгновенно очутился возле нее.
Арзасий покинул невесту всего несколько минут перед этим. Привлеченный шумом, он поспешил назад. Быстро загородив ее собой, он ожидал, когда Ниссус, несколько ошеломленный своим падением, встанет на ноги.
– Ниссус? Из Византии? – холодно и отчетливо прозвучали эти слова над ухом гладиатора. – Вольноотпущенник Бассуса?
– Ниссус, это опасное место. Разве тебе не сказал об этом твой господин? Здесь живут христиане.
Гладиатор растерянно схватился за голову.
– Кто ты?
– Друг Кандиды. Как можешь ты так выдавать своего господина на людях?
Слова привели Ниссуса в себя. Гладиатор опомнился и, внезапно протрезвев, заговорил извиняющимся тоном:
– Уверяю тебя, достойный… достойный друг Кандиды… – не могу никак вспомнить твоего имени… – Ни я, ни мой господин ничего не замышляем против прекрасной Кандиды. Скажи, кто эта госпожа? Пусть будет ко мне благосклонна. Убеди ее, что нет против нее никаких заговоров, планов, замыслов… – ничего подобного… и затем прощай.
С этими словами, произнесенными с пьяной торжественностью, его голос замер в неясном бормотании.
Ниссус повернул назад и направился к дому своего господина. Опасность миновала, и народ вновь стал собираться к покинутым лавкам.
Прошла неделя. Бассус не подавал признаков жизни. Получив льва, он поместил его на заднем дворе. План его был готов, но он не сообщал его даже Ниссусу, покаявшемуся в том, как близок был он к разоблачению замыслов господина. Лежа ночью с открытыми глазами, Бассус только и мечтал об отмщении…
Арзасий же неустанно думал об опасности, угрожавшей его милой невесте.
Но вот однажды ему приснился странный сон. Он увидел свой город весь в развалинах, а церковь, любимая христианами, падает, погребя под своими обломками священников и народ. Видение было до того реалистично, что Арзасий на другой же день отправился к епископу и попросил его предпринять меры предосторожности, на случай, если сбудется его сон. Но епископ лишь усмехнулся и отверг его опасения, объяснив сон жаром или переутомлением. Но вечером того же дня Арзасию вдалеке послышались наяву раскаты грома. Гневное ворчание природы живо и ярко вызвало в нем воспоминание тревожного сна. Кроме того, он был уверен, что беда грозит и Кандиде, и усердно молил Бога пронести все несчастья мимо нее.
Когда он отпирал башенные ворота, где он жил, к нему подошла поджидавшая его старая негритянка и протянула записку.
– Вот письмецо, – проговорила она и прошла дальше по дороге, предоставив молодому человеку разбирать послание в сумеречном свете.
«Тысяча приветствий от Бассуса прекрасному укротителю императорских львов! – Арзасий невольно вздрогнул при чтении этих слов. – Быть может, достойному Арзасию небезынтересно узнать, что час тому назад красавица Кандида получила записку, предлагавшую ей явиться к ее возлюбленному, и сообщавшую, что он опасно ранен убийцей, подкупленным Бассусом, и лежит в башне и нуждается в ее заботливом уходе. Можешь себе представить тревогу прелестного создания, и с какой поспешностью она, накинув плащ, поспешила к своему милому. Но когда она переступила порог своего дома, там поджидал ее иной возлюбленный, постарше, под портиком, хорошо известным тебе, и она пошла с ним, будучи принуждена к тому силой, и теперь находится в его доме. Какова трагедия! Ей приходится произвести выбор: быть игрушкой Бассуса или добычей его льва. Боги, это звучит, как повторение той же истории, но только теперь нет уже более юного укротителя зверей, чтобы вмешаться. Да ниспошлет тебе Морфей14 приятных сновидений, мой милейший Арзасий».
У Арзасия вырвался хриплый крик, и он ринулся вниз по ступеням башни на улицу. Над его головой грохотал гром. Ужасная новость была так неожиданна, что у него не возникло никакого плана, как спасти положение, в котором оказалась его прекрасная невеста; он не мог даже собраться с мыслями… Все, что он понял из письма, это то, что она должна сделать выбор, и он не сомневался, каков он будет. Надо спешить к дому врага и сделать отчаянную попытку спасти ее.
Достигнув дома префекта, Арзасий принялся искать хоть какой-нибудь вход. Пройти через ворота, конечно, было немыслимым делом. Сбоку он увидел небольшое оконце, заделанное решеткой, футов15 на семь от земли. Казалось, это был единственный путь. Арзасий подпрыгнул и уцепился за прутья решетки, их было четыре, он потряс их, но усилия его были напрасны, и, наконец, в отчаянии он соскочил на землю. Снова пошел он к переднему фасаду дома и, к его удивлению, увидел ворота открытыми. Что бы это могло значить?
Арзасий крадучись перешел дорогу, поднялся по ступеням на кончиках пальцев. В передней никого не было, из помещения рабов не слышалось ни звука. Повсюду тишина. Он не знал, что Бассус отпустил рабов, желая привести в исполнение свое подлое намерение касательно беззащитной девушки, не рискуя быть уличенным, и потому Арзасий не мог постичь, зачем открыты ворота. Он живо заключил, что рабы где-нибудь внутри смотрят на пытку Кандиды. Арзасий вошел. Зал был пуст, он прошел через него по коридору на задний двор. Приближаясь к двери, он услыхал все усиливающийся рев льва. Молодой человек толкнул дверь и вошел.
У фонтана, посреди двора, стояла привязанная Кандида. Большой нубийский лев, прикованный к столбу близко от нее, пытался схватить ее когтями вытянутой лапы. Здесь не было ни Бассуса, ни рабов – никакого иного звука, кроме отчаянного львиного рева и громовых раскатов. Арзасий вошел во двор, и едва он переступил порог, как дверь мгновенно захлопнулась за ним. Он попался!
Насмешливый хохот долетел до его слуха, а сверкнувшая молния помогла ему увидеть, что Кандида была без чувств. Арзасий бросился к ней и, не обращая внимания на льва, гневно зарычавшего при его появлении, развязал веревки, связывавшие ее, и осторожно опустил на мраморный пол. Между тем лев старательно обнюхивал его и пытался дотянуться до перса.
– Привет тебе, Арзасий! – прокричал голос, заставивший молодого человека обернуться.
Наверху на балконе стоял Бассус.
– Я очень сожалею, что проглядел, когда ты пришел. Зачем ты трудился над окном? Мои рабы, эти лентяи, получили праздничный отпуск от своего снисходительного господина. Но когда я увидел, что ты решился доставить мне удовольствие своим посещением, я мог лишь открыть ворота и предоставить им безмолвно пригласить тебя войти.
– Поганый пес! – произнес Арзасий и, повернувшись спиной к врагу, занялся бесчувственною девушкой.
– Нет, не думаю, чтоб тебе удалось привести ее в сознание, – насмешливо произнес Бассус. – Оставь ее умереть, не подозревая о грозящей ей судьбе. Посмотри, здесь совсем как в амфитеатре. Цепь, к которой привязан лев, кончается кольцом, надетым на столб, – ты заметил это? Как только я кончу говорить, я спущусь в подвал, – он находится на аршин под твоими ногами, – и отпущу столб обратно в подземелье, оставив льва на свободе. Дикое животное уже неделю как ничего не ело и не пило.
Арзасий поднялся на ноги. Он понял, что он действительно пропался…
У него не было с собой оружия!
Бассус исчез. Лев упорно натягивал цепи, стараясь приблизиться к Арзасию, а Кандида лежала у ног перса. Молодой человек едва успел в быстрой молитве поручить свою душу Богу, как в ту же минуту столб зашевелился и ушел в землю. Лев был на свободе.
Арзасий приготовился защищаться, лев прыгнул к нему, но вместо того, чтобы впиться зубами ему в руку, животное потерлось головой об него, изогнув спину, проявляя все знаки расположения.
Царь Небесный! Это был один из львов, привезенных им самим в Византию год тому назад! Едва только Арзасий узнал животное, он подвел его к фонтану напиться. Бассус был прав: животное томилось жаждой. Когда лев утолил жажду, Арзасий поднял на руки Кандиду и вновь увидал Бассуса на балконе.
– Бог помог мне! – воскликнул Арзасий. – Лев – мой! И знает меня. Смотри, он не трогает меня!
Бассус нагнулся, стараясь разглядеть позу льва.
– Ах! – закричал он, гневно ударив себя по лбу кулаком. – Но ты не уйдешь от меня, собака!
И повернувшись, он исчез в доме и через мгновение влетел в ту самую дверь, через которую вошел Арзасий.
– Ты беззащитен и безоружен! – закричал Бассус. – Так умри же, раб!
И бросился на него с поднятым мечом.
Держа Кандиду в левой руке, Арзасий в ту минуту, когда Бассус приблизился, внезапно отскочил в сторону и ударил его кулаком, но удар не произвел должного действия, префект только покачнулся… И в эту минуту лев бросился на Бассуса.
Арзасий кинулся к двери со своей беспомощной ношей. Там, на улице, он мог бы быть в сравнительной безопасности. Но когда он бежал через приемную, он слышал за собою в темноте шаги префекта. Бассус, охваченный злобой, убил льва, но лев тоже успел нанести ему рваную рану, которая опасно кровоточила. И теперь он, стиснув зубы и превозмогая смертельную боль, молча преследовал свою добычу. Он знал, что у Арзасия тяжелая ноша, и надеялся быстро достичь его. Арзасий же надеялся найти по ту сторону на улице людей, которые помогут ему. Но там не было ни души. Все улицы были пустынны.
Гром гремел с нарастающей силой, и казалось, что над городом нависла угрожающая ему стихийная опасность. А между обоими врагами завязалось состязание, кто из них быстрее достигнет своей цели. Они не бежали, а, скорее, волочились, как раненые звери: один – медленно удалялся, придерживая руками дорогую ношу, другой, еле справляясь со смертельной раной, изо всех сил старался настичь его…
Тем временем поднялся сильный ветер, который привел в движение черные грозовые тучи. Крупные, тяжелые капли дождя начали падать на землю.
В воздухе запахло серой…
Арзасий чувствовал, что силы покидают его, и, призвав на помощь все небесные силы, он ускорил шаг, переходя на бег, чтобы поскорее укрыться в своем доме.
Бассус тоже напрягал силы и, желая настичь врага, сделал последнее отчаянное усилие схватить его.
Они оба задыхались, а воздух казался им душнее, чем когда-либо. И вот, когда враг уже был на десять шагов позади него, Арзасий плечом толкнул башенную дверь своего дома, осторожно неся впереди себя несчастную Кандиду. У него не было сил и времени захлопнуть ее за собой, и он взбежал по ступенькам наверх, надеясь найти в своей комнате меч. Но там было так темно, что он даже ощупью не смог бы отыскать там оружия. Тогда он положил бесчувственное тело девушки на пол и прикрыл ее собой. Бассус же ворвался в комнату и, рассмотрев в сумраке, что его враг стоит безоружен, с криком ринулся на него, подняв свой окровавленный меч.
В это мгновение сверкнула ослепительная огненная стрела, осветившая комнату голубоватым светом, и блеснула на стальном мече бывшего префекта.
Затем последовал громовой удар, заглушивший посмертный крик Бассуса и поколебавший башню до основания… Арзасий пошатнулся. Удар за ударом, стрела за стрелой небесного огня, и к вящему ужасу ему показалось, что сама земля задрожала и заколебалась. Это рухнула церковь. Арзасий слышал лишь глухой гул и не знал, в чем дело. Поднялись крики женщин и детей, поблизости рушились дома. А башня, в которой укрылся укротитель императорских львов, лишь колыхалась и качалась, словно была центром бури…
Рассвет застал Арзасия, его невесту Кандиду и ее сестру Есфирь за двенадцать миль за разрушенным городом. Никогда, о, никогда, не вернутся они к развалинам того города. Они, скорее, выберут унылую жизнь где-нибудь в голой пустыне, чем постоянно будут вспоминать об этой ужасной ночи…
Далее тихо и мирно потекла жизнь молодой четы, Арзасия и Кандиды, среди христиан в катакомбах Едессы* (*город, юго-восток Турции, центр раннего христианства). Их обвенчал христианский священник, и жизнь их была поучительна для многих.
М. Аверкиев
Журнал «Отдых христианина», №4 1906 г., стр 24-45
Два брата
Михаил Горев
Рассказ из первых веков христианства
Глава I. Пред страхом смерти
С самого раннего утра стоял пасмурный, дождливый день, и сердитый ветер, злобно шипя, набрасывался на прохожих в своих яростных порывах. Деревья гнулись и жалобно скрипели. На хмуром небе нависали серые, мрачные тучи.
У ворот римского цирка толпился народ. Наступали праздники, и кесарь Максимиан готовил для жителей Рима необычайное зрелище, выписав из Азии диких зверей. На съедение им были обречены новые государственные преступники, последователи Распятого – все те, кто непоколебимо чтил истинного Бога, отказавшись поклониться идолам, и тем нарушили указ великого кесаря. Сотни зверей будут выпущены на круг Колизея, и пред ними предстанут кроткие, безоружные «еретики». Сотни стонов вырвутся из измученных, усталых сердец, и алая кровь грозными потоками оросит арену цирка.
«Когда будут игры? Какая их программа? Сколько слонов, львов и пантер будет выпущено на арену? Какие христиане преданы на смерть?» – вот вопросы, которые волнуют толпу, в тревожном ожидании стоящую пред воротами цирка и ведущую непрерывные толки о предстоящем празднестве.
В это время вдали на дороге показались два фургона, завешенные белым полотном. Их сопровождал отряд воинов на породистых лошадях. Разговоры в толпе моментально смолкли, и все взоры устремились на необычный кортеж. Фургоны между тем приближались, из одного из них уже доносилось грозное рычание диких зверей.
Тяжелые ворота заскрипели и распахнулись настежь.
– Сюда? – отрывисто спросил один из воинов.
– Да, – ответил привратник. – Ты откуда?
– С гор.
– А что везешь?
– Поваров и мясо.
– Ну, брат, ты ошибся. Нам ни поваров, ни мяса не нужно.
– Однако ты примешь и то, и другое.
– Посмотрим.
– Будь уверен… Вот я покажу тебе сейчас поваров.
И с этими словами солдат приподнял полотно. В громадной железной клетке, на подстилках лежали усталые, изморенные долгой дорогой звери. Здесь были и львы, и апеннинские медведи16, и огромные волки с блестящими острыми клыками.
Привратнику сделалось жутко. Он в страхе зажмурил глаза и инстинктивно подался назад.
– Неужели?! – сорвалось с его трепещущих уст.
– Да, мясо для них приготовлено, – спокойно ответил воин и хотел было опустить полотно, но в это время один из медведей проснулся.
Вытянувшись во весь свой гигантский рост, испуская страшное рычание, он в бессильной злобе потрясал лапой один из прутьев клетки. Глаза его горели диким непримиримым огнем. Вид его был ужасен.
– Вот видишь, – сказал с усмешкой солдат. – Рекомендую тебе одного из самых лучших поваров. Не правда ли, такой силач может приготовить довольно порядочный бифштекс?
У привратника захолонуло сердце, ему до мучительной боли сделалось жаль ни в чем не повинных христиан. Ведь и он сам так любил Распятого, преклонялся пред Его дивным, никогда раньше не слыханном учением, трепетал при мысли о той грозной каре, которая ждет бесчеловечных мучителей.
Но он должен был рассмеяться.
– Ты не лишен остроумия, – заметил он воину, поспешно закрывавшему полотном клетку и направившемуся к другому фургону.
– Ну-с, теперь, если хочешь, посмотрим и мясо! Только я уверен, что оно произведет на тебя не такое сильное впечатление…
И воин приподнял плотно.
Странное зрелище представилось глазам изумленного привратника. В железной клетке на вязках соломы лежали полуобнаженные христиане. Их было шестеро: две довольно пожилых женщины, молодая, миловидная девушка, убеленный сединами старик и двое юношей.
Изможденные, мертвенно-бледные лица, впалые вдумчивые глаза, тихое заунывное пение – все это, как ножом, резануло по сердцу доброго привратника.
«Да они невинны…» – думал он.
«Они святые…» – говорила ему совесть.
«Святые!» – плакали и деревья под напором злобного ветра.
«Святые! Святые!» – грохотал где-то вдалеке встревоженный гром, и красно-багровая молния освещала своим ярким светом изможденные лица христиан и скорбного, тоскующего привратника, пристально вглядывающегося в лица невинных жертв людской страсти, бесчеловечной злобы мучителей. И когда красно-багровая молния еще раз осветила землю, привратник задрожал и в тайном страхе отпрянул назад…
– Марк!.. Аврелий!.. – чуть слышно прошептал он.
И видно было, что юноши-христиане тоже узнали привратника, вздрогнув от радости.
Только один из них тихо сказал:
– Маркелл!
«Спасти! Спасти их… – мелькнуло в голове привратника. – Но как? Где средство ко спасению?! Ведь это почти невозможно…»
Маркелл мучился в догадках, чем он может помочь этим детям. Ему до боли сделалось жаль невинных юношей, которые были ему когда-то друзьями, и он перебирал в уме средства к их освобождению от лютой казни.
Воины между тем отошли от фургона к привезенным зверям. Один из медведей, будучи чем-то раздражен, ухватился лапами за прутья клетки и, грозно рыча, мял их, как жалкие ветви. На его страшный рев откликнулись и дремавшие до сих пор другие звери. Воины грозными криками старались усмирить животных, но все усилия их были тщетны, и страшный рев десятка зверей оглашал стены мирного Колизея, смешиваясь со зловещими раскатами грома приближавшейся грозы.
– Отвезите их в цирк! – предложил один из воинов, и тотчас же солдаты поворотили лошадей, въехав под темные своды цирка.
Привратник оглянулся. Вблизи никого не было.
– Марк, Аврелий, помните! Маркелл думает… – проговорил он скороговоркой, торопливо приблизившись к фургону и также торопливо скрываясь за воротами цирка.
Он очень хотел помочь этим братьям. Но сможет ли? Да и какую судьбу выберет себе каждый из них…
Скоро христиан увезли. Толпа расходилась. На землю наползала мрачная ночь. Тени густели. Небо чернело и становилось все более грозным. Пугливая молния на мгновение прорезала ночную мглу, и страшные раскаты грома потрясали холодный воздух.
К цирку между тем направлялся новый кортеж.
В сопровождении десятка богато вооруженных воинов ехал Кальпурний, любимец кесаря, его правая рука. Это был человек крепкого телосложения, с коротко остриженными волосами. Его черные глаза, оттененные густыми ресницами, горели необыкновенной решимостью; вся вообще фигура была воплощением силы и власти.
– Привезли медведей с Апеннин? – грозно спросил он у привратника Маркелла, который поспешил почтительно вытянуться пред своим господином.
– Точно так.
– А узники?
– Они уже заключены в темницу.
– Проводи меня к ним!
Маркелл пошел вперед по направлению одной из мрачных камер сырого подземелья Колизея, а за ним следовал Кальпурний в сопровождении своей роскошной свиты.
Когда привратник отворил тяжелую дверь и ввел вельможу в низкую сырую темницу, тот брезгливо поморщился. На вязках соломы лежали исхудалые, изморенные долгой дорогой «преступники».
– Посвети, – проговорил Кальпурний Маркеллу.
Тот приподнял факел, и вельможа вперил свой пристальный взор в лежащего на соломе изможденного старца.
– Кто ты? – спросил он, измеряя его холодным взором.
Старец молчал.
– Ты хочешь сказать: «Раб богов»?! – допытывался Кальпурний.
– Нет, – поднимаясь, ответил тот. – Я признаю единого истинного Бога, о Нем же живем, движемся и есьмы, имя Которого я исповедую пред тобою и во имя Которого крещен водой и Духом.
Кальпурний сдвинул брови. Глаза его запылали неподдельным гневом.
– Презренный! Разве не слышал ты, что наши кесари приказали делать с дерзкими ослушниками царевой власти, разве не дрожишь при мысли о тех адских муках, которые тебя ожидают, если ты не отречешься от Распятого. Опомнись! Остановись! Не заходи слишком далеко в своем безумии.
Старец поднял свои исхудалые руки к небу, в глазах его светилась неземная радость, бесконечный покой.
И он тихим, дребезжащим голосом заговорил:
– Смерть за Страдальца Христа будет для меня величайшей наградой, бесконечной радостью. Об этом ведь я только молился, в том были все мои грезы, мечты. Так неужели ж?!.. О радость, счастье!..
Старик зарыдал. Кальпурний дал ему выплакаться.
Когда стихли рыдания, старец снова заговорил:
– Стар я. С каждым днем силы слабеют, безвозвратно покидают меня. Дни мои сочтены. Одной ногой уже в могиле стою. Скоро, скоро удалюсь я туда, откуда никто не приходит. Туда, где сладостная награда ждет благочестивых страдальцев за веру.
Глаза старца лихорадочно заблестели, все лицо его приняло отпечаток божественной красоты и запылало святым восторгом. Он схватил за руку сановного вельможу и, близко наклоняясь к его бесстрастному лицу, быстро зашептал:
– Кальпурний… Кальпурний… Ты ведь язычник, ты и понять не можешь, какое наслаждение терпеть и умирать за правду! Умирать за Того, Кто велел любить врагов, Кто говорил, что в Боге мы все равны, Кто обещал вечное счастье потерпевшим за Него. Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз успокою вы17… Успокою… Успокою… Кальпурний! Как дорог, как сладок быть должен этот покой.
И, гордо выпрямившись, он добавил:
– Нет! Делай, что хочешь… Я христианин, христианином и умру.
Кальпурний вскипел. Гнев душил его в своих мучительных захватах. И если бы было то в его власти, он здесь же, на месте убил бы старика.
– То, что ты сказал сейчас, – злобно шипя, прохрипел вельможа, – есть вместе с тем и ужасное признание. Если ты не возьмешь сию же минуту своих дерзких, кощунственных слов обратно, клянусь тебе: завтра львы и леопарды иступят свои когти на твоем жалком теле. Подумай, старик! Что готовишь ты себе своим проклятым безумием? Ведь, право, становится жаль тебя. Ну-ка, откажись скорее от своих заблуждений… Откажись!..
И последнее слово Кальпурния, стонущее и крикливое, затерялось в низких сводах подземной тюрьмы, оставшись безответным.
– Я христианин, – твердо повторил старец, прикладывая руку к своей трепетной груди. – Я христианин, и, как ученик Распятого, за Бога готов всегда умереть.
– Ну так и умрешь, – гневно вскричал Кальпурний и обратился к женщинам.
А те, изнуренные и сгорбленные, с седыми всклоченными волосами, с уже потухшим взором шепча молитвы, сидели беспомощно на грязной тюремной соломе.
– Женщины! Во имя кесаря дарую вам свободу, если вы отречетесь от Христа.
Женщины молчали. Ни один мускул не дрогнул на их исхудалых лицах. Жалкие, изнуренные, они устремили свои окаменелые взоры в одну точку, не замечая ничего вокруг.
– Женщины! Отрекитесь от Христа, и вы свободны, – еще раз прокричал Кальпурний.
Тогда одна из них подняла на вельможу свой тихий, беззлобный взор, и от него стало жутко Кальпурнию.
– Господин, – спокойно сказала она, – делай с нами, что хочешь, но не желай, чтобы мы отреклись от того, что дало нам узреть Свет Истины, показало новую жизнь, толкнуло на путь искания Правды Небесной. Нет, господин, мы не откажемся, не отречемся. Кто хоть один раз изведал всю радость нашей веры, тот никогда, даже перед самыми лютыми муками, не отречется от Христа. Что сказал бы ты, Кальпурний, если бы мы стали просить тебя отказаться от язычества и перестать служить своему монарху? Нет, скорее перестанет светить солнце и погаснут на небе звезды, чем мы отречемся от веры в Господа Распятого.
Кальпурний, сдвинув брови, гневно воскликнул:
– И на самом деле, для вас померкнет солнце, погаснут звезды, не далее как наступит завтрашний день. Ваши сердца, окаменевшие в заблуждениях, опутанные какой-то адской силой, завтра же станут пищей африканских пантер.
– Бог наша защита!.. В Его руках наша жизнь, наша судьба, – набожно поднимая свой взор, ответила другая женщина.
– Погибнешь! – прошептал Кальпурний и обратился к юношам.
– Вы кто такие? – спросил он их, окидывая своим мрачным взглядом.
Один из них быстро вскочил с земли и бесстрашно выступил перед Кальпурнием.
– Я Марк Фламиний, это – мой брат, а это сестра!..
Вельможа перевел глаза на молоденькую девушку, которой на вид можно было дать не больше 15 лет, и замер в восхищении.
Подобной красоты среди узников Колизея он еще не встречал. Ее миловидная русая головка грустно опустилась вниз. Светлые волосы обрамляли ее белоснежное личико и длинными локонами спускались на плечо и на хрупкую шею.
Темная камера сырой тюрьмы казалась светлей от присутствия в ней этой дивной девушки с ясным, спокойным взором.
На челе у вельможи расправились складки, и он, подойдя к узнице, погладил ее по голове.
– Как тебя зовут, девушка?
– Ирина…
– А твоего второго брата?
– Аврелий.
– Откуда вы родом? Где ваши родители?
Лицо девушки вдруг омрачилось, как бы от тяжкой душевной боли и, не ответив Кальпурнию ни слова, она стала громко рыдать.
Марк подошел к ней и, крепко обняв сестру, поцеловал ее в высокий лоб.
– Не спрашивай ее о родителях, – сердито сказал он вельможе.
– Почему?
– На это тебе гораздо лучше может ответить тот, кто привез нас сюда.
Кальпурний вскинул вопросительный взгляд на воина, которому было поручено охранять фургоны, и тот поспешно подал ему свиток пергамента, где было написано следующее:
«Я, начальник провинции Сицилийской, исполняя волю моего повелителя и великого нашего кесаря, продолжаю искоренять во вверенной мне провинции уже, к счастью моему, остатки преступной христианской ереси. Одних казню мечом, других, более дерзких и фанатичных, предаю мучениям, третьих, наконец, заключаю в темницы. Как это ни грустно, но я должен донести, что новая вера находит себе последователей и ярых поборников не только среди жалкого простонародья, но и людей высокопоставленных, обладающих несметным богатством и, кроме того, осыпанных вашими почестями, могущественнейший повелитель.
На сих днях я имел случай убедиться в этом на семействе Фламиниев.
Эти известные люди, вероятно, благодаря злодейским чарам, были вовлечены в преступную ересь и не только сделались ее последователями, но и стали открыто провозглашать новое учение в ущерб интересам религиозным и государственным. Я, конечно, тотчас же принял необходимые меры и заключил семью Фламиниев в тюрьму, потребовав от них немедленного отречения от веры в Распятого. И только когда они категорически отказались исполнить законное мое требование, я решил для назидания остальных предать их казни, а детей – Марка, Аврелия и Ирину – отправить в Рим, чтобы было чем развлечься нашему могущественному кесарю Максимиану18 после трудов государственных, когда на сцену цирка будут брошены эти последние птенцы Фламиниева стада».
Кальпурний начал читать довольно громко, но под конец стих до шепота. Скоро он окончил чтение и, свернув пергамент, отдал его своему приближенному.
– Марк, Аврелий, Ирина! – сказал он. – Подойдите ко мне!.. – и голос его артистически дрогнул, а из глаз демонстративно выкатилась слезинка.
Молодые люди подошли.
– Вы еще молоды, – ласково начал он говорить им. – Поступить с вами так же, как со старшими, не позволяет мне моя совесть. Пойдемте!.. Я сейчас вам покажу, что ждет вас, если вы будете пребывать в ослеплении и в своем безумии не послушаете моих отеческих советов.
И с этими словами он сделал знак воинам. Те в ту же минуту окружили Фламиниев, направившись через узкий коридор на арену цирка.
Крик удивления вырвался из груди Марка.
Такого громадного здания ему еще не приходилось никогда видеть.
– Боже, какое величие! – воскликнул он, озираясь по сторонам. – Ведь, право, можно подумать, что это здание строили не люди, а существа, одаренные какой-то адской, сверхчеловеческой силой.
Кальпурний просиял.
Он был доволен тем первым впечатлением, которое произвел на узников гигантский Колизей.
– Нет, друг, – заговорил он более ласково и мягко, – это здание строили жалкие рабы, взятые в плен Веспасианом19 в блестяще оконченную им иудейскую войну.
– Но такое грандиозное величие! Это колоссально! – продолжал восхищаться пораженный Марк.
– Да что про это и говорить! Ведь в цирке могут свободно поместиться до 390 тысяч20 (данные автора) зрителей. На одну только арену можно выпустить 300 наездников, 500 пеших гладиаторов, да несколько десятков слонов.
Насколько Марк с удивлением и любопытством, настолько же Ирина с ужасом и тайным страхом разглядывала роскошные, богато убранные ложи. Несколько десятков дымных факелов заливали эти ложи ярким светом, и они горели тысячью разнообразных огней, отраженных в их золотых, драгоценных украшенях.
С арены узников ввели в одну из боковых лож, куда за ними вскоре последовал и Кальпурний.
– То что вы сейчас увидите здесь, на арене, запомните хорошенько. Это все приготовлено для тех, кто упорно остается глухим ко всем моим увещеваниям и, пренебрегши велением кесаря, в позорном ослеплении чтит Распятого, дерзко отрекшись от наших великих богов. Помните, на съедение голодным зверям будете брошены и вы. И твое нежное тельце, Ирина, обнаженное пред взорами многотысячной толпы, растерзают хищные пантеры!..
Ирина в страхе прильнула к груди Марка и громко зарыдала.
В это время в глубине темного входа раздалось зловещее рычание какого-то дикого зверя. Железные ворота раскрылись, и на арену выскочило несколько голодных африканских львов. Испуская грозное рычание, они полными непримиримой злобы глазами смотрели на стоящих в ложе людей, как бы готовясь сию же секунду броситься на них.
Подавляя крик ужаса, Ирина закрыла руками свое миловидное личико, Аврелий отступил в глубину ложи, а Марк стоял, словно окаменелый.
Но вот в его прекрасных глазах блеснул огонь необычайной решимости, он расправил свои могучие плечи и громко вскричал:
– Дайте меч… Меч!.. И я, клянусь, усмирю всех этих диких зверей.
Кальпурний нахмурил брови.
– Сумасшедший! – недовольным тоном воскликнул он. – Неужели ты не видишь, что погиб бы раньше, чем успел поднять свой сверкающий меч?
– А я тебе говорю, что чувствую сейчас в себе страшную силу… Я… я… и без меча готов броситься на этих голодных животных.
– Безумец, – прошептал еще более недовольный вельможа и дал знак загнать в клетку выпущенных зверей.
Но вот на арене появились пантеры.
С диким ревом, сверкая налитыми кровью глазами, в которых мелькал по временам зеленый огонь, они с ловкостью кошек кружились по арене, разбрасывали острыми когтями красный песок и, блестя своими белыми клыками, хищным взором смотрели на ложу бедных братьев и сестры Фламиниев, поминутно разевая свою огромную пасть.
Аврелий еще дальше отошел вглубь ложи. Его лицо носило на себе отпечаток неподдельного ужаса и было мертвенно-бледным. Только один Марк по-прежнему оставался спокойным и грозно смотрел на зверей.
Вскоре зрелище изменилось. Вся арена была вдруг залита выпущенной из скрытых бассейнов водой, и в ней плавало множество крокодилов и гиппопотамов. Эти отвратительные животные своим видом больше всего напугали Ирину. Бедная! Она прильнула к пораженному Марку и, трепеща от страха, в горьком отчаянии заламывала пред ним свои белые руки.
– Возьми… возьми меня отсюда! Боже мой! Я боюсь.
На лице Кальпурния заиграла довольная улыбка. Он весь просиял от неожиданной радости и, видя отчаяние девушки, не сомневался более в успешном окончании возложенного на него кесарем поручения, не сомневался в том, что эти птенцы Фламиниев отрекутся от веры в Распятого и славу, роскошь, богатство предпочтут сырому подземелью и ужасам позорной смерти на арене цирка.
– Ты можешь быть свободна… Это зависит от тебя самой. Скажи только одно слово, и почести, богатство, спокойная жизнь будут вечно уделом твоим. Не противься. Скажи! Неужели ж хочешь обречь ты себя на съедение этим мерзким зверям?! Образумься, пока не поздно, пока есть возможность чистосердечным раскаянием загладить ошибки своего постыдного суеверия.
– Какое же это слово? – спросил Марк, поддерживая горько рыдавшую у него на груди Ирину.
– «Я не христианка», – торжественно изрек вельможа. – Отрекитесь от веры в Распятого, и вы все будете свободны. Кесарь помилует вас. Мало того, он будет заботиться о вашем семействе как самый нежный, любящий отец.
Ирина вздрогнула.
Гордо выпрямившись, она подошла к Кальпурнию и сквозь душившие ее слезы громко вскрикнула:
– Нет… нет… Никогда!.. Я христианка!.. Я люблю Распятого Иисуса!
Ее голосок, молодой и звонкий, как серебристый звук арфы, огласил мрачный Колизей и затерялся где-то в высоких сводах. Глаза Ирины блестели неземным огнем, лицо было неприступным, грудь мерно вздымалась от мучительных порывов душившего ее негодования.
И Марк залюбовался ею. Такой ему еще никогда не приходилось видеть Ирину.
– Дорогая сестра! – вскричал он, бросаясь к ней. – Сестра моя Ирина! Я горжусь тобою…
Только один Аврелий во все время не проронил ни слова. Взволнованный и бледный, с дико блуждающими глазами, с облаком грусти на челе, он в беспокойстве посматривал то на возбужденных брата и сестру, то на вскипевшего гневом Кальпурния. И Бог знает, какие страшные мысли роились в его молодой голове.
– Богами Древнего Рима, – кричал между тем вельможа, – Юпитером Капитолийским21, богинями Юноной22 и Минервой23, всем тем, что есть страшного и святого на свете, клянусь вам страшной клятвой в том, что если вы в безумном своем упорстве не отречетесь от веры в Распятого, то прежде чем солнце вторично озолотит своими яркими лучами башни Колизея, вы погибнете ужасной смертью в присутствии тысяч зрителей. Здесь, на этой самой арене, которую вы видите перед собой, этим самым грозно рычащим зверям вы будете брошены на съедение. Злые леопарды будут точить об ваши жалкие тела свои острые когти; львы и пантеры будут на глазах у всех рвать ваше мясо, и хладный народ встретит вашу позорную смерть тысячью рукоплесканий и восторженными криками. Заклиная вас всеми римскими богами, всем, самым дорогим на свете, отрекитесь от Распятого, скажите последнее слово, не заставляйте меня прибегать к жестокости и смерть вашу считать искупительницей за ваше упорство и безумие…
Но Фламинии не могли ничего ответить. Марк и Ирина, плотно прижавшись друг к другу, стояли, как два каменных изваяния. На их лицах не было теперь ни прежней гордости, ни бесстрашия. Неприступные и равнодушные к предстоящим своим страданиям, они светились каким-то удивительным упорством и непонятной уверенностью в себе, словно надеялись на промысел Всемогущего Неба, ждали в помощь себе Ангела мира, который освободил бы молодые жизни от страшной гибели и ранней мучительной смерти.
Зато Аврелий был всецело возбужден. Яркая краска заливала его молодое лицо, руки дрожали, сердце неудержимо билось в трепетной груди. Видно было, что в нем происходит страшная внутренняя борьба, на что-то хочет он решиться, но не хватает сил, что-то пробует сказать, но слова замирают на дрожащих устах.
Эта внутренняя борьба не укрылась от взгляда зоркого Кальпурния. Лицо его сделалось более мягким, довольная улыбка заиграла на устах, и он, подойдя к Аврелию, ласково обнял его.
– Юноша! – заговорил он. – Я вижу на твоем лице проблеск благоразумия, я замечаю, что ты начинаешь понимать всю нелепость служения Распятому, все то безумие, охваченные которым хотят завтра предстать пред многотысячной толпой твои брат и сестра. Юноша! Обратись к ним, спроси, почему Марк и Ирина на заре своей жизни, в расцвете своих юных сил хотят погибнуть мучительной смертью, почему они пренебрегают моими советами и теми милостями кесаря, которыми тот их несомненно осыплет.
И Кальпурний, близко наклонясь к смущенному Аврелию, не спуская с него глаз, торопливо зашептал:
– Подумай… Завтра эта сцена обагрится их молодой кровью, завтра многотысячная толпа будет в восторге любоваться, как львы и леопарды с ревом бросятся на осужденных… Завтра… Завтра… Подумай! Будь благодетелем своего брата и сестры. Юноша, спаси их. Это твой прямой долг, прямая обязанность.
И Аврелий не устоял…
Все его лицо, так недавно бывшее мертвенно-бледным, теперь покрылось густой краской. Он дрожал, как в лихорадке. Жажда жизни и страх смерти боролись в нем со стыдом и голосом его сердца.
– Господин, – пролепетал он наконец, весь дрожа от волнения.
Кальпурний еще ближе наклонился к нему.
– Говори, говори все, – ласково сказал он, и в голосе его звучала плохо скрытая радость.
– Господин! Сжалься над моим братом и сестрой, а я… я…
Но Аврелий не мог закончить. Слова замерли на его устах, а вместо них раздались глухие рыдания.
– Ну ты?.. Ты… Что?
– Я… – подавляя рыдания, глухо простонал тот, – я за их жизнь сделаю все, чего потребовал бы ты от меня.
– Отречешься от Христа?
– Да… – едва слышно проронил Аврелий и, обессиленный, упал как мертвый.
– Обморок, – недовольно проворчал Кальпурий и, подозвав стражу, громко сказал ей:
– Увезите юношу в мой дворец. Чтоб ухаживали за ним, как за моим родным братом. Пусть не будет у него ни в чем недостатка; богатство и роскошь должны стеречь его столь дорогой покой.
И воины уже подошли к Аврелию, чтобы поднять бесчувственное тело, как вдруг внезапно выступил вперед Марк и, загораживая грудью дорогу, грозно вскричал:
– Нет, никогда я не дам тронуть его. Он христианин! Отречение у него ты вымучил, безжалостный Кальпурний. И горе тебе! Он христанин! Слышите! Хри-стиа-нин!
– Христианин, – кричала и Ирина, заслоняя собой брата и проливая целые потоки слез.
– Нет, он уже не христианин, – загремел Кальпурний. – Он ваш спаситель. Если бы не он, завтра львы и пантеры растерзали бы ваши жалкие тела и наказали за безумие. А Аврелий? Аврелий уже отрекся от Христа…
– Позор ему! – горько воскликнул пораженный случившимся Марк.
– Боже, сжалься над ним, – плакала Ирина.
А воины, холодные и бесстрастные, чуждые людскому горю, людским беспросветным рыданиям, выносили из ложи бесчувственного Аврелия, уже не христианина.
Даже спокойный Марк и тот зашатался, не имея сил подавить душившие его рыдания.
– Ирина! – воскликнул он. – Дорогая сестра Ирина! Так Аврелий отрекся от Христа?! О Боже! Зачем дожили мы до той ужасной минуты, зачем раньше львы и леопарды не растерзали нас и не дали нам блаженного покоя в смерти за Христа? Зачем?
– Замолчи! – крикнул на Марка Кальпурний. – Твои сожаления только ухудшают вашу участь. За упорство ты будешь сидеть в темнице рядом с пантерами и львами, а Аврелий пойдет по дороге к власти и почестям. Уже сегодня он вам делает благодеяние тем, что спасает вашу жизнь.
– Позор для него за такое спасение! – воскликнул Марк.
– А для тебя жизнь и горькое прозябание, – ответил Кальпурний и, хлопнув дверью, вышел из ложи.
Через несколько мгновений Марк и Ирина были заключены в одну из мрачных камер сырого подземелья Колизея.
Глава II. В золотой клетке
В роскошных палатах Кальпурния, где стены блестели сверкающим золотом и высокие мраморные колонны поддерживали расписанный фресками потолок, там, в глубокой тоске и одиночестве томился бедный Аврелий – отступник от Христа, отрекшийся от райского блаженства. Сквозь проделанное в потолке широкое отверстие виднелось голубое небо, и целый сноп лучей врывался в комнату, наполняя ее своим веселым светом. Гигантские картины украшали внутренность комнаты, и прекрасные статуи богов горделиво высились на залитых светом блестящих треножниках.
Аврелий поднялся со своего мягкого цветного ложа, протер глаза и стал в изумлении разглядывать незнакомую обстановку. Никогда не видевший ничего подобного, он приходил в неописуемый восторг и радовался, как малое дитя. Мягкое цветное ложе казалось ему верхом роскоши после невыносимо жесткой подстилки в тюрьме, а яркие солнечные лучи особенно милыми после мрачного подземелья Колизея.
– Как я попал сюда?! – задавался вопросом Аврелий, и в его голове с быстротою молнии пронеслись тяжелые воспоминания вчерашнего дня. Скорбные и тоскливые, они ножом резанули сердце юноши, и от них вдруг сделалось невыразимо горько на душе.
Схватив себя за голову, Аврелий поднялся с мягкого ложа. Кровь прилила к его горящему, как в огне, лицу, в висках стучало, всего его била нервная дрожь.
Но, чу… Что это? Откуда-то издалека льется дивная гармония звуков. Звуки тают, плывут и, окутанные нежной скорбью, замирают за колоннами роскошных покоев. Это были чудные звуки арфы. В них слышалось столько томления и неги, так тихо и грустно звучали они, что Аврелий почти машинально опустил было поднятые руки и, замерев на месте, слушал их, как очарованный. Нежные звуки музыки то высились, то опять стихали, становясь бесконечно грустными, и вдруг наконец замолкли.
Очарование кончилось, и, пробудясь, Аврелий не мог устоять против поднявшегося в его душе непреоборимого любопытства. Ему захотелось непременно узнать, откуда раздавались звуки, кто так дивно играл на божественной арфе.
Напрасно он обходил комнату, тщетно стараясь найти кого-либо за высокими креслами, напрасно звал дивного певца и музыканта. Никто не откликался. И комната, пустая, молчаливая, как будто насмешливо дразнила Аврелия своей величественной красой.
А в душе его одно за другим пробуждаются страшные воспоминания; все недавно пережитые события стоят перед ним как живые. И вспоминается ему ужасная минута, когда из страха смерти, из страха перед дикими зверями он, Фламиний, отрекся от Распятого Христа. Ему видится полный презрения взгляд храброго Марка, слышатся тихие слезы Ирины и грозный голос Кальпурния.
– Стыд… Позор… – шепчут дрожащие уста Аврелия, и он в испуге озирается кругом.
***
Та же комната, роскошная и молчаливая, те же стены, украшенные холодными картинами, та же гробовая тишь. Аврелий срывается со своего места, он хочет бежать куда глядят глаза, лишь бы вырваться из столь постылой клетки, он хочет возвратить свою дорогую свободу. Роскошная комната кажется ему сырым подземельем. Ему душно в ней, он задыхается в бессильном гневе на выудивших у него ужасное признание – на тех, кто оторвал его от брата и сестры. Он мучается страшной мукой богоотступника и предателя Страдальца Христа.
– Нет, никогда… Вон отсюда… Бежать… бежать… Найти сестру и брата. Каких бы ни стоило усилий, но бежать надо… Я не могу здесь оставаться… Мне жутко, – шепчет Аврелий, трясясь от нервного волнения, и, стиснув кулаки, бросается вперед.
А где-то вдалеке опять раздается дивный аккорд. Чарующие звуки арфы, нежные и бесконечно тоскливые, опять просятся в душу юноши.
Мелодия, скорбная и неземная, опять наполняет дворец своими неслышными вздохами… И замирает Аврелий. Бесконечно печальный, он прислушивается к этим нежным звукам, что дивной струей разливаются по комнате, и чувствует, как далеко куда-то отходят гнев и тоска, как неземной покой и безмятежное счастье овладевают его тревожной душой.
В горящих гневом глазах зажегся добрый огонь, на устах его заиграла радостная улыбка тихого счастья. Аврелий, сам того не замечая, садится на ложе и, оперевшись головой об изголовье, глубоко задумывается. Музыка уносит его в волшебный мир грез и фантазий, он видит себя в кругу родной семьи, слышит голос любимой матери, смотрит в ее дорогое лицо, чувствует теплоту и нежность материнской ласки, и так хорошо и сладко ему…
Еще мгновение, и лицо Аврелия искажается от ужаса. Он в страхе отшатывается назад. Пред ним – картина мученической смерти родителей, разрушения отчего дома, в котором он родился и вырос и с которым сжился всею своей детской душою.
А музыка не умолкает. Громче и громче раздаются дивные звуки; они манят, зовут к себе очарованного юношу, сулят ему радость, покой. И Аврелий ищет дивного певца, чтобы поклониться божественному вдохновению. Непреоборимое любопытство гложет его сердце в своих тревожных захватах.
Взор юноши падает на широкую портьеру, закрывающую вход в следующую комнату.
– А, вот ты где, божественный певец… Наконец-то! – радостно издает он восторженный крик и стремглав бросается к портьере.
Дрожащей рукой он отдергивает ее расшитый золотом край и в изумлении отступает назад.
То, что он увидел, было, скорее всего, сном, чем действительностью.
Окруженная десятком невольниц, на мягком диване сидела прекрасная римлянка. Задумчивые взоры красавицы были устремлены в бесконечную даль, а на ее хорошеньком личике играл легкий, здоровый румянец.
В руках она держала золотую арфу, струны которой так приятно звенели, так манили к себе, чаровали юношу. Ближе и ближе подходил он к римлянке, но, странное дело, ее божественная краса не останавливала взоров Аврелия.
Горящие лихорадочным блеском глаза юноши были устремлены на жалкую рабыню, одну из тех невольниц, что живым кольцом сидели у ног своей госпожи и повелительницы. Смущенный и растерянный, он смотрел и не верил своим глазам. Так это было все странно и необычно… Дрожащие уста его тихо шептали:
– Ирина здесь… Ирина… Может ли быть это?! Нет, я не верю…
Но не поверить было трудно. Миловидное личико, правильные черты лица, светлые волосы с длинными, спускающимися на плечи локонами, – все это было только у Ирины, у его дорогой сестры. Надо было верить, и Аврелий поверил. С восторженным криком, весь дрожа от радости, он бросился к невольнице, чтобы обнять дорогую сестру, выплакать на ее груди все горе, всю тоску и муку исстрадавшейся души, всю горечь бедного, усталого сердца.
«Ирина!» – хотел было крикнуть он, но голос осекся, крик замер на полуслове, и лицо исказилось ужасом.
Аврелий почувствовал на своих плечах две сильные, мускулистые руки. Кто-то, причиняя ему боль, схватил его, как малого ребенка и, держа под мышки, понес к тому самому ложу, на котором юноша провел тревожную ночь. Теперь только, когда Аврелия силком успадили на его ложе, он мог разглядеть своего обидчика: перед ним стоял огромный негр с черной курчавой головой, с покорно опущенными руками.
– Кто ты?! – весь дрожа от гнева, спросил Аврелий.
Негр молчал и спокойно смотрел в противоположный конец комнаты, разглядывая, по-видимому, сильно заинтересовавшую его какую-то картину. Аврелия это странное молчание негра взбесило еще больше.
– Я спрашиваю тебя, кто ты?! Наконец, должен же ты мне ответить, по какому праву запрещаешь переступать порог той комнаты, чтобы обнять дорогую сестру?!
И Аврелий покраснел от гнева и досады, когда пришлось ему вторично спрашивать ненавистного негра.
В страшном волнении он даже хотел подняться с ложа. Негр и на этот раз не проронил ни слова. Только впился в его плечи своими мощными руками и, когда юноша привстал с постели, посадил на место.
Нельзя описать того негодования, которое вдруг охватило бедного юношу. Все лицо его пылало от гнева, и по временам на нем выступали красно-багровые пятна. Взбешенный Аврелий, не помня себя от обиды и отчаяния, оттолкнув негра, стремглав бросился туда, откуда неслись звуки чарующей музыки, где сидела в ногах прекрасной римлянки горячо им любимая, дорогая сестра.
И когда юноша был уже почти у своей заветной цели, когда лишь один порог отделял его от той комнаты, где раздавалась дивная музыка, черный негр опять схватил его и, подняв кверху, с силой бросил на мягкое ложе.
У Аврелия закружилась голова, сотни искр замелькали в его изумленных глазах, а негр, все такой же величественный и равнодушно-спокойный, покорно стоял подле него.
Наконец-то Аврелий понял, а чем дело: этот негр был приставлен к нему, чтобы не впускать его в комнату, где сидела Ирина и дивно игравшая на арфе красавица-римлянка. И лишь только понял это Фламиний, он уже не делал ни малейшей попытки к бесполезному сопротивлению; наоборот, он как-то странно притих и только в его пристальных взорах, которые он устремлял на ненавистного негра, светился злобный, непримиримый огонь. И когда смотрел Аврелий на черное мясистое лицо невольника, лютая ненависть глодала его сердце, злые помыслы захватывали его и становились еще более мучительными от сознания того, что негр нем, что он не может проронить ни слова и понять всего того возмущения, которым была полна душа юного Аврелия…
В это время портьера, из-за которой лились чудные звуки музыки, зашевелилась, и в дверях показались два мужа. Один из них был одет в великолепную пурпуровую тогу. По его гордой осанке, красивым глазам, которые горели властным огнем, можно было узнать в нем повелителя Максимиана, другой был Кальпурний, уже известный нам любимец кесаря.
Максимиан гордо входил в комнату с высоко поднятой головой, с пристально устремленными вперед глазами. На почтительном расстоянии от него следовал Кальпурний.
Вдруг Максимиан остановился и вскинул на Аврелия свой острый, пылающий неподдельным гневом взгляд. И лишь только черный негр заметил сердитый взгляд кесаря, как неслышно отошел вглубь комнаты и там остановился, как неподвижное каменное изваяние.
– Так значит, Кальпурний, завтра в цирке начнутся игры? – проговорил Максимиан, продолжая, должно быть, еще раньше начатый разговор.
– Да, кесарь, – с деланной скромностью ответил Кальпурний и низко опустил свою голову.
– А хватит ли христиан, чтобы вдоволь насытить голодных зверей и жадный до кровавых зрелищ народ?!
– Да. Ведь вчера еще привезли их целый фургон…
– А сегодня?
– И сегодня ожидаем. Из сицилийской провинции обещали прислать десятка два несчастных последователей Распятого.
– Хорошо, – в восторге потирая руки, проговорил Максимиан.
– А это, однако, кто? – спросил он, вперяя в Аврелия свой пристальный, сердитый взор.
– А это вот и есть тот самый юноша, о котором я говорил тебе сегодня за столом. Это Аврелий Фламиний, господин.
– Фламиний?! – удивленно протянул кесарь и ближе подошел к Аврелию, страшно пораженному всем происходившим в комнате.
Аврелий инстинктивно подался назад.
– Юноша! Знаешь ли ты, как меня зовут?
– Не знаю, господин!
– Ну, а как ты думаешь?
– Я вижу, что ты, должно быть, знатное лицо в государстве, что занимаешь какую-то высокую должность. Но как тебя назвать, я, право, не знаю.
Ответ Аврелия, по-видимому, страшно понравился Максимиану. Он ухмыльнулся и, ласково потрепав юношу по плечу, проговорил:
– Хорошо. Будь уверен, что Марк-Аврелий-Валерий-Максимиан-Геркулий будет всегда помнить о тебе.
Если бы внезапно раздался страшный удар грома, если бы великолепное здание роскошных покоев Кальпурния сотряслось в своих основаниях и внезапно обрушилось, Аврелий не был бы так поражен, как услышав слова этого напыщенного горделивого человека, одетого в пурпуровую тогу. Растерянный и сконфуженный, весь трясясь от какого-то необъяснимого страха, он дрожащими устами тихо шептал:
– Максимиан… Сам Максимиан… Кесарь…
Страх парализовал все его существо. Бледный и трясущийся, он только и мог, что моментально отпрянуть назад и тут же, на месте, упасть на колени.
Кесарю это понравилось. Он любил всеобщее поклонение и всегда, когда появлялся среди толпы, нарочно напускал на себя грозный, неприступный вид, чтобы только привести в трепет боязливых подданных.
Заметив растерянность юноши, он подошел к нему и, положив на плечо свою руку, начал тихо, но ласково говорить ему:
– Слушай, Фламиний! Я умею быть не только грозным, неприступным властелином, но и кротким, любящим отцом. В моих руках не только громы гнева, но и лавры ласки и милости. Не далее как сегодня мой любимый слуга Кальпурний поразил меня, по правде сказать, довольно неприятной новостью. Ну скажи на милость, Аврелий! Ведь ты происходишь из знатного рода, сын известных во всей Римской Империи родителей, и ты… ты… поддаешься чарам христианства, отрекаешься вдруг от наших богов и ни с того ни с сего исповедуешь веру Назарянина, Того Человека, Которого Понтий Пилат приказал в Иерусалиме распять на Кресте, и Которого христиане в позорном ослеплении признают своим Богом. Как мог ты быть обманут? Как не отличил истинного пути от ложного? Как мог променять издревле чтимых нашими предками богов на какого-то Распятого Назарянина? Но слава Юпитеру Капитолийскому! Он спас тебя и спас в ту самую минуту, когда ты стоял на краю страшной пропасти, когда тело твое готовы были растерзать хищные пантеры. Ты отрекся от презренной веры последователей Назарянина и, оставшись нашим подданным, снова возвращаешься под своды нашего священного храма.
Аврелий вздрогнул. Тихие образы окровавленных родителей, закованного брата, невольницы-сестры выплыли откуда-то издалека и как живые встали пред взорами смутившегося юноши. Ему стало больно. Он презирал себя. Легкое облачко грусти набежало на его чело, но его не заметил кесарь, который продолжал:
– Я могу достойно наградить тех, которые отреклись от всех заблуждений новый веры, я осыплю их золотом, почестями, одарю их драгоценными камнями, сделаю самыми счастливейшими в свете людьми. Аврелий!.. К тебе мое слово, к тебе первая милость, первая благодарность за отречение от тьмы невежества и заблуждений. Тебе говорю: ты вскоре поднимешься по лестнице государственных должностей, ты вскоре займешь знатное положение в Риме. Это предсказывает тебе кесарь… Верь ему! Если ты хочешь просить его о чем-то, проси сейчас. Кесарь обещает исполнить все, о чем бы ни просил ты его сию минуту.
Аврелий вздрогнул.
– Господин! – произнес он слабым, дрожащим голосом и вдруг весь покраснел.
– Говори! Сегодня я могу выслушать тебя. Говори же. Пользуйся моей добротой.
Но Аврелий молчал.
Видно было, что он что-то хочет сказать, но не решается. Лицо его было бледно, губы дрожали, из глаз готовы были посыпаться крупные слезы, и грудь мерно вздымалась от душивших рыданий.
– Господин! – решился, наконец, проговорить Аврелий. – У меня есть сестра и брат, которые сегодня же должны быть отданы на растерзание голодным зверям. Пожалей их, господин! Освободи!
Кесарь нахмурил брови; в глазах его загорелся недобрый огонь.
– Сестра твоя свободна, – мрачно проговорил он, – но о брате не вспоминай.
И голос его замер в высоких сводах комнаты, как унылый звон похоронного колокола.
Но Аврелий обрадовался.
Он кинулся к Максимиану, схватил его за руку и, наклонясь к самому лицу кесаря, порывисто зашептал:
– Сестра моя свободна?! Свободна, говоришь ты?! Так это не сон?! Значит, я видел уже ее. Значит, глаза мои не обманули меня и я не сошел с ума?! Это она! Дорогая, так горячо любимая мною Ирина… Ах, я хочу ее видеть. Хочу! Поймите! Хочу, хочу…
И, возбужденный, весь объятый непреодолимым желанием радостной встречи с сестрой, он готов был броситься в соседнюю комнату, но его остановил грозный вид кесаря.
– Стой! – сердито вскричал и Кальпурний. – Должен же ты быть благодарен кесарю за все те милости, которыми он совершенно незаслуженно осыпает тебя. Подумай: ты увидишь сестру, припадешь на ее грудь, выплачешь всю скорбь наболевшей души, исстрадавшегося сердца и, наконец, поселишься вместе с ней в одном из роскошнейших дворцов Рима. Но все это ты получишь на одном условии.
Аврелий вздрогнул.
– На каком?! – испуганно спросил он.
Кальпурний окинул юношу спокойным взглядом и холодно проговорил:
– Ты должен нам указать место подземных собраний христиан. Нам известно, что эти собрания довольно часто происходят вблизи Рима.
Аврелий побледнел. Сердце сжалось от мучительной боли, и где-то в груди заныло. Он не решался ничего ответить. Потупив взоры, юноша покорно стоял пред своими мучителями, которые сгорали от нетерпения.
– Колеблешься? – проговорил Кальпурний.
И кесарь добавил:
– Помни, что Максимиан умеет и карать. Одно мое мановение, и погибнешь ты, сестра и твой брат.
– Никогда, – весь сотрясаясь от внутренней душевной боли, вскричал Аврелий. – На смерть Ирины и Марка я ни за что не соглашусь. Пусть живут. А я… я сделаю все, что вы потребуете от меня.
Лицо Кальпурния просияло от радости.
– Я не ошибся в тебе, Аврелий, – ласково проговорил он, подойдя к юноше и положив ему на плечо свою руку. – Теперь ты можешь повидаться с сестрой.
– А Марк?! Марк тоже будет свободен?!
– Если он поступит так же благоразумно, как поступил ты в данную минуту.
Краска стыда появилась на лице Аврелия.
– Марк так не сделает, – грустно проронил он.
– Ну, в таком случае он будет томиться под мрачными сводами сырой, холодной тюрьмы. Но он не умрет, его не растерзают голодные львы и гиены. Благодаря тебе, я дарую ему жизнь.
– Спасибо, господин, – воскликнул Аврелий и, протянув вперед свои бледные руки, кинулся к широкой портьере.
– Ирина! – кричал он. – Ирина! Иди ко мне. Я спас тебя, я дал тебе свободу, дал тебе счастье.
Но голос его заглушил чей-то злорадный, сотрясающий воздух смех, который вдруг раздался в конце комнаты. Кесарь и Кальпурний переглянулись и посмотрели в ту сторону, откуда послышался смех, но там, кроме негра, никого не было. Да и тот стоял, как чудовищная бронзовая статуя, неподвижно устремив куда-то вдаль свои холодные, безжизненные глаза.
– Это на дворе, вероятно, – проговорил Кальпурний, провожая кесаря.
– Быть может. Но мне показалось, что это в комнате, – ответил Максимиан, выходя из дворца своего любимца Кальпурния.
А Аврелий, радостный и возбужденный, уже скрылся за портьерой. И оттуда несся его восторженный крик:
– Ирина! Дорогая, милая Ирина! Сестра моя! Ирина!..
Но его призыв остался без ответа. На него не откликнулся серебристый голос Ирины. Почему? Бог знает. Может быть, неожиданная радость лишила ее голоса.
Но только странная вещь! – исполин-негр, подняв свои руки вверх, неудержимо смеялся, сотрясаясь от злорадного смеха. Это и был тот самый смех, который так неприятно поразил слух кесарев…
Глава III. Последняя угроза
В подземельях Колизея, в одной из тесных тюрем, куда не проникали солнечные лучи и где царил вечный мрак, вечная темнота, на каменном сыром полу лежал несчастный, до истощения исхудавший Марк, который, невзирая на угрозы Кальпурния, оставался глухим ко всем его уговорам и ложным обещаниям.
Он помнил мученическую кончину своих безмерно любимых родителей, которые были преданы на смерть по указу кесаря Максимиана; их слова, обращенные к нему за несколько минут до смерти, как единственное наследие, как единая просьба, неизгладимыми буквами запечатлелись в его памяти.
– Марк! – говорил ему отец в ту саму минуту, когда уже палач стоял с обнаженным мечом. – Марк! Ты самый старший из детей, на тебе лежит священная обязанность позаботиться о том, чтобы имя наше осталось незапятнанным, чтобы никто из нашего рода не отступил от веры, за которую мы принимаем мучения и горькую смерть. Смотри. Ни ты, ни Аврелий, ни Ирина не поступайте иначе, как поступаем сейчас мы, ваши родители, если Господь сподобит испытать вас в твердости вашей прославленной веры.
И это помнил Марк. Помнил ужасную минуту прощания с любимым отцом, с ненаглядной матерью, помнил, что обещал им тогда. И теперь, когда наступил день испытания, Марк ни за что не поступится тем, что завещали ему родители, что обещал он им исполнить в последние минуты их жизни.
– Нет! Нет! Лучше смерть, чем отречение от веры Христовой, – шептал он дрожащими устами и нервно проводил рукой по разгоряченной голове.
И вдруг послышались чьи-то шаги. Марк вздрогнул. Ему показалось, что кто-то приближается к его двери. Но странная вещь, все его существо охватила безмерная радость – так опостылел ему вечный мрак, так захотелось увидеть хоть один луч, хоть одну искорку света.
Он оглянулся и стал прислушиваться.
Кругом могильная тишина, кругом ни одного человеческого звука, ни одного движения. Только по временам раздавался ужасный рев заключенных в железные клетки медведей, слышался вой волков и леденящее душу рычание голодного льва.
Звери были уже несколько дней не кормлены, чтобы с большей яростью могли броситься в дни цирковых зрелищ на безоружных христиан и тем большее удовольствие доставить жадной до всего кровавого римской развращенной знати.
Звери были заключены по соседству с Марком, и это соседство было ужасно. Когда слипались усталые веки юноши и тихий безмятежный сон слетал к его измученном телу, чтобы одарить его тихим покоем и в светлых грезах заставить позабыть о горе и о страшных мучениях, вдруг неожиданное рычание льва или вой волка оглашали ночную тишь, заставляя сжаться все существо злосчастного Марка. Он вскакивал – ему казалось, что где-то в темноте притаилось страшное чудовище, которое готово броситься на него и проглотить в своей ужасной пасти. Он дрожал. Страх его усиливался, и ему было невыносимо жутко.
Бог знает, отчего было страшно ночью храброму Марку, отчего чудилось ему ужасное страшилище, но, я думаю, страх этот происходил от сознания, что злой Кальпурний, которого Марк ненавидел всеми силами своей души, мог уничтожить его одним мановением руки, впустив в мрачную темницу какой-нибудь потаенной норой голодного зверя. Кальпурний был способен на это. Марк ждал от него всего грязного и худого, до чего только мог додуматься озверевший в своей жестокости наперсник Максимиана.
Кальпурний был ужасный человек, без сердца, без души, без проблеска разума. Удивительно, каким образом этот бессердечный человек до сих пор не понес заслуженной кары и остается в живых. Ведь не было, кажется, на свете ни одного человека, который столько зла причинил бы ближним и вместе с тем сохранил такое спокойствие на сумрачном, бесстрастном челе.
Марк лежал на полу, смотрел в вышину, и думы его кружились в медленном хороводе, сменяя одна другую. Он думал о Кальпурнии. Но вдруг совершенно незаметно думы его приняли совсем другое направление. Марку вспомнилась Ирина. Ее дивный образ, нежный и кроткий, как живой, встал пред его глазами.
– Неужели и она, так же, как и я, томится в тюрьме? – в горьком отчаянии воскликнул до глубины души взволнованный Марк. – Я перенес бы все муки, я пошел бы на самую лютую казнь, лишь бы она была свободна, лишь бы она, дорогая моя сестра, не знала горя, нужды и лишений.
Но что это?! Лицо Марка вдруг страшно перекосилось, и он весь вздрогнул, словно от невыносимой физической боли. Страшная горечь переполнила его усталое сердце, сжимая в своих мучительных захватах. В голове у него зашумело, словно весь Колизей, обрушился на бедного юношу. Марк вспомнил об Аврелии и о его легкомысленном поступке.
– Изменник! – вскричал он с болью на сердце. – Никогда не ждал я от тебя подобной трусости и преступного малодушия…
Марку до глубины души сделалось жаль несчастного брата. И он тихо шептал в отчаянии:
– Бедный… бедный…
И еще о многом думал несчастный Марк, но думы его были мрачные, какие обыкновенно бывают у людей, не знающих светлого будущего и безвозвратно похоронивших прошлое.
В это время в коридоре подземелья раздались тяжелые шаги, которые становились все ближе и ближе. Было ясно, что кто-то приближается к темнице и к той именно камере, где томился Марк. Скоро заскрипели тяжелые засовы, и в глазах Марка блеснул яркий свет фонаря, который, прорезая подземный мрак, осветил сырую тюрьму. Отвыкший от света Марк на минуту заслонил глаза рукою и только тогда, когда раздался хриплый голос, называвший его по имени, он взглянул на стоявшего пред ним вооруженного мужа.
Это бы Кальпурний. Окруженный стражей, он стоял посредине тюрьмы и звал Марка по имени. Красноватый свет фонаря озарял его высокую фигуру, и было видно его нахмуренное чело, мрачный взгляд и насупившиеся брови.
Марк приподнялся на локте и удивленно посмотрел на Кальпурния.
– Марк… – снова окликнул тот юношу.
– Я, – отозвался узник. – Говори, что тебе нужно.
Кальпурний приблизился. Он был крайне возбужден.
– Я в последний раз говорю тебе… – мрачно и глухо начал любимец кесаря. – Пользуйся, безумец, теми благодеяниями, которыми одаряют тебя боги; теми милостями, которыми готов тебя осыпать наш добрый кесарь в случае твоего отречения от веры в Распятого. Слушай: великий Максимиан внял мольбам твоего брата Аврелия, который просил и за тебя, и за сестру твою Ирину. Я приношу тебе свободу – свободу во имя кесаря. Можешь точно так же, как и брат твой, который внял голосу разума, пользоваться богатствами и роскошью, только поступи так же благоразумно, как он: отрекись от ереси христианской. Кесарь поручил мне сказать, что ему очень хотелось бы иметь в числе своих телохранителей обоих Фламиниев, потомков знатного рода, сыновей богатых родителей. Он говорит, что в самом скором времени возведет вас и еще в более высокие должности, только отрекитесь от своих заблуждений. Воскурите фимиам пред Юпитером Капитолийским, принесите жертву священным богам.
Кальпурний закончил речь. Он с нескрываемым нетерпением смотрел на молчавшего Марка.
– Что же ты?! Ответь! – сказал он наконец, не будучи в состоянии побороть свое нетерпение.
Марк поднялся с земли и, сотрясаясь от гнева, заговорил резким, взволнованным голосом:
– Кальпурний! Я прошу у тебя минуту внимания. Выслушай все, что я скажу тебе сейчас, и в другой раз не беспокойся посещать подземелье, так как от того, что я сейчас скажу, я никогда не отрекусь… Кальпурний! Ты знаешь меня. Я христианин, сын родителей, которые на моих глазах были замучены по указу того самого кесаря, который хочет осыпать меня своими милостями, окружить благодеяниями и быть моим благодетелем. Нет! Это ложь! Я не верю твоим словам! Не могу поверить и кесарю, так подло, так безжалостно расправившимся с моими родителями. Тот человек, который умертвил невинного отца, дорогую, горячо любимую мною мать, не может и с сыном их поступить иначе. Мне не нужны его милости, за которые он требует, чтобы я отрекся от того дорогого, что осталось еще у меня на свете. Умерли мои родители, но живы в памяти их последние, обращенные ко мне слова. Обезглавлены дорогой отец и ненаглядная мать, но огненными буквами горит пред моими глазами их последний завет. Нарушить его я не могу. Знай: умру, исполняя его… А кесарю?.. Кесарю Максимиану, бывшему простому солдату, а теперь бесчеловечному правителю и невежде, передай, что Марк Фламиний никогда своей веры и совести не продаст. Жизнь и смерть человека – в руках Божиих. Если Он предназначит мне жить, то не грозны уже будут мне указы кесаря. А если предстоит мне смерть, то умереть я могу везде, и умереть даже бесславно. Но за мученический венец, которым Господь украшает верных, я воздам Ему, Всеблагому и Вышнему, славу… Слава, слава Ему вовеки! Богу нашему слава вовеки! Аминь.
Недобрым огнем засветились глаза Кальпурния.
Его злое лицо пылало гневом. И если бы было то в его власти, он здесь же, на месте убил бы дерзкого юношу. Но жизнь Марка находилась в руках кесаря, который всеми силами старался привязать к себе молодых Фламиниев, осыпать их различными почестями, возвести на высокие государственные должности, так как ему очень хотелось, чтобы в Риме сложилось непререкаемое мнение: «Максимиан действительно карает христиан смертью, но отрекшихся от веры он награждает, как двух братьев Фламиниев».
Была и другая цель у Максимиана привязать к себе Марка и Аврелия, и эта цель была, пожалуй, самая важная. Уже давно в римском народе раздавался глухой ропот тысяч недовольных чрезмерною жестокостью кесаря. Ропот этот рос с каждым днем и грозил уже перейти в открытое восстание, и Максимиан видел, что власть его висит на волоске. Но привязать к себе Марка и Аврелия значило перетянуть на свою сторону как их симпатии, так и большинства недовольных, то есть, другими словами, прочно закрепить свою власть и могущество в Риме.
И Кальпурний, как ближайший слуга кесаря, как любимец своего господина, перед которым не было ни одной тайны, превосходно понимал, что заставляет Максимиана относиться к молодым Фламиниям с притворной лаской и неискренним расположением. Вот почему, несмотря на то, что после дерзкого ответа Марка все его существо кипело неподдельным гневом, все же посягнуть на жизнь юноши он не решился.
Но я с уверенностью могу сказать, что если бы кто другой осмелился так дерзко говорить, как один из родных братьев Марк, – это были бы последние слова говорившего. Гордый Кальпурний, как собака, приверженный Максимиану, не простил бы таких слов никому.
А теперь, с трудом подавляя гнев и изо всех сил стараясь быть спокойным, он тихо подходил к Марку и так же тихо говорил ему:
– Юноша! После того, что я слышал от тебя, мне бы не следовало больше с тобой говорить. Но убедись, еще раз убедись, как безгранично велика доброта кесаря! Он до последней минуты хочет остаться твоим другом и доброжелателем, он не хочет твоей гибели.
– Отстань! Уйди! – нетерпеливо прокричал совершенно раздраженный юноша.
– Ну так слушай и выбирай, – сердито протянул Кальпурний. – Жизнь или смерть! Кесарь объявляет тебе, что если ты сегодня не отречешься от своих религиозных заблуждений…
– Но ведь это вера! – вскричал взволнованный Марк, прерывая на полуслове речь Кальпурния. – Это не заблуждение! Это вера, которая не позволяет причинять ни малейшего вреда ближнему… Вера, которая учит прощать даже врагам…
Кальпурний вскипел. Сердитым жестом прервал он горячую речь юноши.
– Довольно! – вскричал он. – Ты неисправим! Ты ослеплен! На тебя уже ничто не действует. Ты во власти каких-то страшных демонских чар. Слушай же!.. Кесарь до утра оставляет тебя в живых и то благодаря разумному брату Аврелию, который просил за тебя…
– Но какой ценою? – простонал Марк.
Кальпурний лишь ядовито усмехнулся и продолжал:
– Завтра начинаются зрелища в цирке. Ты первый будешь выведен на цирковую арену. Безоружный, даже без палки в руках, ты будешь поставлен лицом к лицу с голодной пантерой. О, тогда мы все увидим, защитит ли тебя твой Бог против клыков, которые острее меча, против ее страшных когтей, которые опаснее отравленных кинжалов. Но прежде чем выпустить на арену пантеру, я спрошу тебя, Фламиний, в последний раз, отрекаешься ли ты от веры в Распятого? И если ты в присутствии кесаря и римского народа ответишь, что не отрекаешься от проклятой ереси… О, тогда страшись! По данному мною знаку откроются двери клетки, и ты сейчас же с растерзанной грудью падешь у ног разъяренной пантеры. Я закончил. Теперь глубокая ночь. Несколько часов отделяют тебя от смерти. Приготовься к ней или… отрекись от Христа.
– Никогда! Никогда! Нет! Я христианин и христианином и умру, – вскричал несчастный Марк и, изнуренный, обессиленный тяжелой внутренней борьбой, упал на холодную, сырую землю тюрьмы.
– Безумец! – прохрипел Кальпурний в бессильном гневе и, круто повернувшись, вышел из тюрьмы.
За ним последовала стража. Скоро снова заскрипели ржавые запоры тюремных дверей, и глубокая тьма объяла лежавшего без чувств, обессиленного Марка.
Кругом тишина. Ни звука не слышно. Кальпурний со стражей уже давно оставили подземелье.
Тихо… Тихо… Только страшный рев льва, разбуженного бряцанием мечей сопровождавших Кальпурния воинов, как отголосок далекого грома, пронесся по темному подземелью цирка. И казалось, что зловещий рев этого дикого царя пустыни был последним словом, последней угрозой от покидавшего Колизей Кальпурния.
Журнал «Отдых христианина», №6, 1905, стр 43-62;
№7, 1905, стр. 135-148; №11, 1905, стр. 74-83
Адриан и Наталия
Церковно-историческая повесть Протоиерея Димитрия Алексича
1897
Перевод с сербского
Вместо предисловия
Как все меняется на Божьем свете!
Если бы люди не имели науки, именуемой «история», они бы никогда не могли даже и представить себе того, что произошло с поколениями, предшествовавшими им. Мало того, они бы не могли никогда уяснить себе всего того, что они переживают в данную минуту, и завеса будущего не подымалась бы перед их очами.
Впрочем, и теперь есть много людей, для которых и прошлое, и будущее – равно темны и непонятны. Они не считают историю достоверною наукою, а на факты, представляемые ею, смотрят, как на измышления праздного ума или плод больной фантазии.
К счастью, таких людей очень мало и с ними не нужно считаться: они принадлежат к числу тех «блаженненьких», которые до сих пор еще сомневаются, что земля вращается вокруг солнца и вокруг самой себя. Разумеется, они и на историю смотрят, как на сплошную сказку.
Но нам, людям знающим и понимающим историю, делается тяжело на сердце, когда мы сравним теперешнее с прошлым. Где сильная Вавилония24, великая Македония25, Персидское царство26 и Римская империя? Где они? Все это исчезло и в прах превратилось. А на заходе кровавой звезды Рима современникам не верилось и не грезилось еще распадение его на два государства, как не могли они представить себе и перенесение грозного византийского престола в малоазиатский городок – Никомидию!27 И человека, не знакомого с историей, кажется, невозможно было убедить, что нынешнее незначительное местечко в азиатской части Турецкого государства, Исмид, с малым количеством жителей и бедными, жалкими постройками, шестнадцать столетий тому назад было столицей нынешних восточно-римских цезарей и носило имя Никомидии!
Да! Славной в истории Никомидии!
Неужели и это ложь, неужели и это выдумка?
Нет! Не ложь и не выдумка это, а великая истина. Об этом говорит история и свидетельствует современное положение, а такие свидетели не лгут, и переспорить их нет возможности!
Да! Мы не можем, не смеем не верить историческим данным, ибо история есть такая книга, которой с благоговением верят все живущие на свете и которая всем нам служит как учитель жизни.
История показывает нам множество примеров; она говорит нам о том, что и как происходило на белом свете, и, между прочим, она говорит и о тех святых душах, которые живот свой положили за истину христианской веры. Мы подразумеваем здесь имена святых мучеников – Адриана и Наталии.
Представить жизнь и подвиги святых христианских мучеников – дело далеко не бесполезное и не лишнее, в виду тех многих и многих десятков и сотен тысяч христиан, которым это описание может сослужить хорошую службу в деле спасения их душ. Благодаря истории, они могут извлечь из этого достоверного описания много поучительного и назидательного. А раз этот рассказ может принести хотя самую малую пользу христианам, сочинитель безмерно счастлив и с избытком уже вознагражден за свой труд.
Протоиерей Димитрий Алексич
Глава I
Если бы ты, дорогой читатель, захотел увидеть картину полного счастья, которым только может наслаждаться на земле человек, и если ты еще сомневаешься в возможности такого счастья, то я бы советовал тебе идти в дом Адриана, претороначальника28 в Никомидии, этой новой столице царей Великого Рима. Здесь, в этом доме, ты можешь увидеть счастливого человека и счастливую женщину, увидеть яркий отблеск их счастья.
Трудно описать счастье этого прекрасного человека словами! Ни высокий чин, ни положение его в обществе, до которых он возвысился еще в ранней юности, – теперь Адриану только 28-й год, – ни огромные богатства его, ни даже высокое происхождение и родство со знаменитейшими фамилиями в государстве – не создавали счастья Адриану. Это все только дополняло его, но самое счастье его составляла его молодая, прекрасная супруга Наталия.
Ах, как хороша была супруга Адриана!
Сама судьба распорядилась так, чтобы Наталия была верною подругою жизни для Адриана. Высокое происхождение ее и богатство ее отца, прирожденная доброта, нежность и мягкость характера – все, все внушало к ней любовь, все располагало ее быть любимой мужем. И сама она старалась о том, чтобы быть достойной своего супруга, которого она любила всею своею душою. Она была счастлива со своим Адрианом и все свои усилия прилагала к тому, чтобы и его сделать счастливым, и успела в этом. Адриан и Наталия действительно были счастливы в полном смысле этого слова.
Адриан принадлежал к одной из древнейших и богатейших фамилий великого Рима. Брак его с Наталией соединил его с другой, не менее славной и древней фамилией. Семья его жены, насчитывавшая множество членов, заменила ему его собственную семью, которой он лишился еще в ранней юности. И действительно! Новые родные горячо полюбили и привязались к Адриану; они искренно радовались его счастью, искренно называли его своим сыном и братом. Все гости, все приезжие на свадьбу так же радостно приветствовали его, сулили ему долгую жизнь и счастье – и все это делалось искренне и от души, без всяких расчетов или видов на богатство и связи молодого человека. Расточавшие свои похвалы и ласки не нуждались ни в том, ни в другом, так как всего этого имели в достаточном количестве. Разумеется, встречая со всех сторон только ласку и привет, Адриан был сильно растроган.
Все симпатии, вся любовь, все ласки, которыми осыпали Адриана, естественно, переносились и на его невесту. Оба молодых супруга положительно были завалены подарками и приношениями, причем каждому из них доставалось всего в равной мере и все подарки были одинаковы и драгоценны.
Сверх всего этого, свадьба Адриана и Наталии была почтена и императорским двором в Никомидии. Помимо различных мелких драгоценностей, император прислал Адриану драгоценный меч с золотой насечкой и в серебряных ножнах, а императрица – Наталии – золотой венец, весь усыпанный дорогими каменьями и стоивший по крайней мере в пять раз дороже, чем подарок императора, и увеличивший красоту юной невесты до какого-то чудесного, сказочного невероятия.
Радости Наталии и удовольствию Адриана не было конца, когда настали самые свадебные празднества. Они заботились только о том, чтобы гости были веселы и ни в чем не терпели недостатка.
Огромный дом Адриана, или, лучше сказать, дворец, кишмя кишел гостями; роскошные яства и вина сменялись, как бы по волшебству, одно другим. На свадьбе Адриана веселилась целая Никомидия и после свадьбы в городе только и толку было, что о том, какие веселые дни пережила столица римских императоров.
Три дня продолжались веселые свадебные празднества в доме Адриана.
Гости выходили из-под гостеприимного крова домой на весьма лишь короткое время, только для отдыха, а затем опять шли на трапезу и беседу. За все это время торговцы и трактирщики города по большей части и не открывали своих лавок и гостиниц, а чиновники и прочие служащие получили отпуск и в полном составе присутствовали на свадьбе Адриана.
Наконец торжество окончилось, гости разъехались, и молодые остались дома одни. Рассматривая подарки, Адриан сказал своей восхищенной супруге:
– Не думаешь ли ты, моя дорогая, что подарки эти, полученные нами от дорогих наших сограждан, и нас со своей стороны обязывают чем-либо отблагодарить их: за любовь – любовью, за ласку – лаской, и показать им, что мы глубоко понимаем и искренне ценим их душевное расположение и привязанность к нам и вполне достойны их любви?
И, сказав это, он привлек к себе Наталию и тихо поцеловал ее в лоб. Наталия же поглядела на Адриана взглядом, полным нежности, полным любви, и ничего не ответила на его вопрос.
– Чем же, – продолжал опять Адриан, – чем же мы можем приобрести себе любовь и сочувствие дорогих наших сограждан, дорогая Наталия?
– Добрыми делами и хорошею жизнью, милый друг мой! – ответила, наконец, Наталия.
– Эти речи подсказало тебе мое сердце, – радостно воскликнул Адриан. – Пусть это будет руководящим правилом во всю нашу жизнь. Поклянемся, что мы исполним его – и ты, и я, каждый в отдельности, – поклянемся, что мы никогда не изменим ему, но еще постараемся провести его и в жизнь других людей!
И как говорил Адриан, так они и сделали: жизнь этих молодых, искренно любящих друг друга супругов была сама воплощенная добродетель. Это внушало к ним великую любовь и уважение, которые они и встречали на каждом шагу со стороны своих сограждан, а взаимная любовь и согласие делали их счастливыми.
Да! Адриан и Наталия были счастливы, совершенно вполне счастливы!
Глава II
Дом Адриана принял совершенно другой вид, когда в него вошла Наталия. Пока Адриан был холост, его хозяйством и домоправительством заведовали старые, опытные и преданные ему слуги. Казалось, Адриан был доволен ими и никогда не вмешивался в их распоряжения. Оно и немудрено: утром рано, уходя на службу, он отдавал своим челядинцам и доверенным все нужнейшие приказания и затем удалялся, озабоченный делами в своем звании претороначальника. Являлся он домой очень поздно и спешил подкрепиться ужином, а затем шел спать, – и так все это продолжалось изо дня в день. Большую часть дня занимали письмоводство и составление рапортов, которые предоставлялись им главнокомандующему или заведующим императорской квартирой, а за отсутствием их – лично самому императору. Иногда, правда, выдавались свободные дни, в которые он не бывал занят службой, но это случалось не часто, и тогда он целый день сидел дома. Но бывало и так, что по целым суткам он не заглядывал на свою квартиру; почивать же дома ему приходилось очень редко. Понятно, что иногда, придя домой, он с неудовольствием замечал у себя различные непорядки: незапертое окно, разбитую посуду, нечистоту на дворе, сломанные деревья в саду.
Все это происходило, по мнению Адриана, потому, что во всем доме не было хозяйского глаза, который бы за всем присмотрел; не было заботливой руки, которая бы все наставляла и направляла в доме, ибо на слуг, хотя и весьма преданных Адриану, все-таки нельзя было положиться. Одним словом, Адриан заметил, что его дому недостает деловитой хозяйки.
Это мнение молодого человека было блистательно доказано появлением в его доме прекрасной Наталии. Не прошло и года, как Наталия вошла в его дом полноправной хозяйкой и госпожою и приняла в свои руки бразды домоуправления, но чудная перемена произошла в хозяйстве Адриана.
Сам дом Адриана, как кажется, изменил даже свой первоначальный вид: все в нем издали уже дышало довольством и великолепием, а внутренность его была восхитительна: в особенности хороши были приемные залы и гостиные, а также и комнаты обоих молодых супругов! Сам император, зачастую посещавший дом Адриана, не скрывал своего удовольствия по поводу порядка и опрятности дома, необычайной чистоты двора и красивой распланировки огромного сада.
– Ты, Адриан, имеешь теперь все, чтобы возгордиться своим счастьем, – сказал однажды Максимиан29, посетив своего претороначальника. – Не богатство, доставшееся тебе от отца, не богатство, которое принесла тебе в приданое твоя жена Наталия, но великолепие твоего брачного семейного счастья и спокойной жизни делают тебя счастливым. И счастливее тебя, по моему мнению, вряд ли найти человека!
– Ваше Величество, изволите шутить со мною? – скромно ответил Адриан. – Богатства мое и моей жены совсем не настолько велики, чтобы им можно было позавидовать. В Никомидии есть много богатых людей, кроме меня, и еще более таких, которые неизмеримо богаче.
– Не о богатстве вовсе и речь, – возразил Максимиан, улыбаясь. – Неужели ты думаешь, что твое счастье я полагаю в твоих несметных богатствах?
– Нет, Ваше Величество, – отвечал Адриан, – я хорошо понимаю вашу речь и готов даже дать объяснение того, как я понимаю ее, если только, Ваше Величество, Вы позволите мне это сделать. Осмелюсь ли я?
– Говори, мой верный, говори, мой дорогой друг! Ты знаешь, как я люблю слушать твои дельные речи, ведь ты всегда готов прийти на помощь ближнему, всегда исполнен доброго и благого совета. Говори же и теперь, я тебя слушаю!
– Мое домашнее благополучие, – продолжал Адриан, – тоже не должно никому внушать зависть, так как никакой и ничьей заслуги в этом нет. Это составляет обязанность моей жены, и она до сих пор, по крайней мере, точно исполняла и исполняет ее. Так что, право, мне кажется, что ни с той, ни с другой стороны завидовать мне никому не приходится: богатство мое есть чистая случайность, а второе, то есть домашнее благоустройство, есть такое счастье, которого каждый легко может достигнуть. И ни то, и ни другое не составляет моего счастья, но…
– Но Наталия! – добавил со своей стороны император, громко захохотав.
– Ваше Величество изволили сказать истину, – ответил Адриан спокойно, – мое счастье действительно составляет Наталия, все же остальное служит только дополнением этого счастья.
– Мне уже только одно нравится в тебе, Адриан, что ты не возгордился своим счастьем настолько, чтобы позабыть службу. Но с тех самых пор, как ты женился, ты стал еще более рачителен, полезен и незаменим в своей должности, – ответил император.
И действительно! Адриан с самого первого дня своей женитьбы обнаруживал еще большее и небывалое до той поры рвение к своей службе. Все делалось до такой степени точно, исправно и аккуратно, что даже сам Максимиан однажды выразился о своем претороначальнике так, что во всей его империи нет такого претороначальника, который бы в своей деятельности сравнился с Адрианом. И слова эти император сказал среди близких к нему людей, людей почтенных и знатных во всей империи.
Таким образом, женитьба Адриана оказала самое благотворное влияние и на его домохозяйство, и на его службу. Последней он отдался весь, исключительно, с каким-то особенным пылом. Он выходил из дому и направлялся в канцелярию с рассветом. Возвратившись же домой, он мог спокойно отдыхать, наслаждаясь обществом своей милой и прекрасной супруги. Он видел, что Наталия не только вполне заменяет его, как хозяина дома, но даже во многом принимает почин на себя и образцово ведет хозяйство. И между ними по вечерам завязывался разговор мирный, невинный, спокойный. Адриан рассказывал о своей жизни до женитьбы, Наталия делилась с ним воспоминаниями о своем детстве и девичестве. Так мирно проводили время молодые супруги.
Дом Адриана был не только домом счастья и союза двух молодых сердец: он был, поистине, дом милосердия. Огромные доходы с имений, которыми владел Адриан, большое жалование, получаемое им, согласно званию, которое он носил, наконец, остаточные суммы, образовавшиеся от сокращения штата их прислуги, но в особенности, большая экономия, которой придерживалась Наталия, – все это, взятое вместе, давало им гораздо более того, что они проживали и могли прожить.
К тому же ни Адриан, ни его супруга не имели в своих душах и тени того, что зовется себялюбием или еще худшим именем – сребролюбием. Поставивши себе за правило сделать как можно более добра своим ближним, они не хотели скапливать излишек своих богатств для себя, не хотели также и пускать своих денег в оборот или приобретать себе новые богатства, как то делали другие богачи, но весь остаток употребляли на дела благотворительные, преимущественно для раздачи городским нищим и убогим.
Глава III
Благотворительность Адриана и Наталии могла бы вестись еще гораздо шире, если бы молодые супруги не боялись того, что скажут о них посторонние люди, а именно они боялись упреков в мотовстве, роскоши и расточительности, – как раз в тех самых грехах, в которых они не были и повинны.
Поэтому они жертвовали в пользу бедных только от своих избытков, ничуть не уменьшая и не сокращая расходов. Делалось это так: обыкновенно Наталия, как домоправительница, составляла смету о приходе и расходе на каждый месяц. Затем, согласно этой смете, она вела месячные книги и по истечении срока представляла их на рассмотрение своего супруга. По проверке счетов и книг Адриан обыкновенно отделял всю сумму чистого дохода и отправлял ее к председателю комиссии о призрении бедных города, который уже и распределял ее в пособие неимущим семьям граждан. Разумеется, при Наталии сумма этих доходов, а следовательно и пособий нищей братии, увеличилась уже настолько значительно, что Адриан не переставал изумляться ее экономии и хозяйственным знаниям. Он не мог понять, каким это образом так бережлива его молодая супруга, и однажды как-то вечером, смеясь, сказал ей:
– Скажи мне, пожалуйста, как это ты так бережлива? Я как ни думал сам об этом, все-таки понять не мог. Не объяснишь ли этого мне ты?! Если бы и главный министр финансов был так же бережлив, как ты, и прилагал бы такие же заботы об императорской кассе, как ты о моем имуществе, то, право, она бы была много полнее, чем теперь!
Прекрасная супруга Адриана весело засмеялась на его слова и, взявши его за руку, тихо сказала:
– Да! Если бы императорский министр финансов так же хлопотал о счастье и благосостоянии подданных своего государя, как мы с тобой хлопочем и заботимся о счастье наших ближних, то и я уверена, что касса государственная была бы много богаче, чем она есть теперь; да и сам император в тысячу раз более был бы любим своим народом, чем это мы видим ныне! Как ты думаешь, Адриан?
И Адриан, вместо всякого ответа, привлек к себе на свою супругу и крепко поцеловал ее в душистое чело и милые, ясные глаза.
С того дня прошло несколько месяцев, и вот молодые супруги однажды совершенно случайно узнают, что деньги, ежемесячно отправляемые ими на имя председателя комиссии о призрении бедных, не раздаются бедным, а присваиваются чиновниками, служащими в комиссии, и употребляются ими на свои собственные нужды. Это привело Адриана и Наталию в такое сильное негодование, что они решились никогда больше не посылать денег для раздачи бедным в комиссию о призрении нищих. Вместо того молодые супруги решили благотворить бедным в столице другим образом, а именно: по взаимному соглашению они решили разослать по всей Никомидии особые листки, коими городские бедняки приглашались по известным дням приходить в дом Адриана и получать от него или от его жены посильное по нуждам каждого пособие, если только они принесут с собой удостоверение о бедности, написанное в городской управе и скрепленное ее печатью.
С тех пор дом Адриана стал осаждаться целыми толпами бедняков, и Наталия не знала ни одной минуты отдыха и покоя, то кормя одного, то перевязывая раны другому, то одевая третьего. Каждый бедняк уходил из дома никомидийского претороначальника со слезами благодарности и радости на глазах и с сердцем, полным благословений и благожеланий гостеприимной кровле молодых супругов. Наталия окончательно отдалась делу благотворения и так скоро освоилась с ним, что менее чем через два месяца могла уже составить себе полный список всех неимущих семей в городе.
Ее дело стояло на твердых основаниях и со временем получило особую систему. Адриан с удовольствием смотрел на ее деятельность и однажды в порыве душевного волнения сказал ей:
– Благодарю тебя, дорогая Наталия! Ты вполне поняла меня и наградила меня неизмеримым счастьем. Мое всегдашнее желание было – жить для ближнего. Ты поняла его и осуществляешь его на деле. С этих пор мой дом действительно стал домом милосердия!
Глава IV
В течение всей своей счастливой совместной жизни Наталия всегда привыкла видеть Адриана бодрым и веселым. Все время, когда он был дома, они проводили в беззаботных, нежных разговорах. Наталия, точно птичка, щебетала своим ласковым певучим голоском, мило смеялась… Но вот вдруг она заметила в муже серьезную перемену. Эта перемена поразила ее в самое сердце и заставила сильно страдать.
С некоторых пор она стала замечать, что Адриан как будто чуждается или боится ее общества. Он стал угрюм и неразговорчив, грустен и задумчив. Он как-то нехотя здоровался и прощался с женой, целуя ее в лоб… Казалось, будто и на это у него не хватало времени. Даже самые отлучки Адриана на службу резко изменились: то по целым дням он не выходил из дома, молча и сосредоточенно просиживая у себя в комнате, то, уходя с раннего утра, возвращался лишь поздно вечером. И не только по вечерам прекратились их милые беседы, но даже и на случайные, мимоходом услышанные им вопросы жены он почти ничего не отвечал. Так, во время обеда он зачастую столь сильно углублялся в свои мысли, что не замечал стоявших перед ним кушаний, которые остывали и иногда уносились со стола нетронутыми.
Странное поведение Адриана сильно действовало на Наталию. Часто, оставаясь дома одна, в отсутствие мужа, она плакала, горько плакала, но никогда не показывалась печальною на глаза его, чтобы не огорчить тем своего любимого супруга. Перед ним она была даже весела, шутлива, смеялась, без умолку болтала, стараясь угодить Адриану всем, чем только могла, но, к великому своему горю, мало успевала в том и не могла развлечь своего супруга. Наконец, Наталия была уже не в силах более притворяться. Печаль и безысходная грусть сломили ее нежное женское сердце, и она однажды, во время обеда, подойдя к Адриану, сквозь слезы спросила его:
– Я давно заметила, что ты сильно грустишь, мой Адриан. Я боюсь, не случилось ли с тобою какого-нибудь зла. Быть может, ты болен, или тебя чем-либо огорчили?..
Адриан рассмеялся, но этот смех еще более расстроил Наталию, так как в нем она ясно прочитала ответ Адриана: «Зачем ты меня спрашиваешь? Неужели тебе так хочется терзать мое сердце?»
– Скажи же мне, прошу тебя, – продолжала Наталия, – что с тобой? Не мучь меня этой неизвестностью, которая, положительно, меня убивает.
Она встала на колени около своего супруга, взяла его за правую руку и стала глядеть ему прямо в глаза.
– Зачем ты такая любопытная, моя милая Наталия? – сказал Адриан, медленно водя рукою по черным прядям шелковистых волос своей прекрасной супруги. – Видишь, я, слава Богу, здоров, и ты также здорова. Чего же тебе еще бояться или заботиться? Я немного действительно встревожен и огорчен, но это огорчение и тревогу мне причиняет моя служба, а отнюдь уже не ты. Я счастлив твоею любовью и счастлив, что могу отвечать тебе на нее тем же, то есть своею любовью. Если что меня и расстраивает в службе, так это одно обстоятельство, которого, кажется, все равно не избежать. Но только ты не грусти, будь спокойна и весела. Ты и впредь навсегда останешься моею любовью, моим покоем и отрадой.
– Но какое же это такое обстоятельство в твоей службе, которое так мучит тебя и не дает тебе покоя и про которое ты говоришь, что его никак нельзя избежать? Быть может, тебе дали какое-нибудь неприятное, несогласное с твоими взглядами и убеждениями или оскорбительное, низкое для твоего сана поручение? Так успокойся, мой милый, не огорчайся, не грусти! Мы проживем с тобой и без твоей службы! Лучше лишиться ее, чем иметь какие-либо тяжелые и неприятные обязанности.
– Да! Если бы я мог, я бы оставил службу! – в раздумье проговорил Адриан.
– Отчего же нет? – весело сказала Наталия и засмеялась. – Слава Богу, мы так богаты, что можем просуществовать и без твоей службы!
– Ах! Совсем не в этом дело, дорогая моя! Я прекрасно знаю, что мы так богаты, что можем прожить на свои собственные суммы, но различные другие причины заставляют меня еще на некоторое время оставаться на службе и не покидать своего поста!
– А какие это причины? – с любопытством спросила Наталия, заглядывая мужу в глаза.
– Ах, мало ли какие!.. Тебе вовсе об этом не надо знать!
– Нет, скажи мне… Я тоже хочу их знать!
Любопытство Наталии росло все сильнее и сильнее, но Адриан притворился сердитым и перестал отвечать на все ее вопросы. А она неотступно просила его открыть ей всю истину, плакала и целовала ему руки и наконец заклинала его своей любовью сказать ей правду.
Адриан сначала молчал, потом смеялся над просьбами Наталии, потом сердился; но ничто не помогало. Тогда, видя невозможность скрывать далее, он сказал твердо и решительно, придав суровое выражение своему голосу:
– Ну, смотри же, после не упрекай меня, что я все рассказал тебе!
– Нет, нет! – отвечала Наталия. – Только говори, Бога ради! Я слушаю тебя!
– Так ты хочешь знать те причины, которые заставляют меня оставаться на службе, несмотря на то, что я с радостью покинул бы свой пост?
– Да, да! – подтвердила Наталия, кивая головой.
– Ну, так слушай же. Ты, по всей вероятности, ничего не знаешь о том, что происходит у нас в Никомидии? Потому-то ты и весела так и беззаботна, как птичка. А если бы ты знала настоящее положение вещей, то никакое веселье не пошло бы тебе на ум!
– Что же такое случилось в городе? – спросила Наталия, испуганно глядя на мужа.
– Не перебивай меня! – ответил Адриан серьезно и тихо отстранил Наталию от себя. – В столице весьма и весьма даже неспокойно. Брожение умов идет всюду – не только в Никомидии, но и по целому государству. Злые люди день и ночь только и стараются о том, чтобы поддерживать волнение между гражданами и раздувать опасное пламя возмущения не только здесь, но и далеко по окрестностям. Разумеется, им это выгодно, но каково же нам, мирным людям, не посвященным в их постыдные замыслы? Уже и теперь нет любви и согласия между гражданами. Зависть и ненависть царствуют всюду; подкапываются один под другого, с тем чтобы погубить и уничтожить своего противника, а самому завладеть его местом. Страшно даже и подумать, что делается! Честь отдельных лиц, жен, семьи ни во что не ставится – разврат полный… Брат идет на брата, отец на сына. Ужас, ужас! Мятеж чистый. Но весь этот пламень таится еще внутри. Что же будет, когда он прорвется наружу? Кажется, он сожжет и проглотит у нас все…
– Адриан, ведь это страшно! – перебила его речь Наталия, вся побледнев.
– Страшно, Наталия, очень страшно! Но все это еще ничего, пока только граждане не ладят между собой. Пока чиновники строят друг другу козни при дворе и в канцеляриях – это еще все-таки беда не важная. Но что ты скажешь, если это брожение проникло и в войско, если злые люди постарались деморализовать даже и войско? Здесь уже гибель всему государству, здесь полное разорение и смерть!
– Да! Это ужасно, Адриан! – прошептала Наталия, подняв на мужа свои большие печальные глаза.
– Вот видишь, я только напугал тебя! Впрочем, ты сама виновата, ты сама хотела этого! – сказал Адриан, привлекая к себе жену и целуя ее. – Полно! Стыдно тебе печалиться, раз ты уже сама упрекала меня в том. Оправься же, прошу тебя, и слушай дальше, если хочешь!
– Да, да! Говори, прошу тебя! – живо подхватила Наталия, и глаза ее опять заблестели. – Я хочу все знать, хочу нести ту самую тяготу, которую несешь ты. Не бойся за меня! Я сильная. То был не страх перед лютой опасностью, но боязнь за то, сумею ли я в минуту опасности быть верной подругой и помощницей тебе, моя радость, мой герой? Твой рассказ меня не пугает; я приготовилась слушать его. Но меня пугает моя женская слабость: сумею ли я выдержать предстоящее, возможно, и нам испытание. Теперь же я ничего не боюсь, как бы ни был страшен твой дальнейший рассказ. Об одном только прошу тебя: рассказывай мне все, ничего не скрывая, как бы это ни было ужасно.
– Хорошо. Слушай же дальше. Я расскажу тебе об этом подробнее. Я уже говорил тебе, что неповиновение, обособленность, зависть и все другие низкие пороки проникли в войско. Это великое несчастье для государства, но для нас, горожан, это еще более великое несчастье. Слушай внимательно и пойми, что я хочу сказать этим. Как ты знаешь, в политическом отношении мы повинуемся одной власти, но в отношении религиозном или церковном – двум: языческой и христианской. Оба этих вероисповедания имеют своих вождей, свои храмы, своих священников и приверженцев. Соревнование между этими двумя областями не могло бы быть опасно для существования государства, если бы вопрос о вере не был предметом споров, или, по крайней мере, если бы государство стояло на той стороне, где больше здравого смысла, где чище верозаконие и нравственные принципы, где лучше организация, и на стороне тех, кому принадлежит будущность. Но в том-то и дело, что у нас, к несчастью, этого нет! Государство не относится безразлично к вопросам веры и стоит не на стороне здравого смысла, но на стороне отживших преданий, не имеющих ни будущности, ни пользы для народа, и поддерживаемых в народе исключительно лишь с низкоэгоистичными, корыстными целями.
– Языческий первосвященник, – продолжал Адриан, – теперь сильно напуган успехами христианства, он обратился к властям с ходатайством о защите истинной прадедовской веры, опирается на сильную дворцовскую партию и, наконец, вкрался в доверие самого императора.
– О, если бы ты знала, – сокрушался Адриан, —сколько клеветы сыплется теперь на христиан, в каких только черных красках ни описаны они теперь перед императором: будто бы они и государственный переворот замыслили, будто бы они и республику домогаются провозгласить. И чего только еще ни измыслили на них, пока, наконец, напоследок не успели убедить императора Масимиана принять самые строгие меры против этих опасных сектантов и лишить их той силы, которою они обладают теперь. То есть, попросту, расстроить их крепкую организацию, убивши их вожаков и рассеявши повсюду наиболее влиятельных из членов Никомидийской паствы. Но и на этом противники христиан не остановились. Христианство всюду будет строго преследоваться, и над последователями его будет учрежден совершенно особый надзор. Кроме того, моя дорогая Наталия, императора вынудили и еще на одну жестокую и, по моему мнению, позорную меру – убиение здешнего христианского владыка Анфима…
Адриан замолчал
– Дальше, дальше! – произнесла Наталия, видя, что Адриан приостановился.
– Ну, а затем созовут всех христиан и станут предлагать им изменить своей вере. Кто согласится, будет почтен, а на остальных воздвигнут гонение и умертвят их. Какой несчастливец этот владыка Анфим. Старец он добросердечный, доверяется всем и каждому, ко всем снисходит, но, к сожалению, он окружен со всех сторон низкими, бесчестными людьми, ежечасно готовыми предать его в руки врагов. Многие его священники, дьяконы, клирики – люди с дешевою, продажною совестью, и добра от них ждать нечего. Правда, есть и достойные священнослужители и миряне, но их уже заблаговременно постарались отделить от владыки.
– Бедный старец, – пожалела и Наталия. – А что же говорит император относительно преследования христиан?
– Касательно этого предмета при дворе еще ничего не решили определенного. Ты помнишь, что не далее, как еще вчера вечером, я так поздно вернулся домой? Все эти дни были совещания во дворце, а вчера вечером и я был приглашен на них. То же будет и сегодня, и завтра и еще долго, пока окончательно не обсудят хода всех действий против христиан. На вчерашнем совете император решительно говорил против христиан, но относительно преследования их выражался с великою осторожностью и весьма уклончиво. Я держался своего мнения, независимого ни от кого, тем более от Максимиана, и сказал ему, что для государства было бы величайшим несчастьем поднять гонение на людей, ни в чем не повинных, исправно платящих подати, людей, в руках которых будущность нашей империи и всего мира. Максимиан надулся, но я не обратил на это особенного внимания и продолжал развивать свой взгляд, который считал вполне соответствующим современному положению вещей. Все меня слушали, но, как образец того, насколько они поняли мою речь, скажу тебе, Наталия, что все семь городских трибунов30, с каким-то нелепым сарказмом на лице, не постыдились в присутствии императора и всего избранного совета громогласно обвинить меня возмутителем государственного и общественного спокойствия и открытым приверженцем христианства. Что ты скажешь на это?
– Неужели? – спросила Наталия с беспокойством. – Но что же было далее?
– Да ничего особенного, если не считать того, что я навлек на себя гнев языческого первосвященника, который тотчас же и стал мне возражать, уже с явной враждебностью. Но меня ничуть не пугают ни гнев, ни его оппозиция, и доводы его отнюдь для меня не убедительны. Я все равно также буду защищать христиан, как защищал их вчера в совете императора.
Немного подумав, он добавил:
– Я делаю это еще потому, что вижу, что престол его окружен ненадежными людьми, нетвердыми в своих убеждениях и мыслях и весьма легко поддающимися влиянию окружающей обстановки. Люди корыстные, низкопоклонные и льстивые окончательно завладели императором, и что будет дальше, неизвестно.
И далее он продолжил, обращаясь к жене:
– Вот что, дорогая Наталия, и заставляет меня не отказываться от моей службы.
Он ласково глядел на жену, ожидая ее ответа.
– Согласна ли ты со мной?
– Согласна, согласна! – говорила Наталия, прижимаясь к Адриану. – Иначе и поступить нельзя, дорогой мой! Нет, нет! Не оставляй службы, защищай тех несчастных, коим нужна твоя защита!
Она крепко обняла Адриана.
Глава V
Опасения Адриана были вполне основательны. Языческий первосвященник не остановился на первом опыте. Видя, что дело его не двигается вперед, он пустился на следующие хитрости.
В одно утро во дворце только и разговора было о том, что христиане ради успеха дела своей секты решили умертвить цезаря и хотят поторопиться исполнением своего нечестивого решения. Фанатики кричали, требуя мщения христианам и их казней. Голоса недовольных становились все слышнее и слышнее, а верховный жрец от удовольствия потирал руки и втихомолку посмеивался, торжествуя свою победу. Он стоял в стороне и, по-видимому, не принимал никакого участия во всем этом движении, а между тем все делалось по его почину.
Язычники кричали, что всякий успех христианства будет в ущерб целости государства, что всякие попытки христиан к усилению и распространению своего учения будут гибелью для государства и что, наконец, разве можно терпеть, чтобы учение, последователи которого прибегают к таким средствам, как посягательство на драгоценную жизнь священной особы возлюбленного монарха, чтобы такое безнравственное учение дозволялось проповедовать безбоязненно и безнаказанно?
Некоторые указывали при этом еще и на то, что богатства, накопленные христианской общиной в Никомидии, легко могут послужить христианским жрецам для возбуждения восстания в городе и для найма убийц императора, если только это последнее злодеяние не совершит собственнолично какой-либо из фанатичных поклонников Христа. Эти и подобные им слухи успели возмутить, ожесточить и, наконец, привести в ужас несчастного Максимиана, и верховному жрецу было дано знать об успехе его проделки. Последний, не медля нимало, явился во дворец и как бы случайно стал опять говорить о зловредности христианской веры, о лицемерии и двоедушии ее последователей, которые прикидываются только набожными и думающими о Царствии Небесном, а на самом деле все помыслы свои направляют к тому, чтобы разрушить империю, свергнуть с престола Максимиана и, если возможно, умертвить его, а на развалинах монархии основать свое собственное коммунистическое государство, одну колоссально-гигантскую общину людей, где бы не было ни императора, ни вельмож, ни правителей, ни войск, но где бы народ управлялся сам собой, по собственной своей воле.
Рассуждая на этот раз, по-видимому, спокойно и равнодушно, великий жрец превосходно успел в своих намерениях. Известно, что даже самый маленький и незначительный человек, и тот готов решиться на крайность, если дело повернется настолько серьезно, что станет грозить его жизни, здоровью или достатку. Если же при этом человек занимает какой-либо служебный или общественный пост, то опасения его делаются еще понятнее: он, как утопающий за соломинку, хватается за всякое средство, лишь бы только удержать в своих руках ту власть, которой он в настоящее время обладает.
Что же мы скажем о том человеке, который обладает такой властью, выше которой уже нет на земле?
О, разумеется, он употребит все свои силы на то, чтобы удержаться на престоле, он все сломит и свергнет на своем пути к славе и могуществу, он все принесет в жертву своиму идолу – своему «я».
Так точно и Максимиан.
Услышав от верховного жреца об опасности, угрожающей как его трону, так и лично ему, он стал часто совещаться с ним о мерах, ведущих к охранению его жизни и власти и, наконец, так сильно подпал под влияние этого человека, что дня не мог обойтись без него.
А великий жрец, со своей стороны, весьма хорошо этим воспользовался.
Между тем во дворце государя совещания шли одно за другим, но решений еще не последовало и мер никаких не принималось. Максимиан, видимо, терял голову и не знал, что ему делать, за что ухватиться. Он часто советовался со своим другом, стариком Диоклетианом (тогда в Никомидии было два государя и оба с одинаковой императорской властью – Диоклетиан31 и Максимиан), что ему делать, но старый друг успокаивал его только тем, что советовал выжидать время и присмотреться к обстоятельствам, полагая, что эти последние повернутся благоприятнее для дел империи, нежели для христиан. На самом же деле, Диоклетиан сам выжидал время, стараясь захватить власть в свои руки, чтобы править империей единолично, не делясь ни с кем ни почестями сана, ни богатствами.
Но положение Максимиана поистине стало невыносимым. Все мысли его настроились так, что он видел повсюду только зло, коварство, низкие и преступные замыслы. Он почти сходил с ума, наяву и во сне представляя себе самые страшные и мрачные картины: то ему казалось, что христиане уже врываются к нему во дворец, то он воображал, что уже свергнут с престола и заключен в сырую, тесную и смрадную темницу, и что враги приходят к нему, чтобы мучить, терзать и пытать его, а потом ведут на казнь, позорную и бесславную.
И все это – и думы, и видения, – повергало его в такой сильный страх, что часто ночью он вскакивал со своего роскошного ложа, весь в поту и, трясясь, выбегал в сад, чтобы освежиться ночной влажностью, после чего уже боялся вновь засыпать.
Несчастный человек! Он страшился потерять власть и вскоре лишился ее. Он с ужасом думал о своей смерти, а после все равно сам прибегнул к ней32.
Как бы то ни было, но Максимиан все-таки много думал о своем положении, рассуждал о различии вер: христианской и языческой, а так как Бог не отказал ему в здравом смысле, то он скоро и приходил к заключению, что христианство отнюдь не может быть враждебно и опасно его императорской власти, так как оно не идет войной против существующего порядка, а, скорее, действует увещеванием. Придя к такому выводу, Максимиан успокаивался, развлекался и даже бывал весел, у него являлся аппетит, он с удовольствием ел и мирно спал.
Но все это продолжалось лишь весьма короткое время, только до первого прихода языческого первосвященника, который новыми измышлениями запугивал робкое и податливое сердце императора и снова ввергал его в то тягостное состояние, из которого ему стоило стольких трудов выйти.
Дела, однако, не могли оставаться в таком положении. Несколько совещаний прошло даром, Максимиан почти не принимал в них участие. Это давало право многим высказывать свои мысли, не вполне согласные с мнением большинства. Пользуясь молчанием или уклончивыми ответами императора, совещавшиеся вели шумные и оживленные прения. Каждый старался привлечь на свою сторону Максимиана и доказать ему, что вот его-то мнение и есть настоящая, искомая истина. Между ними были и такие сановники, которые безбоязнено и мужественно, лицом к лицу, высказывали императору свои мнения, хотя эти мнения не могли нравиться большинству, да, вероятно, расходились и со взглядами самого Максимиана, настроенного совершенно иначе.
Император в одно из заседаний совета и постарался доказать им это в длинной и резкой речи, прямо обращенной к ним. Друзья христианства поневоле должны были замолчать, а враги торжествовали победу и строили козни против этих благородных людей. Черные тучи собирались над их голосами, и они уже видели, как постепенно падало, а наконец, и вовсе пало их влияние, и они находятся в опале, но они держали себя так же независимо и неустрашимо и так же безбоязненно и открыто высказывали свои мнения, как будто с ними не произошло ничего особенного. Эти немногие благородные люди были из не христиан – претороначальник Адриан, а из христиан – весьма близкие к императору люди – Дорофей и Горгоний.
Глава VI
Между тем в государстве происходили важные мероприятия. Изо всех концов империи присылались списки христиан с означением, кто состоит из них на государственной службе и в каком именно звании и чине. Прежде всего, конечно, был доставлен список христиан, проживающих в Никомидии, и оба государя пришли в ужас, увидя, что все, что было лучшего в государстве, все, что окружало их престол, все это оказывалось на стороне христианства. Весь цвет войска, дипломатический корпус, правители городов и целых областей, генералитет, военные трибуны и прочие, – все были христиане. Наконец, свита, прислуга и самые близкие к императорам люди во дворце, те, на кого так особенно они надеялись и кому в минуты откровенности поверяли государственные и личные тайны, и те были христиане, и те были, значит, на стороне врагов империи и императоров.
И Диоклетиан, и Максимиан были настолько сильно поражены сделанным ими открытием, что долго не могли прийти в себя и только в недоумении спрашивали друг друга, что им теперь делать и что предпринять?
По теории великого жреца выходило, что христиане, все, от первого и до последнего, должны быть истреблены, но, очевидно, и сам великий жрец был введен в заблуждение, думая, что христианство исповедуется сравнительно небольшим и притом непривилегированным кружком людей. Великий жрец, вероятно, окончательно растерялся бы, если бы увидел список лиц, исповедующих христианство! Здесь были самые громкие и великие во всей империи имена, то были люди, известные знатностью и древностью своего происхождения, или из новых, прославившиеся своими победами над внешними врагами империи и государственною мудростью во внутренних делах ее.
Вопрос был в высшей степени затруднителен.
С одной стороны, малодушие и ненависть нашептывали гонение и всеобщее избиение последователей и чтителей ослиной головы33, а с другой стороны, государственная мудрость и простой практический здравый смысл советовали императорам не подниматься на напрасную борьбу, не слушать голоса заинтересованного лично в этом деле корыстолюбивого и славолюбивого верховного жреца и не подвергать опасности существование самой империи, которая уже и без того шаталась на своих основаниях, и если еще держалась, то исключительно лишь благодаря стараниям тех именно лиц, против которых и воздвигалась теперь буря. В числе многих клевет, к которым прибегали враги христианства, лжесвидетельствуя против христиан, была придумана и нелепая, кощунственная сказка, будто бы последователи Распятого Бога поклоняются ослиной голове.
Много раз совещались между собою оба императора, но все еще не могли прийти к соглашению, что им начать делать? Им странно дико казалось поднять гонение на тех людей, которые не только не разрушают общественный строй и порядок, но еще сами поддерживают его и старательно заботятся о процветании империи и ограждают императорскую власть. Но запавшее в души обоих императоров семя злобы, ненависти, страха и сомнений нашло для себя благодарную почву и не замедлило пустить в ней ростки.
Злоба и безотчетная ненависть против христиан росла в них не по дням, а по часам. К этому примешивался еще низкий и постыдный, почти животный страх за свою жизнь и за свое благополучие. Страх видеть всюду шпиона, изменника или наемного злодея заставил императоров замкнуться в самих себя. Они боялись с кем-либо советоваться, не знали, в ком найти точку опоры и доверенное лицо. Кто им остался верен? Никто, решительно никто. Они отовсюду окружены врагами и извергами, и это несчастное предубеждение заставляло их скрывать свой низкий страх перед людьми близкими, перед своими приближенными, даже, наконец, перед Советом.
В таком жалком состоянии находились оба императора. Только в беседе друг с другом они отводили свои души, только тогда они чувствовали себя бодрее и сильнее. Несчастные! Они даже были лишены общества живых людей, общества себе подобных, они добровольно ушли от света и сами себя заперли в тесную тюрьму взаимного общения друг с другом. Только оставаясь наедине, они чувствовали себя спокойнее. А там, за пределами их жилья, нескольких душных комнат, избранных ими для своего пребывания, грозно бушевал и ярился темный мир людской, все помыслы которого исключительно были направлены к одной только цели: унизить и растоптать их роскошную диадему34, лишить их власти, почестей, славы и жизни.
Наконец, это одиночество стало нестерпимо для них. Они начали думать, не созвать ли им снова Совет, но исключительно лишь из язычников, и поступить во всем согласно с их мнениями?
Несколько раз поспоривши и даже один раз крупно поссорившись, друзья остановились наконец на последнем способе помочь своему положению.
Максимиан уже заранее решил, что гонение необходимо и притом гонение наистрожайшее и наибесчеловечнейшее. Но, заглянувши в списки христиан, он несколько дней еще колебался, придумывая и приискивая в своем уме, кто бы из язычников мог заменить тех, кто, по его мнению, должен был пасть под секирой палача?
Мысль эта была тяжела для правящего императора, так как все те, кого он уже осудил на казнь, были люди почтенные, всеми любимые и уважаемые, известные безмерной честностью, верностью и другими добродетелями, были в полном смысле этого слова столпами государства, уже расшатанного и падающего. И таких людей он не мог найти между язычниками, так как те, напротив, отличались всевозможными пороками.
Но сердце человеческое непостижимо. Те же самые христиане, о которых Максимиан знал, что они люди уважаемые и почтенные, друзья порядка и законности, те же самые христиане представлялись вновь глазам его людьми лживыми, бесчестными и презренными, казались корыстолюбцами, любостяжателями и развратниками только потому, что они были христиане. Они являлись перед его глазами бунтовщиками, которых следовало всюду разыскивать, казнить и истреблять вместе с их семьями и даже имуществом. Вот до чего додумался несчастный Максимиан.
Но где же достать императору такого человека, который бы, нимало не задумываясь, строго и точно исполнил бы все то, чего требовал от него Максимиан?
Где взять такого человека?
И Максимиан тяжело задумался, перебирая в уме имена своих сотрудников и приближенных. На одном имени он остановился, подумал с минуту и вдруг радостно воскликнул, потирая от удовольствия руки:
– О, я нашел себе помощника! Я нашел! Вот моя правая рука, вот совершитель моей воли! Победа – моя!
Не прошло и часа, как Максимиан вступил в беседу о мерах против христиан с военачальником Ветурием, свирепым и безбожным фанатиком-язычником.
Глава VII
Не без причины Адриан ничего не говорил Наталии о том, что делалось при дворе. Он не хотел пугать ее рассказами о намерениях Максимиана и о страшных приготовлениях к гонению. Это было ему самому настолько тяжело, что он рад бы был хоть немного забыться от действительности. К сожалению, этого нельзя было сделать. Благородная душа его страдала страхом за других, за тех, коих теперь ждало ужасное испытание. Он боялся за то, все ли будут мужественны, все ли будут в силах перенести это испытание и не упасть, не изменить своему Богу, своим убеждениям.
Тем не менее Адриан обещал своей жене рассказывать все, что только ни предпринималось против христиан при дворе кесаря. Он видел, что она страдает, ничего не зная, и ощутил некоторый упрек в своей душе за то, что ничем не делится с Наталией, горячо ему преданной и любимой. Ему самому было бы легче поделиться с ней своей печалью, своим страданием. Наталия своими советами и нежным вниманием могла бы поддержать его в тяжелой борьбе, и он, как это часто бывало и прежде, придя домой усталый и сумрачный, раздраженный или печальный, всегда находил в ней нравственное врачевство, которое успокаивало его душу и разгоняло печальные мысли, теснившиеся в его голове.
Но Наталия еще не была посвящена в последние события, произошедшие в Никомидии и при дворе, она ничего не предчувствовала и по-прежнему оставалась только верным советником и другом Адриана, не пытаясь расспрашивать его и навязываться со своими ласками, но ожидая во всем откровенности от него. Она настолько была уверена в искренности мужа, что не пыталась расспрашивать его, хотя видела, что что-то новое и грозное надвигается на ее спокойную, веселую, беззаботную, счастливую жизнь. Но Адриан молчал и делался только все сумрачнее и сосредоточеннее.
Дни шли за днями в доме Адриана в обычном порядке, только уж прежней веселости не замечалось в Наталии. Она стала молчалива, серьезна, почти никуда не выходила и подолгу сидела в своем кабинете, как бы что-то раздумывая или соображая. Даже домашние мало видели ее, так как она почти не оставляла свою комнату. Мало-помалу в доме воцарился поистине мертвый покой, потому что и прислуга боялась лишними разговорами или песнями нарушить молчание и спокойствие своей госпожи.
Ей еще не было известно, что предпринял Максимиан, в ее душе теплилась слабая надежда, что благонамеренными людьми будут предприняты все меры, чтобы продлить мир и безопасность в государстве, она цеплялась за эту мысль и веровала в нее, желая, чтобы честь умиротворения империи исключительно принадлежала ее мужу. Но черные тучи все гуще надвигались и вились над Восточно-Римской державой, и буря грозила разразиться ежеминутно. Предупреждающих, приближающихся ударов грома Наталия, впрочем, еще не слыхала.
Однажды Адриан вернулся домой настолько задумчив и печален, что позабыл даже поздороваться с Наталией, что он всегда делал, когда возвращался домой. Это показалось Наталии странным и вместе с тем неприятно поразило ее. Ей сделалось тяжело от такой забывчивости мужа, но она ничего не сказала и выжидала, что он ей станет говорить. Но он молчал, а лицо его выражало столько отчаяния и горя, что Наталия, схватив его за руку, быстро увела его к себе в комнату и поспешно спросила, не спуская с него глаз:
– Что это с тобою сделалось, мой Адриан? Ты даже позабыл поздороваться со мною… Что с тобой случилось?
Адриан крепко пожал руки Наталии и, тяжело вздохнув, проговорил:
– Прости меня, моя дорогая Наталия! Но то, что случилось сегодня, настолько потрясло меня, что я до сих пор еще еле держусь на ногах. Дай мне хоть немного отдохнуть, а потом я все стану рассказывать тебе по порядку.
Он тяжело опустился на близстоявшую софу, закрыл глаза и замолчал. Холодный пот выступил у него на лбу, а он весь дрожал, как в лихорадке.
– Что такое случилось с тобой, мой друг? Говори же скорей, не мучь меня! – проговорила, наконец, Наталия глухим, упавшим голосом.
Адриан молчал.
– Говори же! – почти крикнула Наталия.
Тогда Адриан открыл глаза и пристально посмотрел на нее.
– Решен, наконец, вопрос о христианах, – медленно начал он. – Разрешил его в самом ужасном смысле сам Максимиан и тотчас же энергно приступил к делу их истребления. Нашел он и помощника себе: военачальник Ветурий взял на себя почин в этом гнусном и кровавом деле!
– Что ты говоришь, Адриан? – воскликнула Наталия с ужасом и закрыла лицо руками.
– Христиане, – продолжал Адриан, – внешне совершенно спокойны, но в силу декрета Максимиана должны быть все истреблены, и эту постыдную услугу взялся совершить наш расторопный и кровожадный, наш страшный Ветурий.
– А когда это было решено? – спросила Наталия.
– Это решено вчера ночью, а сегодня уже отдан приказ, и начались действия по исполнению этого приказа. Ветурий позвал на совет всех офицеров здешнего гарнизона и прочел перед ними императорский указ, которым отныне навсегда воспрещается открытое исповедание христианства по всей империи. Затем Ветурий, уже от себя, призывал офицеров последовать этому указу и действовать во исполнение оного. На это некоторые из присутствовавших отвечали Ветурию, что указ расходится с их убеждениями, так как они сами принадлежат к тем людям, которые исповедуют христианство, и просили ходатайствовать перед кесарем об уничтожении этого декрета. Но Ветурий грубо перебил их и потребовал безусловной покорности и повиновения императорскому указу, присовокупив, что все, кто не желает исполнить его и отречься от христианства, не могут уже более оставаться на государственной службе…
– А потом что?
– Затем он предложил офицерам обдумать их слова и его предложение оставить государственную службу и дал им для этого всего только один час времени, категорически требуя от них ответа.
– И вообрази же себе, что было дальше, – оживился вдруг Адриан и, встав со своего места, принялся взад и вперед ходить по комнате. – Через час времени все лучшие офицеры, наихрабрейшие люди во всем войске, лучшие стратеги и тактики нашей великой армии, одним словом, цвет и украшение Римской державы, подали в отставку и, как милость, просили исключить их из списков армии. Казалось бы, Максимиан должен был понять все это и переменить свою тактику, но он предпочел оставаться и далее все в том же гибельном для него и для всех нас заблуждении и…
– И что же дальше? – торопилась Наталия.
– Ветурий принял от всех прошения об отставке и отнес их к Максимиану. Но по дороге многие из придворных останавливали его и вручали ему так же свои отставки. Император, когда узнал об этом, пришел в величайшую ярость, видя, что многие патриции35 и трибуны36 отказались повиноваться указу и лучше желают потерять службу, чем отречься от христианства. Говорят, что он даже воскликнул: «О! Для них это так дешево не пройдет! Пусть они не думают, что отделаются отставками: всем голову долой!» Но затем, одумавшись, он сам вышел ко всем нам. И вот тут-то возник спор. Начался он из-за того, что некоторые из патрициев и придворных, наиболее близкие к императору люди, не побоялись прямо и мужественно, даже немного в резкой форме высказать ему, что они не согласны с его мнением о пользе истребления христианства. Император сердился, страшно кричал и спорил с ними. Более всех оспаривал императора Горгоний, который представлял ему самые убедительные доводы, что Максимиан погубит свое государство, и предостерегал его от этого необдуманного и опасного шага. Но все было напрасно! Максимиан ничего и никого не слушал или, вернее, не хотел слушать, кипятился все более и более и смотрел на всех нас, присутствовавших, такими глазами, как будто хотел всех проглотить. Горгонию же досталось более всех. Император бесился и кричал на него, топал ногами и сжимал кулаки, осыпая этого прекрасного человека и старого, идеально честного, почтенного служаку грубыми ругательствами. Натешившись вволю, он ушел обратно в свои комнаты, взяв прошения об отставке офицеров и пригласив следовать за собой Ветурия, а нам приказал оставаться во дворце и ждать его возвращения. Почти два часа он сидел в своем кабинете с глазу на глаз с Ветурием, затем тот удалился, вероятно, домой, а император опять вышел к нам в приемную, еще более раздраженным, как показалось нам, чем был раньше. Это, впрочем, тотчас же и не замедлило обнаружиться…
– И что же говорил далее император? – почти шепотом спросила Наталия.
Максимиан продолжал по-прежнему беситься и грозил непокорным и непокоряющимся его указу. Он горько жаловался на то, что отовсюду окружен изменниками и предателями, намекая на тех, которые заявили ему, что они христиане, но более всего он негодовал на Горгония, грозил, ругался и вообще вел себя до такой степени неприлично, что я видел это в первый и, вероятно, уже в последний раз, и если бы он обратился ко мне таким же образом, как к Горгонию, то, клянусь честью, я бы не позволил ему этого и расправился бы с ним иначе.
При этих словах на бледном лице Адриана вспыхнул румянец, глаза заблестели, и он, гордо выпрямившись и остановившись перед своей супругой, с достоинством указал на свой меч.
– Что ж было далее, Адриан? – спрашивала Наталия, краснея и опуская глаза.
– А было вот что. Почти половина всех придворных и других чиновников и патрициев тотчас же стали просить об отставке. Император ответил, что это, конечно, воля наша – служить или не служить государю и государству, – и что неволить он никого не может и не хочет, но он знает, как ему надо поступить с государственными изменниками. Затем он, попросту говоря, прогнал нас всех от себя, и я теперь прямо оттуда…
Адриан замолчал. Наталия тоже молчала, она была положительно убита этим рассказом. До сих пор она еще питала слабую надежду на лучший исход вопроса о христианах, теперь и эта надежда была разбита и в будущем не представлялось ничего утешительного. Сердце ее мучительно сжалось.
Она взглянула на Адриана, хотела что-то сказать, но вдруг из глаз ее ручьем хлынули слезы. Адриан заботливо подошел к ней и тихо положил свою руку на ее плечо.
– Что с тобой, моя дорогая? Отчего ты плачешь? – спросил он ее своим ласковым и вкрадчивым голосом, с нежным упреком и печалью глядя на нее. – Разве ты забыла, что обещала и должна быть хладнокровной?
Он сделал сильное ударение на последних словах.
Наталия продолжала плакать.
– Не плачь, моя дорогая! – продолжал утешать ее Адриан. – Твои слезы ничему тут помочь не могут… Катастрофа, во всяком случае, неизбежна.
– Ах, несчастные, несчастные! – сквозь слезы проговорила, наконец, Наталия, качая головой. – Несчастные христиане! Ни за что, ни про что так погибнуть!
– Полно, Наталия, успокойся! Что ж делать, если император так хочет?!
– А разве невозможно что-либо еще предпринять, чтобы отклонить это общее, ужасное несчастье? – спросила Наталия, вдруг оживляясь.
– Нет! Ничего нельзя сделать! – решительно ответил Адриан.
– Ах, если бы я могла, я бы сама пошла к Максимиану и на коленях умоляла бы его отказаться от этого ужасного предприятия…
– О, дитя, дитя! – глухо проговорил Адриан, и горькая усмешка искривила его губы. – В детской головке детские мысли! Знай же, Наталия, что если целый сонм государственных людей, понимающих и защищающих интересы Римской империи, не мог отвратить Максимиана от его пагубных для целости державы замыслов, то что же могла бы сделать ты, слабая женщина? Оставь эту мечту и не думай об этом!
Он нервно повернулся и отошел от Наталии.
И в самом деле, благородная сама по себе мысль Наталии была совершенно несостоятельна. Прежде чем решиться на какую-нибудь крайность, нужно было терпеливо дожидаться дальнейших событий и тогда уже действовать согласно с обстоятельствами. Но это было крайне трудно и не было в характере обоих супругов.
В этот день они были так взволнованы, что даже не могли обедать. Роскошный, изысканный и обильный яствами обед римского патриция был предоставлен в полное распоряжение его многочисленной прислуги. Но и рабы, и отпущенники нехотя воспользовались предоставленной им милостью. Их мысли заняты были одним: отчего господа их так сильно огорчены, что не приступили даже трапезе ? Эта мысль не давала покоя прислуге и она, в свою очередь, тоже лишилась аппетита.
Это был очень невеселый день в роскошном дворце Никомидийского претороначальника.
Глава VIII
Обнародование императорских указов и других служебных известий не было особенной диковинкой для граждан новой столицы римской империи Никомидии. Они привыкли, что их государи к прежним титулам своим «самодержца» и «кесаря» присоединяли все новые и новые, как-то: «непобедимые», «великие», «первосвященники», «трибуны», «консулы», «проконсулы», «отцы отечества», «благочестивые», с присовокуплением имен местностей, где были одержаны победы, имен покоренных народов и их вождей, и количества павших неприятелей. О таких победах, на самом деле существовавших, но также иногда и не существовавших в действительности, императоры любили объявлять весьма часто. В конце концов Никомидийские граждане перестали даже интересоваться ими и, быть может, только из одной учтивости или даже из боязни, когда проносился слух о какой-нибудь новой победе «непобедимых кесарей», посылали к ним во дворец депутации.
Депутации поздравляли обоих императоров с воинскими успехами и доблестями (иногда чисто фиктивными) и благодарили их за заботу об охранении жизни верноподданных, их имущества и границ государства, которые к этому времени почти не раздвигались, а только действительно охранялись, хотя иногда и урезались стараниями воинственных соседей, отовсюду окружавших империю. Впрочем, никомидийские граждане слышали только об успехах римского воинства, слухи же об уронах, которые оно часто терпело, почему-то до них вовсе не доходили.
Как бы там ни было, но объявление последнего указа кесаря взволновало всю Никомидию, и народ огромными толпами собрался послушать глашатая и его секретаря, объявлявших указ во всеуслышание по стогнам37 и торгам шумной столицы. По всем улицам, переулкам, рынкам и дорогам, ведущим в окрестности города Никомидии, на столбах были вывешены доски, на которых читался указ, производивший множество оживленных толков среди горожан и поселян ближних деревень и собиравший к себе толпы народа.