Белая вежа, черный ураган
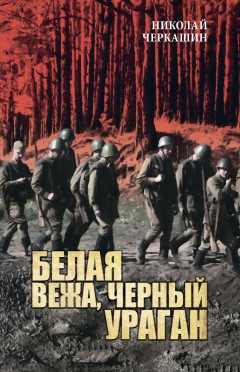
© Черкашин Н.А., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Сестре Ларисе Черкашиной, пушкинистке из Волковыска
…Есть что изучать по поводу периода 1941 года, и не один год, мы приоткрыли всего лишь ма-а-аленький край листа истории, осилить бы весь лист…
Дм. Егоров, историк
Вместо вступления
…Нехитрое дело – на войне доставить термосы с горячей гречневой кашей от полевой кухни до расположения роты. Ездовой красноармеец Жилкин, он же для молодых бойцов – дядя Егор, уложил в бричку-двуколку термос с борщом, термос с кашей, прикрыл соломой да еще прицепил отремонтированную пушчонку-сорокопятку, которую попросили срочно доставить в полковую батарею. Нехитрое дело… Но на войне любое нехитрое дело может обернуться потом-кровью. Вот и на дядю Егора, весьма немолодого бойца-ездового свалилось прямо с небес жестокое испытание. Едва он выехал на шоссейку, как откуда ни возьмись появился немецкий самолет.
Прыгать в кювет было уже поздно. Лошади неслись во всю прыть, и пушчонка-сорокопятка подскакивала выше передка.
Дядя Егор, нахлобучив на уши пилотку, пригнувшись, как чапаевец на тачанке, с тоской вслушивался в нарастающий рев «мессершмитта». Еще несколько секунд – свист бомбы, взрыв, смерть…
– Пречистая Богородица, помилуй мя, грешного…Ах, вы несыти, клячи ползучие! Мать вашу в лоб и по лбу!.. – нахлестывал коней старый солдат и до слез жалел себя, семью свою, которая вот-вот останется без кормильца…
Обер-лейтенант Шелике бросил истребитель в пике. Шоссе и артиллерийская упряжка с ездовым, вытянувшимся вместе с лошадьми в едином порыве, стремительно приближались.
Шли последние мгновения чужой жизни.
Он поймал упряжку в коллиматорный прицел и перевел палец на гашетку… На его фаланге блеснул алмазный перстень-талисман, тот самый, что подарила ему на выпуск из училища бабушка, бывшая фрейлина при дворе Вильгельма II, получившая перстень в знак особой милости от министра финансов Восточной Пруссии, большого знатока женских бюстов и старинных бриллиантов, который любил на досуге постоять за гранильным станком и сам обточил этот камень по огранке мальтийских рыцарей, чьи мастера, перед тем как начать шлифовку, погружали алмаз на сутки в жертвенную кровь…
Обер-лейтенант Шелике знал, когда нажать на гашетку. Он помнил формулу на упреждение, абсолютно непогрешимую, выведенную его дядей – профессором-математиком Кельнского университета – громоздкую, неудобную, практически бесполезную, но точную ради самой точности, где L – дистанция, V – скорость самолета, W – скорость цели, ε – угол атаки, Q – коэффициент вибрации, 3 – сила ветра в баллах по Бофорту, ψ – поправка на чуть заметную дрожь руки, которую вызывает пульсирующая в жилах кровь…
Но больше всего обер-лейтенант Шелике надеялся на свою интуицию – мистическую непознаваемую способность человеческого духа, которая в учении Фридриха Шеллинга – именитого родоначальника Шелике – предстает как эфемерный флюид, то есть низшей субстанцией божественного провидения, и как все флюиды, интуиция проходит сквозь оболочку души, воздействуя на разум и волю, очищенные катарсисом, и уже затем проникает в кровь…
Все четыре пулемета ударили разом – четыре огненные струи вспороли полотно дороги…
Кровь брызнула в лицо Жилкину, горячая конская кровь, из разорванной бедренной жилы, которую рассекла большая щепка от дышла, в которое угодила пуля, единственная пуля, попавшая в упряжку. Но жеребец продолжал мчаться как ни в чем не бывало. Красноармеец Жилкин погрозил кулаком, улетавшему самолету с черными тевтонскими крестами на крыльях и засмеялся:
– А все-таки мы живы! Итить твою мать с перебором!!!
А термосы с едой не пострадали, как и уцелела пушчонка-сорокопятка…
Красноармеец Жилкин бежал вместе с остатками взвода к спасительному лесу. Бежал, чтобы укрыться и спастись от бивших с неба самолетов.
- Из всех смертей – мгновенная, пожалуй, всех нелепей.
- Совсем немилосерден ее обманный вид:
- Как топором по темени – шальной осколок влепит,
- И ты убит – не ведая, что ты уже убит.
Жилкин, пока еще не убитый, бежал, прикрыв темя широкой крестьянской ладонью – как будто он мог спасти голову от летящих пуль и осколков. Бежал, повторяя одну и ту же молитву: «Господи, спаси люди твоя!..» А рядом падали люди из его родного второго взвода.
- Оборвалось дыхание на полувздохе. Фраза,
- На полуслове всхлипнув, в гортани запеклась;
- Неуловимо быстро – без перехода, сразу —
- Мутнеют, оплывая, белки открытых глаз.
Деревенский житель Жилкин никогда прежде не видел самолетов. Разве что на картинках да несколько раз в кино. Он никогда не видел так близко ни одного самолета, как сейчас. Бешеные беспощадные стальные птицы не просто пролетали над головой, а мчались именно за ним, за его сотоварищами, которые бежали рядом, и впереди, и позади с одной лишь мыслью – поскорее нырнуть в спасительную сень леса. Но хищные птицы с яростным ревом догоняли-обгоняли их и под грозный клекот пулеметов вколачивали в землю большие пули, пришивая насмерть к ней тех, кто не успел увернуться… 222-й стрелковый полк.
- И не успеть теперь уже, собрав сознанья крохи,
- Понять, что умираешь, что жизнь твоя прошла,
- И не шепнуть, вздохнувши в последний раз глубоко
- Всему, с чем расстаешься, солдатское «прощай»…[1]
Порой «юнкерсы» пролетали так низко, что застили свет и обдавали его горячим ветром и запахом сгоревшего бензина.
«Господи, спаси и сохрани!» – взывал к небу Жилкин. И Господь его услышал и даровал ему спасение. Жилкин ворвался в чапыжник на опушке и залег под кривой перекрученной сосной…
Спасен! Слава тебе, Господи! Над головой спасительный зеленый полог. Никто его теперь не высмотрит и не выцелит.
Наконец «юнкерсы» улетели, и командир второго взвода лейтенант Черкашин закричал что было сил:
– Второй взвод – ко мне!
И Жилкин вспомнил, что он из второго взвода и ринулся к лейтенанту, который должен знать и сказать, что сейчас делать и куда идти. Все они – кто в пилотках, кто в касках, кто на голую голову сгрудились возле взводного. Провели перекличку.
– Дударенок!
– Я.
– Козлович!
– Я.
– Жилкин!
– Я.
– Пономарев!
– Убит.
– Иголкин!
– Убит.
– Быховцев!
– Я.
– Рашкович!
– Убит.
– Пиотровский!
– Я.
– Муртазов!
– Убит…
От всего их взвода в тридцать душ осталось после боев на границе, если не считать командира, всего восемь человек: Жилкин, помкомвзвода старший сержант Дударенок, пулеметчик Козлович, снайпер Бесфамильный, стрелок Быховцев, два брата-узбека Рашид и Мурад Тузлукбашиевы, стрелок Пиотровский…
– За мной! – скомандовал Черкашин, и вся горстка бойцов двинулась за лейтенантом. Шли недолго – до ближайшего ручейка.
– Привести себя в порядок. Я – в роту. За меня – старший сержант Дударенок. – Напившись воды, Черкашин ушел по просеке искать начальство, а Жилкин и все другие жадно припали к ручейку. От родниковой воды ломило зубы, но с каждым таким глотком в тела, измученные двумя бессоными ночами, почти беспрерывными атаками немцев, воздушным разбоем «юнкерсов» возвращалась жизнь и сила. И вера: уж теперь-то все будет хорошо, уж теперь-то спасены, уж теперь-то дойдем до своих… У кого были фляжки, те наполняли их водой по горловины. У кого не было – умывались живой водой, смывая сонную одурь, смертельную усталость, только что пережитый страх перед карой с небес.
У Жилкина фляжка была цела, и он притопил ее в ручейке, а потом вытащил ее, мокрую и тяжелую. С водой! А тут еще Козлович принес откуда-то пилотку, наполненную медом.
И словно в награду за пережитый ужас и преодоленные тяготы был для них этот райский вкус…
Широколиственный лес великодушно призревал их, обреченных берлинской властью на смерть.
Часть первая. «Сорок девятая, врагами клятая…»
Глава первая. Волковыск-на-Росси
Древний городок на неширокой Росси утопал в сиренях и жасмине. По вечерам в сиреневых туманах гудели майские жуки, облетывая сады, рощи и прочие райские кущи. Пышные гроздья и белые соцветия свешивались через ограды палисадников, через кованую решетку вокруг церкви Святого Николая и просто покачивались на ветру во всех дворах, проулках и садах, на кладбищенских оградках. Утопал в сиренях вокзальчик – в стиле польского барокко: они же, эти скромные загадочно-колдовские цветы, преображали корпуса старинных краснокирпичных казарм неподалеку, где располагались теперь не конные стрельцы Войска польского, а красные конники 6-й кавалерийской дивизии РККА.
У кобыл еще не кончилась течка, и потому в полковых конюшнях было неспокойно и шумно: жеребцы били копытами в полы денников, кобылы призывно ржали – заливисто и с особой дрожью в голосе. Середина июня – это пик эструса[2], разгар охоты, недолгое, но жаркое время конской любви. И хотя опытные всадники предпочитали буйным игривым жеребцам спокойных, тихих меринов, не нарушавших в походах звукомаскировку, тем не менее жеребцов в волковысских казармах было немало: только что провели ремонт – и в полки прибыло молодое конское пополнение. А кастрационная кампания запоздала по вине начальника ветеринарной службы полка, ветврача 3-го ранга Колышкина, который сейчас держал ответ перед командиром дивизии генералом Никитиным:
– Вы ставите боевую готовность своего полка под угрозу! Ржание на походе – куда ни шло. Но в разведке, в дозоре, в секрете это недопустимо! … Да что я вам азбучные истины читаю. Вы опытный конник, десять лет в строю и позволяете себе такое попустительство! Июль на носу, а у вас еще случный период тянется!
– Товарищ командир, разрешите дать пояснения!
– Давайте!
– Наш главный специалист по конским органам ветфельдшер Ватников был арестован спецорганами и находится под следствием.
– И опять ваша вина – просмотрели врага народа, пока бдительные товарищи вам не подсказали.
– Я готов поручиться за него. Враг народа не может так качественно и так быстро кастрировать жеребцов. Верните его нам хотя бы на операционный период.
Никитин долго ходил по кабинету и, всякий раз проходя мимо ветврача, бросал на него быстрые взгляды, изучая бесстрастное лицо Колышкина.
– Хорошо! – изрек он наконец. – Сделаю все возможное, чтобы вернуть вам специалиста. Хотя бы на время… И очень надеюсь, что вы закроете кампанию в кратчайшие сроки!
Тем временем друг ветфельдшера Ватникова и лучший наездник полка старшина Незнамов гонял на корде Дикаря – кабардинского скакуна великолепных статей. Дикарь полностью оправдывал свою кличку: дикарь, и все тут. Еще ни одному полковому всаднику, даже мастеру спорта командиру 1-го сабельного эскадрона капитану Кудинову, не удалось проехать на нем в седле хотя бы круг.
Незнамов гонял Дикаря до тех пор, пока тот, по его мнению, не сбросил «дурную силу», и только потом с помощью трех бойцов, которые держали строптивца с двух сторон, водрузил на него облегченное спортивное седло. Потом, не спуская стремян, вскочил в седло прямо с земли и заплясал, завертелся на Дикаре, как заправский ковбой. Жеребец изгибался, пытаясь цапнуть зубами коленку всадника, но старшина быстро осаживал его и гнал вперед, не жалея шенкелей.
Вокруг кордовой площадки собрались праздные зрители, некоторые даже делали ставки на пачку «Казбека» (самые ходовые в дивизии папиросы) или даже на новенькие шпоры. Но Дикарь все же сбросил Незнамова, и тот, матерясь и обещая строптивцу веселую жизнь, увел его в денник. Сегодня вечером Незнамову предстояло заветное свидание на берегу Росси с Альбиной, белошвейкой военторговского ателье, и старшина не хотел предстать перед голубыми глазами подруги увечным воином – хромоногим или кривобоким. Он надеялся, что дурная примета (утром положил на койку фуражку) воздействует только на его выездку и никак не омрачит вечернюю встречу. Старшина Незнамов, как и большинство джигитовщиков, был суеверен. Он, например, полагал, что конь, наступивший в лесу на волчий след, обязательно вскоре захромает. А от дурного сглаза оберегался тем, что обвязывал левое запястье конским волосом, вырванным из хвоста своего коня. Комиссар полка не раз высмеивал его, кандидата в члены ВКП(б), за это «мещанское мракобесие», но Незнамов оставался верен дедовским приметам. Так, чтобы поднять загрустившему коню настроение, вернуть ему вкус к жизни, он всегда кидал на дно поильного ведра медный пятак. И уверял всех, что это весьма действенное средство и что так делал его дед (по материнской линии) Степан Афанасьевич Гречишкин, кубанский казак, полный георгиевский кавалер по русско-турецкой войне невесть какого счета… Дед делился с внуком не только секретами конного дела, но и рассказывал под добрую чарку и хорошее настроение про своего деда. Рассказывал почему-то полушепотом, но всегда с горделивым блеском в глазах – про сотника станицы Тифлисская Андрея Гречишкина. Много позже Антон прочитал в старом журнале «Нива» про подвиг своего пращура.
Очерк назывался «Лошадиный редут». Дело было так:
«Утром 15 сентября 1829 года реку Кубань пересекла неполная казачья сотня – 62 человека из станиц Тифлисской и Казанской – во главе с сотником Андреем Леонтьевичем Гречишкиным. Отряду было поручено исследовать левый берег Кубани возле места под названием Волчьи ворота, откуда, по данным разведки, горцы при поддержке Турции планировали атаковать казачьи станицы. Чтобы рассеять внимание казаков, они осуществляли вылазки мелкими группами в разных местах. Необходимо было выяснить, где они собирали основные силы. В середине дня перед Волчьими воротами казаки встретили отряд Джембулата Айтекова, во много раз превышающий численностью неполную сотню Гречишкина…» Отряд абреков-головорезов шел на родную станицу – на Тифлисскую. И его надо было остановить во чтобы то ни стало. И молодой сотник, понимая, что это будет последний бой, придумал небывалое. Он велел казакам спешиться, стать полукруглом и убить своих коней кинжалами. Обливаясь слезами, казаки сделали все так, как приказал сотник, первым заколовший своего гнедого красавца. Тела коней выложили полукругом, как редут и встали, вскинув ружья. Расчет сотника оказался верным. Кони врагов, чуя своих мертвых собратьев, вставали на дыбы, сбивая атаку и подставляя своих всадников под ружейный выстрел…
Держались долго. Но полегли все, прикрыв путь на родную станицу. Под перезвон колоколов казаки несли на плечах девятнадцать гробов во главе с порубанным сотником. Убиенных сопровождал конный взвод с обнаженными шашками… Казаков похоронили в братской могиле в центре станицы, а сотника Андрея Гречишкина и двух урядников – в отдельных могилах тут же. На братский холм поставили пушку. Антон помнил, как дед водил его мальцом к этой могиле. Тогда ему была интересна только пушка. Он залезал на нее и смотрел в широкое дуло. В 1934 году пушку увезли в Кропоткин – к местному музею. А часовню и братскую могилу взорвали. «Расказачили» станицу…
Старшина Антон Незнамов как сверхсрочник жил не в военном городке, а в самом Волковыске – на частной квартире. Собственно, ту комнату, которую он снимал у настоятеля городского храма Святителя Николая отца Феофилакта, квартирой и не назовешь: обыкновенная комната с круглой чугунной печкой посередке и двумя окнами в сад. И утварь незамысловатая – кровать, стол, две табуретки, скрипучее кресло-качалка, резной дубовый шкаф. В правом углу, как положено, стояла на треугольной полочке икона с ликом Николая-чудотворца. Незнамов как кандидат в члены ВКП(б) хотел поначалу икону снять. Но при здравом размышлении решил ее оставить. В конце концов, никого из сослуживцев, равно как и из особ женского пола, в свое жилище он не приглашал и приглашать не собирался. Даже прекрасную Альбину, у которой была своя городская хата, хоть и крытая дранкой, но с весьма крепким срубом. В том доме она жила с младшей сестрой Христиной, осиротев в одночасье перед приходом в Волковыск Красной Армии.
Батюшка Феофилакт – полноватый русовласый литвин – был весьма приветлив, и на столе у Незнамова к полудню появлялось блюдо то с садовой черешней, то со спелыми грушами, то со сладкими яблоками каштелями. Матушка – такая же корпулентная, как и настоятель, – не обносила постояльца блинами и драниками, которые пекла в саду на летней дровяной плите.
Однажды батюшка принес в пристройку черную тарелку – радиорепродуктор и включил его в розетку – тут же полилась приятная музыка.
– Вот, от прежнего жильца осталась. Может, вам сгодится новости слушать?
– Сгодится! – одобрил старшина. В самом деле, это было очень удобно – приходить на политинформации, окунувшись в последние московские известия. Зачет всегда обеспечен!
Надраив хромовые сапоги, одернувши гимнастерку со старшинской «пилой» в васильковых – кавалерийских – петлицах, сбив на затылок синеоколышную фуражку, Незнамов отправился в точку встречи – на мостик через Россь.
Глава вторая. Дворец «Александрия»
Майский сиреневый пожар полыхал и в других приграничных городках – в том же Высоко-Литовске, что на речке Пульва. И здесь между церковью и костелом, между заброшенным австрийским кладбищем и синагогой носились, гудя, все те же майские жуки, украшенные зубчатым узором по белым брюшкам. И здесь уже по городским взгорьям мела одуванчиковая метель. И здесь почти все было так же, как в Волковыске: стояли аисты в гнездах на столбах и коньках, осеняли путника распятия на перекрестках, а камни-валуны, стянутые с полей на опушки и обочины, огораживали церковь и костел; и конечно же речка Россь ничем не отличалась от речки Пульвы. Разве что чуть быстрее бежали ее темно-зеленые воды, разве что кое-где разливалась пошире, да в лучшие годы несла на себе торговые суда и баржи. По Пульве в стародавние времена доставляли во дворец Потоцких бочки с вином. Сам дворец стоял на холме. Он и по сию пору там стоит. Но тогда, в 1940 году, там обосновался полковник Васильцов со своим штабом – мозговым центром 49-й стрелковой дивизии.
Новый комдив был немолод – 48 лет. Но успел послужить и на флоте, и в кавалерии, и в пехоте. Сюда, на самый западный край страны советов он попал волею казенного случая. Он просился отправить его на Дальний Восток или Крайний Север, а кадровики (смысл их назначений порой ведает только Господь) отправили его на Крайний Запад СССР – в старинный городок Высоко-Литовск, вчерашний польский поветовый центр, а ныне советский райцентр. В несбывшемся желании Васильцова таился особый смысл. И вот какой…
В тревожном 1938 году спокойной, налаженной жизни подполковника Васильцова, преподавателя тактики в Военной академии РККА имени М.В. Фрунзе, пришел конец. После первой волны арестов в Академии в 37-м году надвигалась новая, вторая. Константин Федорович стал готовиться к неизбежному. «Замести» его должны были хотя бы по одной причине – как бывшего офицера царского флота. В чине прапорщика по Адмиралтейству он пробыл всего трое суток. Тогда, за два дня до большевистского переворота, чертежник отдела кораблестроения Генерального морского штаба матрос-охотник Васильцов был произведен приказом командующего Балтийским флотом в первый офицерский чин – в прапорщики по Адмиралтейству. Васильцов даже не успел приобрести золотые погоны со звездочкой посреди красного просвета. Он узнал об этом в Крыму, где находился на излечении от туберкулеза. В советское время он ни в каких анкетах не упоминал об этом военно-юридическом казусе. Писал – «служил матросом Балтийского флота». И это весьма возвышало его в глазах строгих пролетарских кадровиков. И вот теперь, если кто-то из них поднял книги приказов за октябрь 1917 года, он вполне мог обнаружить тот роковой приказ. И никакие иные заслуги Васильцова в рядах Красной Армии (бои с белоказаками под Уральском, бои с войсками генерала Деникина под Астраханью или бои с азербайджанскими муссавитистами в Муганской степи), ничто из этого не могло отвести от него убийственный вопрос: «Почему вы скрывали в своих анкетах принадлежность к офицерскому корпусу царского флота?»
Почему?
В самом деле – почему? Васильцов ответил бы: да потому что я никогда не носил офицерских погон и всю «империалистическую» войну прослужил чертежником-кораблестроителем». Но это было слабым оправданием, он понимал это и готовился к аресту: сжег все письма от друзей-однополчан, отправил жену с сыном в Ленинград, где у Зои была большая родительская квартира на Нарвской заставе, собрал «тюремный чемоданчик» со сменой белья, бритвенными принадлежностями и большим пакетом ржаных сухарей, томиком Лермонтова… Он очень смутно представлял себе, что может разрешить взять с собой тюремное начальство. Но, по великому счастью, брать с собой ничего не пришлось. Бывший однополчанин по боям в Ленкораньском уезде, а ныне замначальника кадрового отдела Академии майор Иван Павлович Харитонов дал ему бесценный совет: «А знаешь что, Федорыч, переводись-ка ты поскорее в войска, неровен час и тебя загребут. Просись подальше. Потом, когда все утихнет, вернешься, да еще со строевым цензом».
И ведь спас Харитонов, здоровья ему немеренного! Никто из армейских кадровиков не усмотрел ничего подозрительного в том, что преподаватель кафедры тактики решил поднабраться современного военного опыта в войсках. Даже похвалили его за это в академической многотиражке. И полковнику Васильцову дали сразу дивизию. Сорок девятую стрелковую, родом из Костромы, стоявшую ныне на самых западных рубежах – севернее Бреста, на реке Пульва, в округе знаменитой Беловежской Пущи.
На все про все, на врастание в свое командирство, изуче-ние личного состава, а также театра военных действий судьба отпустила ему немного, но и немало – одиннадцать месяцев. (Его командарму генералу Коробкову она дала всего один месяц.) За этот небольшой срок Васильцов успел вникнуть в суть своей новой службы и кое-что сделать для повышения боеготовности 49-й. Он никогда не видел свою дивизию в целостном виде – так, чтобы все пять полков – три стрелковых и два артиллерийских – собрались бы вместе, стояли бы в одном строю. Да этого и не требовалось. Дивизия была рассредоточена в довольно пространном районе: с запада местечко Семятыче, с севера – железнодорожная станция Черемха, с востока – восточной окраиной Высоко-Литовска и селом Малые Зводы, с юга – приграничными укреплениями вдоль Буга. Вот на них-то – на железобетонные доты новой оборонительной линии – и была вся надежда. Эти бункеры должны были стоять, словно столбы в крепостной стене, а васильцовские полки – полевое заполнение – служили как бы куртинами этой стены. Однако все это мощное защитное заграждение еще только создавалось. «Столбы», то есть доты, пребывали в незавершенном состоянии, дивизия была готова заполнить пространство между ними, между опорными пунктами и районами, но костяк обороны Западного фронта готов еще не был, несмотря на все понукания из Москвы и Минска.
Васильцов доносил своему начальству: численность дивизии составляет 11 690 человек (при штате военного времени 14 483 человека). Вооружением, боеприпасами, танками и бронеавтомобилями дивизия была в основном укомплектована; штатный гужевой транспорт в полном наличии, нехватка автотранспорта – 25 %.
К началу боевых действий на строительстве укреплений непосредственно по границе находились два батальона – 212-го и 222-го стрелковых полков. 15-й стрелковый полк располагался в основном в Высоко-Литовске, 212-й полк – на станции Нурец, 222-й – в Черемхе. С началом войны дивизия должна была занять и защищать рубеж Брестского УРа в районе Высоко-Литовска по границе от Нура до Дрохичина – а это 24 километра. Многовато для одной дивизии… Для нападавшей на сорок девятую 134-й немецкой пехотной дивизии фронт наступления составлял всего пять километров.
Правда, ей предстояло форсировать Западный Буг в районе деревни Новосёлки, но преодоление водной преграды немцев не пугало…
После Москвы, после столичной суеты, трамвайного лязга, воя подземных поездов, после толп на центральных площадях и улицах, острых локтей в вагонной давке, какофонии автомобильных гудков, после жаркого воздуха, настоянного на асфальтовой вони и выхлопных газов, Высоко-Литовск казался курортным городком, где каждый второй житель – прирожденный лекарь, фельдшер или сестра милосердия, которые своей неспешной, размеренной жизнью учат сумасшедших московитов и питерцев, как надо ходить по тротуарам, пить пиво, общаться друг с другом, наслаждаться житейскими радостями. Там, в столице, возникало ощущение, что жизнь – это мучительная спешка. Здесь же, на краю страны и Брестской области, стоило только отвлечься от служебных дел, как жизнь становилась тихим наслаждением.
Здесь, в Высоко-Литовске, вдали от больших командиров (они оставалось в Бресте и Кобрине) полковник Васильцов был старшим воинским начальником и начальником гарнизона. И это тоже снимало уровень напряженности.
Позже старшим по званию стал начальник брестского укрепрайона генерал-майор Пузырев, но тот никогда не претендовал на свое воинское старшинство, понимая, что бал в городке правит командир дивизии, без пяти минут генерал Васильцов, а он, Пузырев Михаил Иванович, всего лишь строитель, начальник 62-го укрепрайона, и они никак не подчинены друг другу. Он и на бывший графский кабинет, в котором устроился Васильцов, претендовать не стал, а обосновался в отдельной постройке в усадебном дворе.
Главной примечательностью здесь был старинный парк, за который хозяйка усадьбы получила даже медаль в Париже. Благодаря ее заботам аллеи радовали глаз и австрийской сосной, и лиственницей, росли здесь и черешчатый дуб, и высоченные туи, повсюду цвели желтые и белые акации.
Для своего штаба Васильцов выбрал самое красивое здание в местечке – «Александрию», (так назывался дворец эмигрировавшего графа Потоцкого) – белый одноэтажный особняк с классическим портиком о четырех колоннах. «Александрия» меньше всего походила на дворец – здание очень простой архитектуры, без претензий на какой-либо ампир или рококо.
Дворец стоял на возвышении, к нему вела дорога, мощенная «косткой». От левого флигеля простирался старинный парк, еще не запущенный и не заросший. Одну из комнат этого флигеля – с видом на парк – Васильцов взял себе под квартиру. В ней было довольно тихо и светло, а самое главное – она вместе со всем штабом находилась под приглядом охранной роты. Меблировал он ее по-спартански: железная солдатская койка, в изголовье старинный ломберный столик на гнутых ножках с перекидным календарем, венский стул и шкаф для одежды. Ну и стальной личный сейф под столиком.
В остальных покоях и флигелях с большим удобством разместились все отделы штадива. Командиру дивизии отошел еще и бывший графский кабинет, от прежнего убранства которого сохранился лишь большой письменный стол на львиных лапах из беловежского дуба, да курительный столик, вещь совершенно забытая в советском быту, но памятная Васильцову по временам отрочества и юности. Такой же стоял и у них дома: на мраморной столешнице, словно приборы на лабораторном стенде, поблескивали тусклой бронзой спичечница, пепельница, папиросница, шандал со свечой и гильотинка для обрезания сигар. Васильцов приглашал сюда на перекур своего комиссара Потапова, строгого, но справедливого вятского мужика, мудрого от природы и стойкого в своей партийной вере. Здесь они сиживали в неформальной обстановке, неспешно обсуждая насущные дела и международные события.
Над столиком висела картина (Васильцов поначалу думал, что оригинал, но потом выяснилось, что это все же копия) Шишкина «Срубленный дуб в Беловежской Пуще». Оказывается, художник приезжал в эти края на этюды по совету самого императора Александра III: «Поезжайте, голубчик, в Белую Вежу. Посмотрите, что такое настоящий лес!» И Шишкин поехал и, вполне возможно, жил именно в этом дворце, в гостях у графа Потоцкого. Мог бы ему и оригинал подарить!
От былого убранства «Александрии» осталось очень немного: кресло на резных ножках и с резными подлокотниками, с потертой, но еще вполне замечательной спинкой из зеленого бархата да большая картина, которая не входила ни в двери здешних хат ни по размеру, ни по степени обнаженности трех дев. Васильцов не сразу понял смысл картины, ему объяснил бывший врач графа, который пользовал сегодня весь городок. Старый караим, он был настоящим эрудитом – кроме восточной медицины он был весьма сведущ в живописи, в ботанике, в истории, и даже геодезии, поскольку начинал свою трудовую деятельность землемером. Именно он, Матвей Матвеевич, и объяснил новому хозяину дворца, что на полотне художник такой-то (Васильцов фамилию не запомнил) изобразил аллегории Мужества, Тревоги и Отчаяния, наблюдающие за битвой. Больше всех ему нравилась дева с кинжалом в руке – Мужество. Такая за себя постоит. Она еще и Отчаяние утешает. Молодец, наш человек!
И кресло, и картину Васильцов велел перенести в свой кабинет.
А еще от прежних хозяев во дворце остались матерый рыжий кот, который охотно откликался на новую кличку Черчилль, и большой беспородный пес Гай. Оба были зачислены на штабной кошт. Оба прекрасно справлялись со своей задачей – снижать нервное напряжение сотрудников штаба дивизии.
Полки, а также отдельные дивизионы и батальоны дивизии были расквартированы в окрестных селах и деревнях. И в парке, и на улицах, и во всех магазинах городка всегда мельтешил военный люд, так что создавалось впечатление, что это не город вовсе, а военный лагерь.
Беда, с которой столкнулось командование дивизии, состояла в том, что на территории, которая отводилась 49-й дивизии, фактически не было помещений, приспособленных для размещения войск. Уж если в самом поветовом центре, в Высоком, кроме усадьбы графа Потоцкого, некуда было приткнуть даже охранную роту, то что говорить об остальном казарменном фонде. С большим трудом расположили два батальона 15-го полка и 79-й батальон связи.
В местечке с населением в шесть тысяч человек не нашлось свободных помещений для воинского постоя. Из шестисот домов почти все – деревянные хаты, кроме нескольких школ, мукомольни да двух спиртовых фабрик. Полковнику Васильцову надо было за считанные месяцы до зимних холодов разместить здесь тысячи красноармейцев, а кроме них – коней, автомашины, орудия, трактора, танки… В окрестных местечках тоже было тесновато. Пришлось разбросать дивизию по полкам и дивизионам в ближайших селах, в городках, станциях… Некоторые из них уже были заняты, как те же Семятичи: там уже квартировал штаб соседней 113-й стрелковой дивизии, прибывшей сюда в апреле 1941 года. Пришлось изрядно потесниться разведбату 49-й дивизии[3]. Ни одна местность в СССР, а может быть, и во всем мире не была столь насыщена войсками и боевой техникой, как эти приграничные области Белоруссии. Запад дышал угрозой, и это смертное дыхание вызывало прилив воинской силы со всем ее грозным железом и огнем, упрятанным в корпуса бомб и гильзы снарядов. Повсюду равняли грунт под взлетно-посадочные полосы, выли лесопилки, вырабатывая брус и доски для казарменных бараков. Повсюду строились, зарывались в землю, бетонировали котлованы под бункеры – готовились к неизбежному…
Чаще всего полковник Васильцов отправлялся в недалекое местечко Волчин[4], где располагался его 15-й стрелковый полк, стоявший ближе всех к границе. Приезжал он сюда не один, а со штабными спецами – на рекогносцировку, посмотреть в бинокли на соседей-немцев.
Командовал полком его земляк-ленинградец и тезка – 35-летний майор Константин Нищенков. К тому же связывала их одна и та же кадровая тайна. Нищенков тщательно скрывал (и ему это удавалось), что он из старого морского рода дворян Нищенковых, один из представителей которого, близкий родственник – Алексей Аркадьевич Нищенков, капитан 1-го ранга императорского флота и начальник Черноморской разведки, остался в белом зарубежье и пять лет назад скончался в Югославии. Стань это известно «органам», Нищенков мгновенно бы расстался и со своим полком, и со всей РККА, и непонятно, как бы сложилась его жизнь на «гражданке».[5] Полковник Васильцов был в свое время немало наслышан о порт-артурском герое Алексее Нищенкове, командире нескольких первых российских подводных лодок «Плотва», «Осетр» и «Граф Шереметьев». Он даже лично был знаком с ним в Севастополе. Но нигде и никогда о том не обмолвился. Даже земляку не намекнул, что он пил коньяк с его дядей. Быть может, и Константин Нищенков догадывался о военно-морском прошлом своего комдива, может быть, потому и тянулся к нему и чтил его. Впрочем, их отношения вполне укладывались в субординационные рамки начальника и подчиненного.
– Ну, товарищ майор, идемте полюбуемся на ваших соседей! – предлагал полковник Васильцов, и все они, штабисты, местные и приезжие, шли в один из блиндажей, предназначенный для скрытного наблюдения за сопредельной стороной.
И Васильцов приникал к окулярам сильного морского бинокля, единственной вещи, оставшийся со времен его былой флотской службы. В оптическом окружье плыл вражеский берег Пульвы, на котором мало что выдавало присутствие вермахта. Офицеры вермахта владели искусством оперативной и тактической маскировки. Но все же войск нагнали столько, что никакие уловки не могли их скрыть. Да они уже и не пытались это делать. Вон, в ста метрах от речки лежат штабелями лодки местных рыбаков, доставленные из глубины губернаторства понтоны, штурмовые боты. Ясен пень – для внезапной массовой переправы.
– И к бабке не ходи, – заметил Нищенков, – форсировать Пульву готовятся.
– Весь вопрос: когда они на это дело решатся? – опускал тяжелый бинокль Васильцов, оставляя над веками и ниже четкие круги наглазников. Никто не мог ответить ему на этот вопрос…
Глава третья. Шукай кобеты!
Май в Варшаве выдался по-летнему жарким. За столиком уличного кафе на Иерусалимских аллеях сидели двое. Со стороны – два прожигателя жизни, жуиры, повесы. Один другому подмигивал:
– Смотри, какая женщина! Не та, а вот, через два столика справа. Ну?
– Женщина как женщина. Вполне милая.
– Сам ты – милый. Ничего ты в женщинах не понимаешь! Она же настоящая красавица! А профиль какой! Только на медалях выбивать.
– Вот первую медаль тебе и вручим. «Шерше ля фам». Или ближе к нам: «Шукай кобеты».
– Зря смеешься. Это женщина могла изменить твою жизнь к лучшему.
– У меня и так прекрасная жизнь!
– Что ж в ней хорошего? Обычный батяр[6], приехал покорять Варшаву с пятью злотыми в кармане. И вообще, кому сейчас нужны искусствоведы? Где ты работу найдешь?
Такой разговор состоялся в ничем не приметной варшавской кавярне на Иерусалимских аллеях между двумя молодыми людьми. Один – Владек Волчинский – чуть постарше, или таким его делала щегольская бородка а ля мушкетер. Другой – Станислав Пиотровский – темноволосый атлет в тоненьком пенсне со шнурком. Эти широкие плечи и тонюсенькие стеклышки так диссонировали между собой, что сразу же приковывали к нему взгляд. К тому же он был хорош собой и одет в костюм-тройку при галстуке-боло с серебряной эмблемой, обвязанной модным узлом.
Женщина не спеша пила черный кофе и очень красиво держала в тонких пальцах тонкую пахитосу, которая так же неспешно испускала табачный дымок. Она была в изящ-ной соломенной шляпке с золотистой лентой.
– Пусть батяр, – слегка обиделся на батяра атлет. – Но Варшаву я покорю.
– Я тоже так считал, когда приехал сюда из нашего Богом хранимого Волчина… И…
– И?
– И покорил ее! Я сотрудник Министерства иностранных дел. У меня приличный оклад, положение и все такое прочее. Мне ничего не стоит завоевать сердце этой красотки. Могу подсесть к ней и познакомиться. Но я хочу, чтобы это сделал ты!
– Я?! Странное желание.
– Стасек, мы учились с тобой в одной гимназии. Наши родители в юные годы чуть не поженились между собой. И тогда бы я был тобой, а ты – мной. Забавно, не правда ли? Но они сделали правильный выбор, и я считаю тебя почти братом.
– Спасибо! Я к тебе тоже родственные чувства испытываю.
– Тогда давай выпьем за это! Сто лят!
– Сто лят! Но почему ты мне так сватаешь эту жен-щину?
– Потому что она поможет сделать тебе блестящую карьеру.
– Откуда ты знаешь, если ты видишь ее впервые?
– Я вижу ее не впервые. Она приходит сюда довольно часто и всегда в одно и то же время. Ее зовут Николь. Она сотрудница советского посольства в Варшаве. Наше министерство очень заинтересовано в том, чтобы она осталась в Варшаве и не уезжала в Москву. На то есть особая причина. Я пока умолчу. Но если ты сделаешь то, о чем я прошу – познакомишься, пригласишь ее куда-нибудь или у вас завяжутся более сложные отношения, тогда ты очень поможешь и мне, и нашему министерству. И тогда я смогу рекомендовать тебя на хорошую должность в нашем МИДе.
– Но я не дипломат.
– Я тоже не дипломат. Дипломат – это не профессия, это призвание. Состояние духа, воспитание, вкус, умение мыслить наперед. Все это у тебя есть. И даже со своим искусствоведением ты все равно будешь нам полезен. В конце концов, мы постоянно имеем дело с предметами искусства, картинами. Будешь экспертом по культуре.
Станислав засмеялся.
– Твоими устами да мед пить.
– Сам будешь мед пить да эклерами заедать. Иди. Познакомься. Пригласи. Уведи. Все, что от тебя требуется. А дальше моя забота.
– Даже не верится, что все так просто… Во всяком случае, я не могу гарантировать, что она останется из-за меня в Варшаве. К тому же я смотрю – у нее обручальное кольцо.
– Да, она замужем. Но этот брак чисто номинальный. Разведенных супругов возвращают на родину, им не доверяют международные дела.
– Если ты так много о ней знаешь, то почему бы тебе самому не заняться ею?
– Не заставляй меня повторять сказанное! Я хочу, чтобы мы вместе работали в одном ведомстве. Иди и дерзай! Или ты боишься женщин?
Стасек молча встал и подошел к столику, где сидела женщина в шляпке. Возможно, она почувствовала, что эти два молодых человека о ней говорят, во всяком случае, частенько поглядывали в ее сторону. Женщины такие вещи воспринимают особым чутьем, седьмым, восьмым или девятым.
– Прошу прощания, пани, я могу сесть за ваш столик?
– Да, пожалуйста.
– Не сочтите за назойливость. Но мой друг-художник открывает сегодня свою выставку. И в его галерее висит ваш портрет.
– Мой? – искренне удивилась женщина.
– Да, ваш. У меня хорошая зрительная память. Я сам некоторым образом художник. Вы никому не позировали?
– Никому и никогда!
– Странно… Но каким образом он написал ваш портрет?
– Вы уверены, что мой?
– Вы сами в этом можете убедиться. Это совсем рядом, на соседней аллее. Я уверен, что он подарит вам этот портрет. Он обязан это сделать, раз вы ему позировали.
– Да никому я не позировала! Но вы меня заинтриговали. Идемте посмотрим.
Стасек подал даме руку, и они поднялись по ступенькам из цоколя кавярни. Стасек обернулся – Владек поднял большой палец! Во! Он был явно восхищен скоростью развития событий.
Станислав вел спутницу на соседнюю улицу, где у его друга-живописца и неплохого портретиста была студия. Разумеется, никакого портрета Николь там не было. Но в его довольно обширном собрании можно было найти похожий портрет и потом уверять женщину, что это она. «Ах, возможно, я немного ошибся, но все же какое сходство! Вы так не считаете? Жаль. Я уже хотел было приобрести этот портрет, чтобы подарить вам…» Стасек уже наперед выстроил будущий разговор, но нести весь этот бред ему не пришлось. Дверь мастерской оказалась запертой. Друг, по счастью, куда-то вышел. Но знакомство-таки состоялось! И даже обещало продолжиться – Николь согласилась заглянуть сюда еще раз. Загадочный портрет ее очень заинтересовал. Стасек попал в точку! Он проводил женщину до самого посольства и оставил ей свою визитку. Она достала из сумочки свою карточку: «Посольство СССР в Республике Польша. Княженика Николаевна Мезенцева. Сотрудник отдела информации. Телефон…»
Стасек вернулся в кавярню и нашел там приятеля, который с кофе переключился на коньяк. Владек подмигнул и приподнял бокал:
– Силен! Не ожидал! Молодец! Считай, что ты принят в наше министерство!
Ближе к вечеру Стасек еще раз наведался к приятелю-художнику, попросил у него гуашь и лист бумаги и по свежей памяти набросал неплохой портрет Николины. Особенно хорошо получилась соломенная шляпка. Он вставил портрет в рамку, вывесил в галерее и попросил хозяина вручить эту работу его подруге от своего имени.
Все вышло наилучшим образом. Ника была изумлена портретным сходством, особенно шляпкой. Благодарила художника за великолепный подарок и все допытывалась, где и когда он смог сделать этот моментальный портрет. Хозяина ответил так, как его научил Стасек:
– Однажды я вам все расскажу. А пока пусть это останется маленькой тайной.
Потом они все втроем пили в любимой кавярне капучино с эклерами. Говорили обо всем на свете. И главное, Ника обещала найти время для серьезного портрета маслом.
Сотрудникам советского посольства категорически воспрещалось наносить частные визиты в частные дома. Но, оправдывала себя Ника, художественная галерея не может считаться частным домом, как и мастерская живописца. Галерея, студия, кафе – все это никак не подпадало под категорию «частного дома». Конечно, по прихоти иного блюстителя зарубежного этикета сотрудницу Мезенцову можно было обвинить в нарушении запрета. Но, во-первых, она была всего-навсего обычной машинисткой, во-вторых, посещала галерею, хоть и частную, но почти все художественные галереи в Варшаве были частными. В-третьих, и это главное, все в посольстве были заняты более важными и более тревожными делами. Назревал военный конфликт Польши с Германией, в воздухе явно витали токи военной грозы, и все посольство работало в усиленном режиме. Даже тайным сотрудникам НКВД не было особого дела до визитов машинистки Мезенцевой в художественные галереи.
А тем временем их знакомство с искусствоведом Станиславом Пиотровским продолжалось и развивалось. Они перешли на «ты», встречались как добрые приятели. Станислав познакомил ее с Владеком (по настоятельной просьбе последнего), и теперь они втроем совершали прогулки по Свентокшицкому парку и даже посидели как-то в приличном ресторане. Это было в конце мая, в праздник Матери. Выяснилось, что у Николь есть замечательная трехлетняя дочурка, которая живет у бабушки в Ленинграде. Поздравляли маму, восхищались фотографиями Аксиньи, фотографиями Питера…
Стас преподнес букет роз. Все это было принято с благодарностью, с поцелуями в щечку, с искренней влагой в глазах…
Но поцелуи в щечку – еще не супружеская измена. Кто знает, может, именно они гальванизируют затухающие отношения с мужем?
Глава четвертая. В тени Иерусалимских аллей
А на следующий день Владек привел Стасека к своему шефу. Его резиденция находилась в скромном особнячке в одном из дворов на Хмельной улице. Никакой вывески перед входом не было, но Станислав вполне догадался о том, куда он пришел. Да, это была одна из конспиративных квартир «двуйки», и шеф Владека, как оказалось несколько позже, был полковником военной разведки Генерального штаба Войска польского. Пан Менжински. Или просто пан Вацлав. Лоб у него был широкий и в складках, как у породистого дога. Большие глаза смотрели из-под кустистых бровей с добрым любопытством. Он крепко пожал руку:
– Премного наслышан о вас, молодой человек, от Владека! Давно хотел с вами познакомиться.
Туго и гладко зачесанная секретарша принесла три чашечки очень крепкого кофе.
После всех официальных и неофициальных, вполне доверительных слов Стасек понял, что он блестяще выполнил свое задание: вывел на Николь вербовщика «двуйки». Как и что там получилось с вербовкой, он не знал. Сейчас на кону была его дальнейшая судьба. Как и обещал Владек, перед ним открылась крутая лестница в новую жизнь. Пан Менжински без обиняков предложил перейти на службу в его ведомство. Никаким МИДом здесь не пахло, но… Но с министерством иностранных дел у пана полковника были самые тесные связи. Он предложил Пиотровскому отправиться в генеральное польское консульство в Минске и занять там должность помощника атташе по культуре. Это вполне соответствовало профилю Пиотровского, и он, почти не раздумывая, согласился. Еще бы – о такой серьезной ступени в своей скромной карьере он даже не помышлял. И сумма оклада заставила сердце радостно вздрогнуть. О таком заработке он тоже не мечтал. К тому же пан Вацлав добавил ко всему сказанному, что Пиотровскому будет присвоен первичный офицерский чин «хорунжий» и после подписи необходимых документов он получит четкий инструктаж о своей работе в Минске.
Так, через неделю хождений на Хмельную улицу к пану Вацлаву скромный искусствовед стал кадровым сотрудником «двуйки», который под прикрытием статуса дипработника – помощника атташе по культуре, будет разъезжать по всей территории БССР в поисках братских захоронений польских солдат времен советско-польской войны 1920 года. Все его поездки являются абсолютно легальными, разрешенными белорусскими властями. Но главной его задачей будет сбор сведений о передвижениях советских войск и военных объектов в зоне поиска солдатских могил. Этим занимался его предшественник, но по серьезной болезни его пришлось отозвать на родину.
Обязанности агента-маршрутника показались Станиславу несложными. И через день, получив приличную сумму подъемных, он выехал поездом Варшава – Москва в Минск. Дорога была недолгой. В Минске его встретили и разместили в консульском доме, в однокомнатной квартире на Советской (бывшей Захарьевской) улице.
Он уже многое знал о генеральном консульстве со слов пана Вацлава. Оно было открыто в 1924 году в самом центре белорусской столицы. А через три года под крышей дипломатической миссии была создана ячейка «двуйки» (польской разведслужбы) – «пляцувка» (площадка) U-6. Ею руководил ротмистр Гжегож Долива-Добровольский (псевдоним «Юзеф»). Поначалу Юзеф занимался изучением материалов, публикуемых в белорусской прессе. Но с 1928 года и по текущий 1939-й U-6 занималась более важными делами – вела наблюдение за военными объектами РККА, изучала места ее дислокации, составляла подробные схемы дорожных коммуникаций БССР. На первых порах сотрудники «пляцувки» ездили железнодорожным транспортом, а затем генконсульство выделило им легковой автомобиль. Шпионов опекали работавшие тогда в Минске польские консулы Хенрик Янковский и Станислав Забелло. Важнейшим заданием для этой «пляцувки» было получение максимального количества информации о Всесоюзных больших маневрах Красной Армии, проходивших в 1929 году под Бобруйском. То был пик успеха U-6. И ротмистр Долива-Добровольский получил чин подполковника.
Станислав активно включился в новую для него работу и быстро в ней преуспел. В Варшаву уходили блистательные характеристики на нового сотрудника.
Однако его бурная деятельность во благо Генерального штаба Войска польского не осталась не замеченной советской контрразведкой. Генконсульство тогда «опекал» майор госбезопасности Фанифатов. Вел он свою «опеку» довольно успешно и многое держал на карандаше. Знал он, что последней дипломатической «пляцувкой» польской разведки в Минске была «L-19», а ее руководителем был Владислав Вольский (псевдоним «Матей Монкевич»). «L-19» вскрывала дислокацию советских войск. Но больше всего ее интересовала фортификация Минского укрепрайона (линия Сталина). За год до начала Второй мировой войны в здании консульства была смонтирована специальная подслушивающая станция «Х». Такую же станцию «Р» установили в Варшаве – в здании, где располагался второй отдел Генерального штаба Войска польского. Патронировал эту весьма оснащенную «пляцувку» польский консул Витольд Оконьский. Перед самым началом «сентябрьской войны» сотрудникам «L-19» удалось вывезти в Польшу ценного информатора – гражданку СССР Евгению Веретинскую, жившую под Дзержинском.
За этот успех польской разведки майор Фанифатов получил предупреждение о неполном служебном соответствии и, конечно, очень переживал и, конечно же, рыл копытом землю, чтобы доказать свою профпригодность. Но особого случая не представлялось, хотя он лично выезжал на маршруты атташе по культуре Пиотровского, следил за его поездками из окна своего автомобиля, замаскированного под карету скорой помощи. Но, увы, поймать молодого атташе за руку ему так и не удалось.
Пройдет время, падет под ударами вермахта Польша, и наработками польской «двуйки» станут активно пользоваться немецкие генералы, планируя нападение на Советский Союз. Об этом писал потом в своем «Военном дневнике» шеф германского генерального штаба Франц Гальдер. Агентам польской разведки удалось собрать подробную информацию о гарнизонах Красной Армии в Минске, Могилеве, Бобруйске, Слуцке, Витебске, Смоленске, Полоцке, Лепеле. Весьма точная давалась оценка новым образцам советской военной техники. Однако наибольший интерес представляли данные о строительстве дорог и мостов в БССР, чем в первую очередь занимался хорунжий Станислав Пиотровский. Тем не менее при всей проницательности минских агентов «двуйки» они прохлопали приготовления советской стороны к походу в Польшу нескольких советских армий. Полагали (и в Варшаву так сообщали), что большевики держат войска на «рижской» границе постольку, поскольку в Польше немцы ведут боевые действия. Это была роковая ошибка. И ранним утром 17 сентября 1939 года в польское генконсульство нагрянула толпа «возмущенных граждан» во главе с переодетым в комбинезон металлиста майором Фанифатовым. Минчане желали поквитаться с ненавистной всем панской Польшей и, оттеснив сотрудников дипведомства, вытряхивали из столов и шкафов стопы бумаг.
Лишь один из них – атташе по культуре Пиотровский – заперся за железной дверью «комнаты для сжигания секретных документов» и жег в камине кипы секретных донесений, сводок, отчетов… Фанифатов попытался взломать дверь, но под рукой не оказалось ни ломика, ни топора. Он прекрасно понимал, что происходит за секретной дверью, кричал, угрожал, но Пиотровский делал свое дело – ворошил кочергой в груде бумаг – гори, гори ясно!
Все они и сгорели. Когда разъяренный Фанифатов взломал наконец дверь, в камине догорал последний ворох бумаг.
Будь его воля, он бы набросился на атташе и придушил его или надавал по физии. Но в Варшаве еще оставались наши дипломаты, и пришлось соблюдать статус неприкосновенности.
– Почему пан не открывал дверь?! – подступал он с бессильным гневом.
– Согласно инструкции я могу открыть дверь по специальному стуку – три коротких и три длинных. А в дверь стучали беспорядочно, – с вежливой издевкой отвечал Пиотровский. Крыть было нечем…
За упущение секретных документов польского генконсульства майор Фанифатов был снят с должности и отправлен с понижением в никому не известную 49-ю стрелковую дивизию на должность начальника Т-ретьего отдела.
Глава пятая. Севастопольская страда
В последний год Васильцова донимала бессонница. Голова была обвязана тугой чалмой ночных дум. Иногда он подшучивал над собой: «спал плохо, но мало». Спасало любимое суконное одеяло, которое всегда переезжало с ним в портпледе – что на походные биваки, что на казенные квартиры. У одеяла было одно важное свойство (во всяком случае, Константин Федорович в это свято верил): стоило в него завернуться с головой, и все служебные, житейские, любовные и прочие проблемы отлетали в стороны, как пули от брони. Правда, проблемы эти, приняв обличье тех или иных людей, так и стояли в изголовье постели и только того и ждали, чтобы Васильцов высунулся из-под своей «брони». Они тут же набрасывались на него, забивая клетки мозга своими неотложными делами: «подписать, согласовать, прибыть, составить, разобраться, наказать, поощрить, срочно доставить, отчитаться…» Не было от них спасения, кроме потертого походного одеяла. Но больше всего досаждала одна настырная мысль – она проникала даже в «укрытие» и сверлила, как зубная боль: «Не успеем…» Не успеем завершить укрепрайон, оборудовать доты, поставить в них орудия… Не успеет и он, полковник Васильцов, привести свою 49-ю стрелковую в боевую готовность. Да и как ее сейчас приведешь, когда дивизию раздергали, оставили без артиллерии, без саперов, без ПВО, когда ее так разбавили молодыми, необученными, а главное, непонимающими русского языка бойцами-азиатами? И никто тебе не придет на помощь, если немцы навалятся; фланги голые, соседи далеко. Далече и всезнающие начальники – что командир корпуса, что командующий армией, и уж тем паче командующий фронтом… Вот от этой мысли могла избавить только хорошая доза местного бимбера[7] или фабричной зубровки. А поутру – капустно-огуречное похмелье.
А тут еще сплетня, которую пересказал ему Потапов – будто бы он, полковник Васильцов, завел себе любовницу в лице жены своего подчиненного майора Робака. Да, он брал у Ирины Власьевны, у преподавательницы немецкого языка, платные уроки. Но не более того.
И хотя комиссар не поверил в навет, все же сердце заныло тупой животной болью, как палец, придавленный грязным каблуком. Ни одной нотки, облагораживающей страдание души, не было в этой боли.
В темной тишине громыхали настенные часы… Под утро все же уснул. Однако сон обломился, как кончик карандаша, не дорисовав картинку на самом интересном месте. Выпроставшись из последней пелены последнего сюжета, Васильцов покинул холостяцкое ложе.
Он встал так рано, что пес, вышедший из коридора встречать хозяина, долго и сладко – с привизгом – зевал во всю пасть, свертывая язык в розовую трубочку. Васильцов потрепал Гая по холке… Жуткая помесь боксера и водолаза. Точнее – водолазки. Еще точнее – ньюфаундленд-суки. Где они нашли друг друга, этот боксер и эта водолазка?
Гай был старожилом дворца – остался от прежних хозяев, но и новых владельцев усадьбы он принял с радушием доброго старого дворецкого. Одного корня – и дворянин, и дворецкий, и дворняга. В общем, собака осталась «служить» при штабе.
Кроме своего призрачного дореволюционного офицерства был у Васильцова и еще один повод тревожиться за свою судьбу. Там, в Москве, да и никто в мире, ни одна живая душа, не знала того, каким путем он попал в Красную Армию. Знал только старший брат – лейтенант Алексей Васильцов, но он был расстрелян в декабре 1920 года в Севастополе. Константин приехал к нему, к единственной родной душе, сразу же после октябрьского переворота. Алексей снимал две комнаты в частном доме на Лабораторном шоссе. Братья не прожили и двух недель, как началась дикая большевистская охота на офицеров, оставшихся в городе, на офицеров, выбравших не чужбину, а родину, офицеров, не ушедших с Врангелем за кордон. Севастополь – город офицерский, главная база Черноморского флота, поэтому арестантов набралось столько, что у большевистских главарей Мате Залка и Розалии Залкинд (Землячки) возникла проблема с расстрельными местами. Вывозили за город, на обширную Максимову дачу, стреляли в Карантинной балке, в руинах древнего Херсонеса и даже на Малаховом кургане… Даже англичанам и французам, захватившим город в 1854 году, не пришло в голову такое кощунство – проводить казни на кургане русской воинской славы. А большевикам – пришло. Немцы с турками на такое бы не решились, а большевики решились.
Васильцов всегда разделял большевиков и коммунистов.
Большевик – это пена у рта, это фанатическое сверканье зрачков и черный зрак направленного в тебя маузера. Большевизм – это громкие, но несбыточные обещания, это идея всемирного господства ли, потопа ли, революции ли… Насмотрелся Васильцов на таких в Севастополе.
Другое дело – коммунисты, полагал он. Коммунисты – это самые толковые, самые правильные, самые деловые парни из толпы. У них слово с делом не расходится. Молча, порой стиснув зубы, невзирая на угрозы, насмешки, ехидные крики, они делают то дело, которое и нужно делать именно в этот час, в этот день, в это время.
Большевизм – это бешеная карьера – с земли в поднебесные высоты, это презрение к массам и всевластное управление ими. Это готовность положить сотни, тысячи людей за то, чтобы они, большевики, оставались у власти и чтобы народные массы покорно следовали командам большевиков.
Большевики. Да, их, к сожалению, больше, чем нормальных политиков, и они предельно жестоки, когда речь идет об их пребывании у власти. Но они очень трусливы, когда их разоблачают, когда их изобличают, проливают на них свет.
Это они придумали жестокие максимы – кто не с нами, тот против нас. Кто против нас, того в расход, а если враг не сдается, его уничтожают.
Или такие благоглупости: «У нас каждая кухарка сможет управлять государством», «Из всех искусств для нас важнейшее – кино».
Для кого – для «нас»? Для большевиков? Да. Потому что кино – великолепный инструмент по организации масс.
Но была в том и своя нечаянная правда. Кухарка действительно может управлять государством, если это честная и благоразумная женщина. Любой честный и благоразумный человек может управлять государством, если он не пускается в неудержимое казнокрадство и если он не прельщается опьяняющими бреднями типа: «мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!» Ни один из тех, кто был никчемным человеком, не стал «всем». Хотя… В этой новой, послереволюционной, жизни порой совершенно никчемные люди становились, если не «всем», то очень многим, занимали те самые посты, с которых, подобно ленинским кухаркам, управляли, как им казалось, государством. Государством, стоявшим на плечах и спинах рабочих и крестьян.
Во всероссийскую партию коммунистов Васильцов вступил для того, чтобы бороться с большевиками. Но это случилось в 1930 году, когда новый вождь Страны Советов, товарищ Сталин начал борьбу с «верными ленинцами», бывшими политкаторжанами и прочими большевиками. Командир стрелкового батальона Васильцов был хорошим коммунистом, взысканий по партийной линии не имел, не раз отмечался на армейских и окружных партконференциях… Но тогда, когда в декабре 1920 года к ним во двор ворвались красноармейцы в поисках «контры», они с братом вышли к ним, вооруженным винтовками с примкнутыми штыками, с голыми руками. У Алексея был наган, но он зарыл его под поленницей в сарае.
В соседнем дворе, за каменной стенкой, душераздирающе вопила соседка: ее мужа, вышедшего к «охотникам за контрой» в парадном мундире с золотыми погонами и Георгием на груди, застрелили тут же – у входа в дом. Васильцов несколько раз видел его мельком. Это был коренной севастополец, командир береговой батареи, прикрывавшей Севастополь со стороны мыса Хрустальный – весьма представительный капитан по Адмиралтейству с архиерейской черной бородой. Он частенько перебрасывался с соседом шутками и все грозился пригласить на «братский ужин». Не успел…
Братья тоже могли запросто схлопотать пулю, хотя и вышли без погон и без оружия. И наверное, схлопотали бы, если бы оба красноармейца – один постарше и потверже, другой помоложе и похлипче – не были так пьяны. Штыки и стволы в их руках описывали неуверенные круги.
– Шо, господа хорошие, спугались?! – спросил тот, что постарше, в извозчичьем картузе с матерчатой красной звездой на околыше. – Ор-ружье, золото и все буржуйское – на стол!
Из всего буржуйского Алексей выставил на стол бутылку коньяка, подаренную ему на день рождения. Это был спасительный ход. Старшой тут же схватил бутылку и стал изучать ее пробку.
– Отрава поди?
– Натуральный коньяк.
– А ну, сам хлебни!
Алексей открыл пробку и плеснул в кружку, стоявшую на столике в беседке. Тем временем молодой боец блеванул мощным фонтаном все выпитое и съеденное за время облавы. Он завалился на садовую скамью, не выпуская, впрочем, винтовки из рук. Старшой же с наколотым якорьком на руке глотнул коньяку из кружки и внимательно вгляделся в Алексея.
– А я тебя, ваше благородие, признал. Никак с миноносца «Гаджибей»?
– Никак нет. С миноносца «Пронзительный».
– Один хер – все равно офицер.
– Лейтенант Васильцов.
Но красноармейцу уже было все равно, кто стоял перед ним. Он последовал примеру своего подчиненного – завалился на спинку скамейки и тяжело захрапел. Тут бы в самый раз деру дать, но улица была оцеплена. Алексей поднял упавший на землю кожаный картуз со звездой и протянул его брату:
– Надевай!
– Зачем? – удивился Константин.
– Меня поведешь как бы под конвоем. Понял?
Константин понял и осторожно вытащил из рук спящего винтовку. Алексей порылся в нагрудном кармане «охотника за контрой» и передал брату.
– Возьми на всякий случай. Пригодится… Ну, давай – вперед и с Богом!
Он заложил руки за спину, как положено арестованному, и двинулся к калитке. Константин пошел за ним, держа винтовку наизготовку. Так и вышли на Лабораторку, так и пошли по ней вниз – к вокзалу. И все встречные понимали – серьезную птицу ведут под личным конвоем. И никому в голову не приходило удивиться поразительной схожести лиц – «контрика» и конвоира в кожаном картузе с кумачовой звездой на околыше. Так бы все и прошло и братья бы сели в одну из теплушек, стоявших близ вокзала да и укатили бы в первый попавшийся крымский городок, где их никто не знал и знать не хотел. И спаслись бы, если бы дорогу им не пересекла длинная колонна моложавых людей в разнородной гражданской одежде. Это куда-то гнали собранных на Корабельной стороне офицеров. Константин тогда не знал, что всех их гонят на убой. В голове не укладывалось, как стольких людей можно расстрелять без суда и следствия, только потому, что они когда-то служили в армии и на флоте. Даже немцы не расстреливали пленных, отправляли в лагеря – солдат в солдатские, офицеров в офицерские. А здесь – свои, на одном языке говорили, на одной земле жили, на одной – германской – войне воевали… У него и сейчас, в полковничьих летах, это не укладывалось. А тогда… Тогда он без особых треволнений последовал приказу какого-то важного красного начальника, стоявшего в открытом, несмотря на холодный ветер с моря, авто. Рядом с ним куталась в меховую куртку дама в очках. Это уже потом, много лет спустя, понял, что видел самых главных в Крыму расстрельщиков – Бела Куна и Землячку. А тогда он даже подумал, что присутствие женщин смягчает больших начальников, поэтому все будет хорошо.
– В колонну гони, в колонну! – кричал начальник из автомобиля. – Поторопись!
И Алексей встал в общую колонну, а Константин пошел сбоку, как конвоир. Шли долго, через весь Севастополь. Наконец вышли на край города – к Карантинной балке. Место дикое, глухоманное, все в огромных каменьях и ямах. Здесь колонну встретили другие красноармейцы, а конвоиров погнали обратно – к вокзалу, где находился сборный пункт. Уже тогда Константин почуял неладное. Но кто-то сказал, что там, в Карантинке, соберут общий лагерь. Кто ж знал, что всех собранных и согнанных вчерашних защитников отечества, а ныне «врагов народа» положат из пулеметов? Константин потом долгие годы, да и по сию пору, не мог себе простить, что конвоировал брата к месту расстрела. Да, конечно, это была уловка. Да, конечно, не знал, что там устроили побоище (одно из многих побоищ, как выяснилось ныне). И все же было в том нечто каинское… Константин многие годы не верил, что такое произошло. Он и в Красной Армии остался, чтобы проще искать Алексея было – через военные структуры. Но никакие структуры не могли дать точный ответ о его судьбе. Лишь один мрачный тип с четырьма шпалами в петлицах – очень большой энкавэдэшный чин, сказал ему попросту:
– Да не ищи ты своего брательника ни в каких списках. Нет его там, как нет и многих других. Тогда стреляли не по спискам, а по наличествующим головам.
И Васильцов сдался – перестал искать. Занес брата в мертвый стан.
Тогда в Севастополе вышло так: Васильцова с краснозвездным картузом на голове общим чохом включили в какой-то сводный отряд для охраны состава с продовольствием, который гнали в Москву и в Петроград. Он и уехал, от греха подальше. В пути, где-то под Воронежем, начальник спецэшелона назначил толкового и, по всему видно, грамотного парня (Константину тогда было двадцать два года) командиром охранного взвода. Драгоценный груз – кукурузное зерно, муку, вяленую рыбу и что-то еще съедобное в коробках, банках и ящиках – доставили в целости и сохранности. Все получили благодарности, а взводного Васильцова отправили на курсы Красных командиров, которые размещались в корпусах бывшего Павловского юнкерского училища. Красным командиром, полагал Константин, легче будет искать брата, легче оказать ему помощь – вызволить из лагеря. Он и искал, пока не напоролся на угрюмого НКВДешного чина, явного большевика… Все надежды рухнули.
Васильцов несколько раз приезжал в Севастополь, бродил меж каменьев Карантинной балки, опрашивал местных жителей, задавал вопросы властям… Но никто ничего не смог сказать о судьбе Алексея Федоровича Васильцова.
И тут он вспомнил, что в Балаклаве жила невеста Алексея – Лена-Елена. Он собирался жениться на ней сразу, как только поутихнут страсти вокруг Севастополя. Но не успел. Константин видел ее всего лишь однажды, когда случайно встретились на Приморском бульваре. Алексей весьма церемонно представил его своей Ундине, так он ее отрекомендовал. Она, Лена-Елена, и в самом деле была хороша, хотя Севастополь женскими статями не удивишь. Город издавна славился как великолепная оранжерея невест. Константин и сам намеревался подыскать там подругу по жизни. Но тоже не успел… Итак, Елена из Балаклавы… Вот и все, что он знал о ней. Маловато для поиска. Но он все же поехал в Балаклаву на таксомоторе, расспрашивая водителя наобум лазаря, нет ли у него знакомой блондинки по имени Елена.
– А чем она занимается?
– Да так… Просто очень красивая была девушка. Сейчас уже, конечно, женщина. Ей, наверное, лет под сорок.
– Тогда вам в ЗАГС надо. Там уж точно всех невест знают.
Сказал в шутку. Но в ЗАГСе к вопросу красного командира, каким и предстал там Васильцов, отнеслись серьезно. Перешерстили картотеку регистраций. Нашли трех подходящих по возрасту Елен. Одну он узнал! И о чудо – через четверть часа звонил в дверь домика, стоявшего на горной круче высоко над морем. Дверь открыла хозяйка – Елена, в домашнем фартуке и с высоко подвязанными волосами. Конечно, юная краса поблекла, но все же она по-прежнему была мила и привлекательна. Она, конечно же, помнила Алексея. Более того, она порылась в ящичке под столиком трюмо и достала из кожаного очешника свернутую в трубочку записку.
– Моя подруга Катя тоже хорошо знала Алексея, мы часто ходили вместе в Офицерское собрание. Она хорошо пела. Она жила на краю города, у самой Карантинки. Она стояла и смотрела на колонну, которую остановили на спуске в Карантинную балку. Почти все арестованные были молоды, за исключением нескольких седобородых отставников. Были там и сестры милосердия в серых платьях, белых фартуках с красными крестами. Их тоже обрекли на смерть. Они держались кучно и пели псалмы. Колонна сбилась в толпу, которую охраняли всадники. Катя узнала Алексея. Она на всю жизнь запомнила его лицо: вьющиеся есенинские кудри, бледный цвет лица и большие, наполненные болью и слезами глаза… Он понимал, что их ждет… Он уже заготовил записку и спрятал ее в золотом медальоне. И когда Катя его окликнула, он сразу же бросил ей медальон. Она поймала его в воздухе и тут же спрятала за корсаж. Охранники, по счастью, ничего не заметили. Катя принесла мне вот эту записку, написанную его рукой.
Константин не сразу смог ее прочесть – глаза заволокло влажной дымкой. Потом он справился с чувствами и прочел вслух:
«Умоляю, передайте родным и маме, что меня расстреляли в Севастополе. Целую, люблю их всех… Алексей Васильцов. Адрес…»
– Да вы садитесь, садитесь, я сейчас кофе сварю… А хотите, скумбрию пожарю – свеженькая!
– Спасибо. Как-нибудь в другой раз…
– Говорят, что такие прощальные записки бросали в толпу многие, когда их вели по городу. Они уже знали, что их не пощадят, и потому писали: «нас сегодня расстреляют…», «ведут на расстрел…», «сегодня я живу последний день…» и так далее.
За что, за что их лишили жизни?! Они же не преступники! – выкрикнула вдруг Елена и спрятала лицо в ладонях…
И тогда Константин, уже будучи подполковником, выхлопотал на кладбище коммунаров местечко и соорудил там надгробье-кенотаф: здесь покоится прах Алексея Федоровича Васильцова 1895–1920 гг.». Вот и все, что он мог сделать для старшего брата, которого невольно пришлось отконвоировать к месту гибели. «Комплекс Каина» усугублялся еще и мыслью, которая преследовала многих офицеров, оставшихся служить в Красной Армии: «а не трусливое ли это приспособленчество? Не спасение ли это собственной шкуры?» И всякий раз, когда эта мысль возникала, Васильцов прогонял ее рассуждением: «Я служу не убийцам своего брата. Я служу России, своему народу, на котором нет крови Алексея. Его убили большевики. С них и будет однажды спрос. А я непримкнувший попутчик. Я иду в ногу со всем народом».
Мысль эта не раз сокрушала его душевный покой, когда она женился. Тесть, отец Татьяны, оказался крупным чином в НКВД. Татьяна поначалу это скрывала, говорила, что служба отца настолько секретна, что она и сама о ней ничего не знает. Но прошел год-другой – и по-семейному, все так же негласно, выяснилось, что Маркел Родионович служит замначальника управления НКВД по Ленинградской области и имеет чин, если привести его звание в соответствие с армейской Табелью о рангах – генерал-майора. И опять заныла эта почти утихшая мысль: а что бы сказал Леша, если бы узнал, как распорядился дарованной им жизнью Константин? Не осудил бы он его: «Эх, брат, с кем ты связался, кому ты служишь, ты же вроде офицерские погоны на плечах носил, а не большевистские петлицы на воротнике?!» И Константин приводил в свое оправдание множество слов и суждений.
Однажды он посвятил своего тестя в поиски брата. Тесть всегда одобрял выбор дочери, правда, поглядывал на зятя свысока. А тут и вовсе нахмурился:
– Нигде никогда никому не говори, что брат у тебя расстрелян! – строго-настрого предупредил он. – Говори, что погиб на Первой мировой. Иначе вред принесешь и себе, и своей семье, и моей семье. Я прекрасно понимаю, что ты ни в чем не виноват и он наверняка не виноват. Но сейчас время такое, что лучше помолчать. А об Алексее твоем я постараюсь навести справки. Не серчай и зла ни на кого не держи. Тогда время было такое.
Поймав себя на повторении, он сбился и закончил без пафоса:
– Много всяких сволочей притянула к себе наша революция. Особенно в первые годы. И настоящие бандиты, и садисты. Потом, конечно, очистились. Да и сейчас еще очищаемся… Так что не надо на советскую власть обижаться.
– Да я на советскую власть и не обижаюсь. Она тут вовсе ни при чем.
Васильцов хотел продолжить свою мысль насчет советской власти и большевиков, но вовремя осекся. Не стоило посвящать тестя в глубину своих размышлений. А суть его вывода состояла в том, что вовсе не большевики придумали советскую власть. Они взяли себе эту идею и приспособили к своему правлению. Очень легко было действовать, прикрываясь, как ширмой, «властью Советов» – коллективным правлением. А уж аппарат такого народовластия большевики подбирали по своему усмотрению. Благо голосование было тайным и закрытым.
Не стал он пускаться в дебаты с генералом госбезопасности.
Тесть Маркел Родионович оказался порядочным человеком. Мало того, что он сохранил в полной тайне разговор с зятем о брате. Он всерьез озаботился проблемой крымских репрессий 1920 года.
– Скажу тебе честно: я был против этих расстрелов, за что потом мне влепили выговор за «политическую незрелость». Я и сейчас не шибко-то созрел, чтобы одобрять и Бела Куна, и его кунку – Землячку. Там еще и третий гад был – Юрка Пятаков. Но его потом тоже стукнули, как и Куна. Розу Залкинд, Землячку, суку жженную, к партийной ответственности бы привлечь. Но все боятся с ней связываться.
Однажды Васильцов обнаружил на журнальном столике в гостиной довольно объемистую папку с документами по «очищению Крыма и Севастополя от вредных социальных элементов». То ли забыл ее тесть, то ли нарочно оставил, чтобы Константин негласно почитал материалы. Так или иначе, но Васильцов как сел, так и не встал до вечера. А когда перевернул последнюю страницу, то застыл, потрясенный до глубины души.
Он прочитал:
«В коллективном труде французских историков “Чёрная книга коммунизма” расстрелы в Крыму названы “самыми массовыми убийствами за всё время Гражданской войны”. По официальным советским данным, только в крупнейших городах полуострова было расстреляно более 56 000 человек.
Массовые расстрелы в Севастополе происходили во многих местах: на территории Херсонесского заповедника, на городском, Английском и Французском кладбищах, в Карантинной балке и на Малаховом кургане. Однако главным эшафотом для экзекуции стала Максимова дача. Усадьба севастопольского градоначальника, удаленная на несколько верст от города, почти скрытая от глаз густым парком, стала единой братской могилой для сотен людей.
В могильные ямы Максимовой дачи легли не только сотни офицеров и солдат русской армии, но и представители гражданского населения – сестры милосердия, учителя, инженеры, актеры, чиновники. По некоторым данным, жертвами расстрелов стали и около 500 портовых рабочих, обеспечивавших погрузку на корабли врангелевских войск…» На полях от руки было дописано карандашом и почти стерто ластиком. Почти. Васильцов примерил бумагу против света и прочитал: «Их было трое палачей русской армии – Кун, Розалия Залкинд и Георгий Пятаков…» Еще было что-то дописано, но стерто полностью. Оставалось гадать – кто писал и кто стирал?
Глава шестая. Злая осень 39-го
Варшава заявила протест по поводу эксцесса в минском генконсульстве: все понимали, что «возмущенный народ», к тому же воодушевленный началом освободительного похода в Западную Белоруссию, ворвался в диппредставительство совсем неслучайно. Но протест остался без ответа. Обе стороны прекрасно понимали подоплеку «народного возмущения». Да и МИД Республики Польша был занят более серьезной проблемой, чем соблюдение дипломатического суверенитета. Немецкая авиация бомбила Варшаву каждый день…
Советским дипломатам, работавшим в Варшаве, повезло намного больше. Немцы довольно любезно приняли на границе вагон со всем советским посольством. Дипломатов и рядовых сотрудников, в том числе и машинистку Нику Мезенцеву, привезли в Кенигсберг, а затем отправили спецпоездом в Москву. В это же время польским дипломатам во главе с консулом Витольдом Оконьским разрешили покинуть Минск в полном составе.
Там, в Кенигсберге, Ника приняла окончательное решение разойтись с мужем, брак расторгли в Москве. Теперь это никак не могло повредить супругу. В Ленинград она вернулась, вдоволь истосковавшись по дочке и маме. И никто ей больше не был нужен. Никто!
Все два года, проведенные в посольстве, показались ей своего рода заточением. И теперь она обретала свободу общения, передвижения, выражения чувств и мыслей. Через неделю, придя в себя, она вернулась на работу в свой геодезический трест.
Решил свою судьбу и атташе по культуре Станислав Пиотровский. В Варшаву, занятую немцами, он не поехал, а вернулся к родителям в свой родной Волчин, который все больше и больше становился к тому времени советским городом. Но Пиотровский питал надежды, что линия границы будет откорректирована так, что Волчин выйдет из-под контроля Минска. С тем он ложился, с тем и просыпался. И Бога в костеле просил о том же. По счастью, никто в родном местечке не знал о его дипломатической деятельности в Минске. И Станислав, объявив себя художником, уходил с этюдником на берег Пульвы. Он пытался навести справки о друге детства – Владеке Волчинском, но никто ничего не знал о его судьбе. Владек же, конечно, остался в Варшаве, если не погиб при обороне столицы. И о судьбе Ники, по-настоящему вскружившей ему голову, не выходившей из сердца почти все лето, он тоже ничего не знал. Начиналась совершенно новая жизнь – без старых друзей, без прежних забот и работ.
– Надо тебе жениться! – в один голос заявляли ему родители. И Сташек с ними не спорил. Надо, так надо. Он и сам чувствовал – надо. Но на ком?
Ксендз, который давно заприметил славного малого, подыскал ему суженую – дочь начальника почтового отделения – синеокую панну Марию. Она прекрасно играла на фортепиано и даже подменяла иногда храмового органиста пана Поэля. И все их знакомство развивалось в лучших патриархальных традициях, и, скорее всего завершилось бы «шлюбом», свадьбой. Но тут случились два форс-мажорных события. Семью почтмейстера вместе с обеими дочерьми, Марией и Зосей, вывезли из Волчина далеко на Восток, куда-то в Северный Казахстан. А спустя неделю местный военкомат призвал гражданина Пиотровского на военную службу в РККА. Сначала Станислав хотел уйти в леса, скрыться в Беловежской Пуще у польских партизан. Но, поразмыслив, а он был неплохим аналитиком, решил, что ему, хорунжему-разведчику, сотруднику пресловутой «двуйки», лучше всего укрыться в недрах Красной Армии. Там никто не найдет. Да и легализоваться потом с подлинными документами будет легче. Не зря говорят китайцы: лучшее убежище в пасти тигра. Отслужит три года и в двадцать семь вернется. А в двадцать семь еще не поздно все начать сначала.
Отец одобрил его решение – лучше пережить смутное время в войсках победившей державы, чем обретаться невесть кем на оккупированной территории. Потом добавил: Польша однажды возродится и ей понадобятся опытные воины.
– Просись на какую-нибудь технику. Домой вернешься с нормальной профессией. Это тебе не какой-то искусствовед! Трактор освой, машину. Всюду человеком будешь.
Но призывника Станислава Пиотровского никто не спрашивал о его намерениях. Сначала отправили в учебный отряд на полигон Обузь Лесна, под Барановичи, в бывшие Скобелевские лагеря. Обучали на пулеметчика, и вскоре, присвоив звание младшего сержанта, отправили в 49-ю стрелковую дивизию, по счастью или нет, стоявшую в его родных краях – в Волчине, в Высоко-Литовске… Сташек сделал все, чтобы забыть довоенную жизнь, службу в «двуйке». Он все начинал заново. Учил русский язык, учил новые песни, набирался армейского ума-разума и ждал заветной осени 1942 года, когда кончался его трехлетний срок.
Переносить «тяготы и лишения военной службы» помогали, как ни странно, его навыки художника. И в учебном отряде, и в стрелковой роте – всем политрукам была нужна «наглядная агитация» и стенные газеты. И все они сразу же оценили младшего сержанта, уверенно владевшего и карандашом, и кистью. Он даже портреты командиров набрасывал – быстро, эскизно, но узнаваемо. Его ценили и уважительно называли между собой – Петро. Пиотровский и сам довольно быстро втянулся в новую для него жизнь и даже с некой гордостью носил в петлицах рубиновый треугольничек – знак младшего сержанта. Все прежнее, хоть и недавнее, было надежно спрятано в «скрытку», в личный сейф, и он почти никогда не вспоминал о пане Вацлаве, о своем чине хорунжего в «двуйке», о работе в минском генеральном консульстве… Все это было в другой, прекрасной некогда, жизни, ставшей в одночасье опасной. Вспоминал лишь о Владеке да о красивой женщине Нике. Оба они теперь раз и навсегда исчезли из его бытия. Исчезли, но не все… Вдруг возник грозный призрак из того запретного мира. Младший сержант Пиотровский разводил караул у входа в штаб дивизии, как вдруг мимо него прошел тот самый «возмущенный гражданин», который ломился к нему в комнату для сжигания секретных бумаг и который чуть не убил его со злости, увидев, как догорает в камине последняя стопка бумаг. Пиотровский не знал его имени, но это был именно он – майор Фанифатов, сосланный за провал захвата документов «двуйки» в «белорусскую Сибирь», в Беловежскую Пущу. И контр-разведчик его узнал, но не сразу поверил своим глазам. Мог ли польский шпион обернуться советским младшим сержантом? Бывают, конечно, оборотни, но чтобы так?.. Фанифатов проскочил по инерции в штаб, обернувшись всего лишь раз – чтобы лучше запомнить странного красноармейца. Хорошо бы с ним завтра побеседовать! Но более срочные дела увлекли его за собой. Завтра поговорим, завтра… И это стало еще одним промахом неплохого в целом «чистильщика»…
Но и разводящий караула младший сержант Пиотровский перехватил удивленный взгляд «особиста» и понял все правильно – его узнали! Этот тип, рвавшийся к нему в консульскую «секретку», опознал его! И, конечно же, он арестует и отдаст под суд, а там – скорее всего, расстрел. Матка Боска, Ченстоховска!
Губы сами собой выговаривали слова заученной с детства молитвы:
- Патер ностер, квуи эс ин каэлис.
- Санктифицетур номен туум.
- Адвениат регнум туум.
Глава седьмая. Мужество, тревога и отчаяние…
Васильцов считал себя человеком с крепкими нервами. Но через год в должности командира дивизии стал признаваться – отчасти в шутку, но больше всерьез: «Нервы ни к черту!»
Когда под твоим началом тысячи и тысячи людей, да не простых, а одетых в военную форму, да еще вооруженных, когда в руках этих людей всевозможная боевая техника – от грузовиков и тракторов до орудий, минометов, огнеметов, когда большинство этих людей ждет не дождется, когда им скажут: «все, теперь вы свободны, можете разъезжаться по домам» или, напротив, когда им ежедневно втолковывают: «этого вам нельзя, и это тоже категорически запрещается», и они, эти военно-подневольные люди, пытаются так или иначе смягчить, обойти служебные запреты (тот же запрет на самовольное покидание расположения части или на распитие вина и водки в любое время дня, или… Да мало ли этих «или», которые ограничивают личную свободу людей, – молодых, сильных и неглупых мужчин, порой озорных, порой самонадеянных, порой изначально порочных или дерзких, хитроумных, с детства непослушных парней?). Когда под твоим началом столько непростых личностей с характером, с национальными амбициями, с разными понятиями о пределах допустимого – жди чрезвычайных происшествий. Командир 49-й стрелковой дивизии их не ждал, они происходили сами по себе – жди не жди – они происходили в силу естественного течения жизни, со всеми ее выбросами и сюрпризами.
Каждое утро Васильцов готовился к потоку пренеприятных новостей. Он встречал их в окружении заместителя – полковника Никодима Скурьята (по кличке Малюта) и военного комиссара дивизии Потапова (по кличке Медведь). А все новости сообщали им по очереди – сначала начальник штаба майор Степан Гуров, а потом – начарт, начальник артиллерии дивизии капитан Михаил Антонов, начальники инженерной, химической, медицинской, финансовой служб – если им было что сказать, то есть озадачить или огорчить начальство. Именно так начинался каждый служебный день в 49-й краснознаменной.
Вот и сейчас перед столом комдива предстал понурый майор Гуров:
– Происшествие по перечню один, – замогильным голосом сообщал начштаба, – младший сержант пятнадцатого полка Пиотровский самовольно покинул часть, вооружившись винтовкой.
Васильцов встал из кресла.
– Немедленно разыскать, обезоружить и отдать под трибунал! – распоряжался полковник, прекрасно понимая, как непросто выполнить его указание и какие неприятности может принести это ЧП лично ему и всей дивизии.
– Две роты полка подняты по боевой тревоге и отправлены прочесывать окрестные леса… Вчера, – продолжал начштаба, – командир противотанкового дивизиона капитан Никифоров врезался на своем личном мотоцикле в обозную конную повозку и сломал ногу.
– Кому? – уточнял остроязыкий Васильцов. – Коню или себе?
– Себе. Отправлен в госпиталь.
– Конь? – продолжал шутку комдива Малюта.
– Никак нет. Командир дивизиона.
– На «губу» его надо было бы отправить, а не в госпиталь, – ворчал комдив, и весь его ареопаг молча соглашался… – Ну, что еще? Добивай, черный ворон!
– Вчера вечером в батальоне связи командиры рот устроили групповую пьянку с распитием самодельных спиртных напитков по случаю присвоения очередного звания командиру радиотелеграфной роты.
– Ладно, это мы переживем. Организаторов пьянки наказать в служебном порядке…
– А что, на несамодельные напитки у них денег не хватило? – полюбопытствовал полковник Скурьята. На этот вопрос начальник штаба ответить не смог.
– Сегодня утром сгорел склад табачного довольствия. Почти тонна махорки и несколько коробок папирос «Беломорканал», «Север» и «Казбек»… – продолжал свой скорбный список начштаба.
– Что, даже окурков не осталось? – спросил Потапов.
– Никак нет. Только один пепел.
– Не горюй, Платоныч, – усмехался Васильцов. – Не пристало тебе окурки собирать. Поделюсь с тобой своим запасом.
– «Казбек» жалко. Дорогие папиросы, – качал головой комиссар, заядлый курильщик. Разговор тут же перешел на качество папирос и махры: какие крепче, какие ароматнее.
Табачную тему перебил начальник артиллерии дивизии.
– Разрешите доложить, к нам едет комиссия из Москвы, из Главного артиллерийского управления, – печально сообщил он.
– Знаю, – невесело подтвердил Васильцов. – Все по классике: «К нам едет ревизор»… Начпроду продумать меню гостевого обеда. Флагманскому рыбаку Валентину Михайловичу оборудовать места для рыбной ловли.
Командир разведбата (91-го, отдельного) капитан Валентин Панкратов слыл отменным рыбаком и всегда выручал комдива, развлекая даже самых строгих проверщиков удачной ловлей лещей и голавлей в Пульве-реке. Но это случалось нечасто. Поскольку 49-я стояла «на отшибе отшиба» – вдалеке от Бреста и в изрядной беловежской глухомани, важные комиссии выбирались сюда редко.
Начальника разведбата капитана Панкратова и начальника Особого отдела капитана госбезопасности Фанифатова комдив всегда заслушивал отдельно. Их информация большей частью не подлежала разглашению.
– С начала июня немцы сменили свои пограничные части на линейные. Службу по охране границы несет сегодня пехота вермахта, – докладывал наблюдения своих людей капитан Панкратов. – Если раньше немецкие пограничники отвечали на приветствие наших погранцов, то сейчас не отвечают, потому что не знают традиций. Чистая пехтура и ничего более. Почему убрали своих пограничников? Видимо, потому, что собираются не охранять границу, а уничтожать ее.
– Разумный вывод! – кивнул Васильцов.
– Могу дополнить его тем, – отозвался сосредоточенно молчавший Фанифатов, – что в окрестностях Высокого и Волчина стали появляться неизвестные сельчанам люди. Местные утверждают, что приходят они оттуда – со стороны рек, из бывшей Польши, нынешней Германии. Выясняем, кто они, чем занимаются. Вчера допросили одного из таких «прихожан». Сказал, что пришел за товаром, что он контрабандист. А кто его знает – кто он на самом деле?
Напрягало в Высоком все – и тихая угроза, затаившаяся на немецком берегу, и выжидательное молчание начальства как из Кобрина, так и из Минска. Напрягала обстановка в дивизии, с каждым днем становившаяся все более разгильдяйской. Чиновное равнодушие одних, тупая распорядительность других, кадровая неразбериха в собственном хозяйстве.
В мае – начале июня 1941-го на 45-дневные лагерные сборы было призвано несколько сот призывников из близлежащей местности – Брестской области. Эта группа понимала русский язык, но не это было главным. Местных белорусов успели только переодеть, постричь и приступить к обучению, как началась война. Большинство «тутэйших» в первые же дни разбежались по домам, некоторых задержали немцы и отправили в плен.
В мае 1941 года два дивизиона 166-го гаубичного полка в полном составе перевели в местечко Боцки. Их использовали для формирования 31-го гаубичного артполка 31-й танковой дивизии. А 49-я осталась без своего главного артиллерийского ядра. Но и этого мало – дивизия осталась и без противовоздушного прикрытия, поскольку перед самым нападением штатный 291-й зенитный артдивизион был отправлен по железной дороге на станцию Крупки Минской области. Там проводились практические стрельбы. Разумеется, зенитчики должны были тренироваться, но оставлять приграничную дивизию без прикрытия с воздуха было предательски глупо.
В полках и дивизионах нещадно пили. Командиры рот, батарей, батальонов глушили водкой (местным самогоном, казенным спиртом да мало ли чем еще) угрюмую тоску от надвигавшейся беды. Несмотря ни на какие утешительные заявления больших начальников, малые и средние начальники, если не по разумению, то по инстинкту чувствовали нависавшую над всеми гибельную грозу.
Каждый день на стол комиссара Потапова ложились донесения о пьянках командного состава. Он кряхтел, чертыхался, вздыхал, но поделать ничего не мог. Люди пили… И никакие устрашения не могли отвадить их от утешительного зелья, травы забвения…
Полковник Васильцов и сам стал прикладываться к стакану много чаще, чем раньше. А главное – в одиночестве. Чтобы снять напряжение дня, прогнать тревожные мысли, он опрокидывал перед сном почти полный стакан водки, наспех чем-то закусывал и ложился спать, погружаясь в вязкое забытье. Последнее время стал себя щадить – перешел на коньяк. Полстакана – и вот уже мозг одевался в тесный шлемофон коньячного хмеля. Ощущение, как у ловчего сокола, на головку которого надели кожаный колпачок. Ничего не вижу, ничего не слышу…
Сдав караул, младший сержант Пиотровский решился…
Ночью он прорезал полотно оружейной палатки, взял первую попавшуюся винтовку и тихо исчез в ночи. За его спиной горбился вещмешок, набитый его армейским скарбом: смена белья, летние бязевые портянки, котелок, набитый салом, фляжка, заправленная холодным чаем, две банки тушенки, буханка хлеба, кисет с гродненской махоркой, спички… Вполне благополучно вышел он за околицу пригородной деревушки, лишь дворовые псы пролаяли ему вслед. А потом надежная глухомань векового леса скрыла его от всех досужих глаз.
У Пиотровского не было определенного маршрута, шел наугад, а главное, подальше от населенных мест. Верил – рано или поздно встретит какой-нибудь польский отряд. Знал по слухам, что в Пуще их немало.
Лишь на вторые сутки своих блужданий по просекам кварталов Стас был остановлен негромким окриком:
– Стой! Брось карабин! Иди сюда! Кем есть?
Пиотровский ответил на польском. Его обыскали и повели в схрон. По дороге рассказывал о себе, называл нужные имена и фамилии. Так что привели его к командиру почти своим. А когда командир боевой группы «Астра», поручик, родом из Белостока, услышал из уст задержанного фамилию Долива-Добровольский, расплылся в улыбке.
– Я тоже из этого славного шляхетского рода!
Через пять дней боевая группа «Астра» слилась с остатками разгромленной под Волковыском группы «Сириус», Пиотровский радостно обнял Владека. Он оказался ее командиром. Друзьям пришлось нарушить «сухой закон»: манерка Владека до горловины была наполнена превосходным коньяком. Оба сделали по большому глотку – за встречу.
– За братерство войскове!
Глава восьмая. Спешил старшина на свидание…
Надраив хромовые сапоги, одернувши коверкотовую гимнастерку со старшинской «пилой» в синих – кавалерийских – петлицах, сбив на затылок синеоколышную фуражку, Незнамов отправился на свидание; точка встречи – мостик через Россь. Там его уже поджидала Альбина, одетая в свой лучший наряд: голубое платье с кружевным воротничком, в темно-синих лаковых круглоносых туфлях и при белых носочках. Через плечо у нее висела мамина сумочка из мятой желтой кожи с никелированным замком-защелкой. Сумочку эту лет пять назад отец привез из Варшавы и подарил маме, теперь она перешла Альбине, и все подруги ей очень завидовали. Незнамов имел на девушку самые серьезные виды. Единственное, что его смущало, броская красота горожанки. Устоит ли она против натиска других претендентов на ее руку, сердце или просто приманчивую женскую плоть? А Незнамов был мужчина серьезный и очень ревнивый.
Они чинно и долго бродили вдоль Росси, Альбина рассказывала о своей семье, о бабушках, дедушках, родителях… Антон слушал рассеяно, кому охота слушать саги про далекую и ближнюю родню? Единственное, что он запомнил из рассказов девушки, это то, что ее отец – подпоручик конных стрельцов Войска польского, сначала пропал на «Сентябрьской войне» где-то под Торунем, а потом прислал письмо из советского лагеря для интернированных – из Оптиной пустыни. А с весны прошлого года снова пропал – ни единой весточки. Альбина просила помочь разузнать что-либо об отце. И хотя у Незнамова не было никаких знакомств в НКВД, он все же обещал подруге пораспрашивать сведущих людей о подпоручике Сенкевиче.
В свою очередь он рассказывал девушке – чем рысак отличается от скакуна. Рассказывал о многих тонкостях конного дела, о которых обычные люди даже не подозревают. Альбину очень насмешило то, что перед случкой с кобыл снимают подковы, чтобы те не травмировали своих жеребцов.
Они все дальше и дальше уходили от мостика и вскоре оказались в глухом осиннике, где стоял почти ночной полумрак. Именно полумрак, а не темень, поскольку лето приближалось к самой короткой ночи года. Здесь они остановились, будто решая – идти дальше или вернуться к мостику. Они стояли друг против друга, и как-то само собой вышло, что Антон обнял Альбину за плечи. А дальше они соприкоснулись щеками, и Незнамов вдохнул сложный аромат духов, девичьей кожи и густых локонов. Тревожно забилось сердце, как на конкуре перед прыжком через барьер. Но старшина всегда шел на барьеры и бесстрашно брал их, даже когда робели кони. Он умел давать посылы. Но здесь и сам оробел, как молодой скакун. Он хорошо понимал, что Альбина привела его сюда неслучайно, неслучайно они остановились здесь… Вперед, джигит, она тебя не оттолкнет! Альбина и в самом деле не оттолкнула, а только тихо вздохнула, когда его губы подобрались к ее губам и впились в них… Так они признались друг другу, что милы и желанны.
Обратно возвращались под руку, и Антон хорошо чувствовал горячий бок девушки… Несколько раз они останавливались и целовались взахлеб.
Антон проводил подругу до самой калитки, и они условились о новой встрече – в кино. В единственном в Волковыске кинотеатре шел новый фильм с участием Марины Ладыниной «Любимая девушка».
– Это про тебя! – сказал ей на прощание Антон.
– Точно про меня? – шутливо нахмурилась Альбина.
– А вот посмотришь – и поймешь!
– Я надеюсь, что уже поняла это сегодня.
– Ты все поняла правильно!
А на другой день – на вечернем сеансе – они целовались в кинотеатре, как это принято во всем мире – на зад-нем ряду; фильм про чужую любимую девушку волновал Незнамова намного меньше, чем своя, не киноэкранная реальная Альбина. К концу картины он уже решил про себя, что непременно женится на этой красивой, умной, скромной – какой там еще? – девушке. На сироте, на белошвейке, на белоруске, на горожанке… Одним словом – на пригожуне. Надо только найти день и час, чтобы сказать ей об этом. Например, завтра. В воскресенье…
Он приведет Альбину к себе, и отец Феофилакт их тайно обвенчает. А потом они распишутся в ЗАГСе. А потом, в отпуск, он увезет Альбину на Хопер, в станицу Преображенская, и представит молодую жену отцу с матерью и обеим сестрам.
Не зря говорится: хочешь посмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Вряд ли Богу было дело до планов старшины Незнамова. Но утром его ждало распоряжение командира полка – перегнать двух коней из Волковыска в Волчин, на что старшине давалось трое суток.
– Передашь коней лично командиру 49-й дивизии полковнику Васильцову вот с этим письмом, – напутствовал его командир полка и вручил служебный пакет.
– Есть! – привычно взял под козырек старшина, не скрывая своего огорчения.
– Коней выберу сам.
Ни командир полка, ни тем более старшина Незнамов не знали подоплеку этого задания. Знал лишь командир 6-й кавалерийской дивизии генерал-майор Ефим Зыбин. Это был его царский подарок на сорокалетие старого друга Константина Васильцова. Когда-то вместе учились в Новочеркасской объединенной кавалерийской школе. Оба любили лошадей и знали в них толк. Разумеется, Васильцов ничуть не догадывался о подобном подарке, Зыбин же радовался, что подготовил другу столь знатный сюрприз.
Глава девятая. Один день полковника Васильцова
Кровать узка, как ножны для кинжала.
Сквозь последний, предутренний, сон прорастал серебристый птичий щебет.
Какое блаженство, проснувшись и не подняв еще головы с подушки, слышать, как поет тебе какая-то ранняя птаха. Именно для тебя выводит она свои птичьи рулады, отщелкивает коленца, потому что вокруг никого нет и она старается именно для тебя. Она возвещает именно тебе, что вот – еще один ясный день дарован полковнику Васильцову, как великая награда. А уж как ты распорядишься этим подарком, как проживешь эти новейшие и многообещающие с утра сутки, зависит только от тебя.
«Я тебя понял, птаха! Подъем!» – Константин Федорович легко вскочил с кровати, и вся свора нерешенных вчера неотложных дел, караулившая его просыпание, радостно подпрыгнула и тут же, отпихивая друг друга, затирая друг друга, голося и гомоня, ринулась к проснувшемуся комдиву.
Самой первой пробилась важнейшая забота – встретить новоиспеченных на ускоренных курсах лейтенантов и распределить их по полкам. Второе неотложное дело – принять начальника полевого отделения Госбанка и разместить его денежную контору при штабе. Полевые отделения ввели в армии год назад, во время финской войны, и теперь надо было отлаживать их важную финансовую работу в дивизионном масштабе. Чем конкретно будет заниматься это новое подразделение, знает начфин, ему и карты, то есть и облигации в руки, но он, Васильцов, должен обеспечить надежное хранение немалых денежных сумм и, разумеется, охрану.
Третьим, что всколыхнуло и напрягло душу, было распоряжение командира корпуса генерала Попова немедленно проверить и доложить о состоянии монтажных работ в дотах Семятиченского оборонительного узла.
Попов, донской казак, всегда рубил с плеча и все у него должно было нестись в одном темпе – галопом. Поневоле приходилось приноравливаться к этому бешеному аллюру. А для начала надо было быстро побриться, заглотнуть завтрак и без проволочек провести утреннюю оперативку.
Ах, ничто так не бодрит и не освежает, как холодная вода! Во дворце была большая ванная комната и даже эмалированная ванна стояла на изогнутых, на манер львиных лап, ножках. Но водопровод бездействовал и Васильцов бежал на берег Пульвы и бросался в воду. Холодные струи щекотали подмышки, ласкали тело и освежали ступни, освобожденные от кожаного плена тесных сапогов. А на берегу его встречал широченной улыбкой Гай. Сам он в воду не лез, но ему нравилось, когда хозяин (а Васильцова он держал за своего хозяина) плескался в реке.
Быстро позавтракать не удалось. В «генеральском салоне» его встретил радостно взволнованный комиссар Потапов, в руках он держал газету «Правда», ее же и сунул в руки комдиву:
– Читай, читай! Что я тебе говорил!
Васильцов быстро пробежал газетные строки на первой полосе:
«ТАСС заявляет, что:
1. Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного, соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места;
2. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского Пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям;
3. СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского Пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными».
– Видал-миндал?! – ликовал Потапов. – А ты все старую песнь поешь: «Если завтра война, если завтра в поход…» Поживем еще, а уж потом – завтра!
Васильцов не знал, радоваться ему или задумываться. С одной стороны – веско и авторитетно, не ёж чихнул, Москва сказала. С другой – не менее веско, и не менее убедительна возня немцев на левом берегу.
– Н-да… Дай боже, чтоб и у нас тоже… Им бы, нашим соседям, это почитать, может, поутихнут слегка.
– А ты думаешь, они не читали?! Это ж заявление ТАСС! Они тоже должны во всех газетах напечатать.
– Для начала они должны переправочные средства убрать, если прочитали… А они свои штурм-боты внаглую готовят.
– Тебе же черным по белому сказано: слухи о войне с Германией являются лживыми и провокационными.
– Черным по белому – это хорошо. Как бы красным по белому не вышло…
– Чего паникуешь? Плохо спал? Ты себе на ночь пупок душистым вазелином мажь. Крепче спать будешь.
– Ладно, Платоныч, новость-то ты хорошую принес, за нее и выпить не грех.
– А вот солнце сядет, и, как сказал классик, в «стране дураков» закипит работа! – расправил усы Потапов.
Васильцов слегка опасался своего комиссара. Потапов время от времени то ли в шутку, то ли всерьез напоминал Васильцову: «Комиссар есть дуло пистолета, приставленного к виску командира!» Чаще всего так оно и было. Комдив держался с политработниками мудро, не вступая с ними ни в какие контры, понимая, что спорить с ними, противодействовать – все равно что плевать против ветра. И тем не менее комдив уважал Потапыча за верность слову, за преданность делу – и партийному и чисто военному. Не «зурнач-фанфарист, не барабанщик. Не карьерист. «Не смыкал» перед начальством – туда-сюда.
Новость из «Правды» и в самом деле была хорошая. У Васильцова от сердца отлегло – слава богу, война не завтра и не послезавтра! Но молодых лейтенантов, собранных в клубе – в бывшем гостевом доме Потоцких, – размагничивать не стал. Но молодые командиры и без того горели желанием поскорее включиться в настоящую военную жизнь – повоевать, победить. Полковник вглядывался в их лица, узнавал себя, улыбался в усы. Их было двенадцать – апостольское число. Маловато, конечно, на три полка да три отдельных батальона. Но все же вливание. Он вкратце обрисовал обстановку в полосе обороны дивизии, не забыв заметить, что никакого второго эшелона в их замечательной четвертой армии пока нет, как нет и никаких резервов. В случае чего, – понизил он голос, – стоять будем до последнего. Отступать некуда.
– Да мы и не собираемся отступать! – с юношеской обидой воскликнул младший лейтенант с пунцовым румянцем на щеках. – Товарищ Ворошилов сказал: на вражеской территории бить врага…
– И малой кровью, – подсказал ему кто-то из рядов.
– Так точно! – согласился «младшина».
– На войне бывает всяко! – мудро определил Васильцов. – Но следовать, конечно, будем указанию товарища Ворошилова. Как ваша фамилия?
– Младший лейтенант Васильцев! Алексей Андреевич.
Комдив вздрогнул. Почти родная фамилия. Да и имя Лешкино. Бывают же такие совпадения! Вчера вспоминал, а утром – явление.
– Мы с вами почти однофамильцы, товарищ младший лейтенант. Не подведите!
– Никак нет! Буду стараться!
– Вопросы ко мне есть?
– Так точно! Лейтенант Калинкин. Когда нам выдадут личное оружие?
– Когда на должности назначат, тогда и выдадут.
Вдруг пришла мысль, которую он даже записал в казенный блокнот – «полевую книжку командира»:
«Армия мирного времени, в которую еще не призван основной контингент, напоминает систему шлюзов, каналов и плотин, куда еще не впустили воду. Мы обязаны беречь и содержать в порядке все эти “гидротехнические объекты”, чтобы “вода”, когда она будет впущена, не проливалась даром. Военкоматы, призывные пункты, карантины, учебные центры и полигоны и т.п, и т. д.»
Препоручив командирское пополнение начальнику штаба, Васильцов отправился принимать шефа полевого отделения Госбанка. Сутулого и слегка испуганного техник-интенданта 1-го ранга (что соответствовало капитану в войсках) представлял начальник финансовой службы интендант 3-го ранга Аканов. «Цербер советского рубля» – так прозвали его штабисты за строгость в обращении с деньгами. Аканов толкнул сотоварища в бок, и тот произнес хорошо заученную фразу, наверняка не без репетиторства начфина:
– Товарищ полковник, техник-интендант первого ранга Мичурин явился для прохождения дальнейшей службы.
– Являются, товарищ Мичурин, только девушки во снах да привидения на погостах, – мягко поправил его Васильцов, – а командиры Красной Армии – прибывают!
– Виноват, товарищ полковник, – прибыл!
Мичурин, разумеется, не знал старого армейского розыгрыша: если бы он доложил «прибыл», то услышал бы – «прибывают пассажирские поезда, а командиры Красной Армии – являются». Аканов знал эту шутку и потому незаметно улыбался. Но Васильцов был серьезен:
– Место для вашего полевого отделения выделено, и вовсе не в поле, а в левом флигеле нашего дворца. Так и нам спокойнее будет, и деньги целее… Уточните цели и задачи вашего подразделения!
Неловкий, застенчивый военный банкир вызывал у комдива улыбку, но он умело прятал ее. Одернув гимнастерку, Мичурин доложил:
– Задача у нас простая: своевременно обеспечивать денежной массой финансовую службу дивизии, осуществлять переводы денежных вкладов в обе стороны, а также проводить государственные займы среди военнослужащих, подписывать их на облигации.
– Насчет «денежной массы» это вы хорошо сказанули, – вздохнул Васильцов. – Иногда ее так не хватает, этой «массы». Но служба у вас, скажу я вам, почетная, важная и даже немного завидная – всегда при деньгах. Если будут вопросы, обращайтесь к товарищу Аканову, Алексей Александрович, настоящий цербер советского рубля, он всегда вам поможет. Ну и мы, клиенты, тоже не подкачаем.
– Спасибо, товарищ полковник!
– С Богом!
Едва финансисты покинули кабинет, как адъютант доложил, что на срочный прием просится начальник полевого автохлебозавода.
– Что случилось?
– Не говорит. Только весь трясется.
– Ну, зови этого трясуна.
Начальника дивизионного ПАХа – полевого авто-хлебозавода, интенданта 2-го ранга Молокнова, человека немолодого и бывалого, и в самом деле сотрясала крупная дрожь.
– Что случилось, Васильваныч?
– Товарищ полковник, опара скисла. Тесто опустилось…
– И ты хочешь, чтобы я его поднял? – насмешливо спросил комдив.
– Никак нет! – Молокнову было не до шуток. – Опару нарочно испортили, во все дежи какая-то тварь подлила уксусную кислоту. Похоже, что сегодня люди без свежего хлеба останутся.
– Ну, ты это брось – без хлеба… Человек рождается голодным. Сам знаешь, хлеб – всему голова.
– Так точно! Голова…
– Ты тоже голова – большого стратегического подразделения. Сколько у тебя штыков на заводе?
– Личного состава 128 человек плюс шестнадцать шоферов.
– У тебя по штату целый дивизион, а ты опару поднять не можешь.
– Так вредительство же, товарищ полковник, чистое вредительство! Никогда такого не было, и вдруг на тебе – Маруся с гусем.
– Насчет вредительства это ты доложи в особый отдел. Пусть ищут, кто напакостил. А мне скажи, какие выходы ты видишь из создавшегося положения? Вчерашняя выпечка осталась? Или всю развезли?
– Немного осталось – на двести сутодач.
– Ну, уже легче, на двести ртов. С городской пекарней связывался?
– Никак нет. Сначала к вам, а потом уже по инстанциям.
– По инстанциям…
Васильцов задумался, оставить дивизию без хлеба хотя бы на сутки – это же ЧП, да еще какое! До штаба округа ведь дойдет… До Минска! Командирская жизнь приучила его принимать быстрые и четкие решения.