Атаман
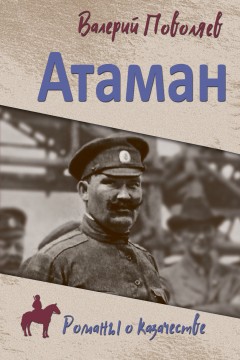
© Носатов В.И., 2024
© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2024
Книга первая. Казачья жизнь
Часть первая
Офицерские погоны Григорий Семенов носил с удовольствием, иногда, словно бы не веря, что он на самом деле – после окончания военного училища в городе Оренбурге – стал офицером, косился то на одно свое плечо, то на другое, осматривал погоны и гордо вздергивал голову: знай наших!
Училище он окончил по первому разряду, потом двадцать восемь дней гостил дома, у отца, в станице на реке Онон – после учебы был положен отпуск, – и уже оттуда отбыл в полк, стоявший в городе Троицко-Савске, на границе с Северной Монголией, или, как звали ее в ту пору, – Халхи.
В Троицко-Савске Семенов обосновался в маленькой чистой хатенке, в которой жил одинокий сивоголовый дед – герой осады Севастополя[1], лично знавший адмирала Нахимова, – заплатил за жилье вперед и впрягся в службу.
Зима в тот год выдалась капризная – снежная и одновременно морозная, рот на улице открыть было нельзя, его мигом запечатывало, зубы крошились от холода, от стужи не спасали даже шубы на волчьем меху, а потом вдруг откуда-то из монгольских задымленных глубин приносился хриплый, злобно гогочущий ветер, сдирал снег с земли, обнажая камни и сохлую траву, и начиналась оттепель. Люди хлюпали мокрыми носами и последними словами ругали матушку-природу – что же с ней такое происходит? Что в ней развинтилось? И когда все это кончится?
Семенову такая погода нравилась – она закаляет организм и из обычного солдата делает солдата, который ни мороза не боится, ни жары, ни чертей с вурдалаками, ни турок с кривыми ятаганами, ни воды, ни высоченных гор, ни лютых здешних разбойников – хунгузов…
Напрасно Семенов вспомнил о хунгузах[2].
Во дворе к нему подбежал казак Белов – подвижный, стремительный, о нем Семенов говорил: «Шустрый, как веник», – запыхавшийся, похлопал себя по рту, сдерживая дыхание:
– Обыскался я вас, ваше благородие… Пожалуйте срочно в штаб.
– Чего стряслось? – Голос у Семенова сделался недовольным – прорезались в нем иногда жесткие брюзгливые нотки, отталкивающие человека, и тогда между ним и его собеседником словно бы трещина какая появлялась; произошло это и сейчас, Белов это почувствовал, невольно вытянулся, приложил руку к фуражке и добавил несколько невпопад, запоздало:
– Ваше благородие!
В штабе встретил Семенова помощник командира полка – сухопарый, с металлическим лицом есаул, перетянутый ремнями. Приказал:
– Возьмите с собою пять человек, оружие и срочно отправляйтесь в Сучан-Кневичи.
Семенов щелкнул каблуками, круто развернулся через левое плечо и приготовился покинуть кабинет помощника командира полка.
– А что же не спрашиваете, по какой такой надобности я отправляю вас в Сучан-Кневичи? – поинтересовался тот.
– На месте разберемся, господин есаул.
Есаул усмехнулся:
– Ну-ну… Тогда действуйте!
Хунгузы налетели на село Сучан-Кневичи внезапно. Было их пятнадцать человек – ровно пятнадцать, командовал ими Желтолицый Линь – молодой, начинающий полнеть китаец с черными сальными волосами, заплетенными по-купечески в косичку – он, к слову, действительно принадлежал к купеческому сословию, отец его владел на берегу Амура несколькими мануфактурными лавками. Китайцев за цвет кожи часто называли желтолицыми, у Линя лицо было и вовсе похоже на спелый лимон – яркого желтого цвета, и, как у настоящего лимона, с «пупочкой» на подбородке.
Желтолицый Линь отличался жестокостью. Недавно в трех километрах от Сучан-Кневичей нашли зарезанного купца с приказчиком, при купце ничего не оказалось – ни денег, ни товара, ни золотого песка, который тот выменял у старателей на муку, крупу, сахар и несколько бочонков постного масла, – все подгреб Желтолицый Линь…
О том, что купец побывал у старателей, стало известно в Сучан-Кневичах, а оттуда вестишка ушла к китайцам, живущим на нашей стороне; там, где живут китайцы, – все дыряво, границ для «ля-ля-ля» не существует, вскоре в селе появился Желтолицый Линь со своими людьми, на лошадях промахнул мимо, через три часа вернулся. В четырех санях, накрытых рогожею, лежал тщательно упакованный товар. Ни бугорка, ни острого выступа, что это за товар – не понять, Желтолицый Линь был доволен, и без задержки укатил в Китай.
Обычно, если он бывал недоволен, – шел к старосте Ефиму Бычкову, садился в доме на лавку и втыкал нож в хорошо выскобленный сосновый стол.
– Если хочешь, чтобы я вынул из стола нож – плати.
Ефим опускался на колени и спрашивал дрожащим голосом:
– Сколько, бачка?
Желтолицый Линь показывал ему три раза по пять пальцев и грозно сводил жидкие кучерявые брови:
– Перевести на русский язык?
Староста бился лбом об пол, задыхался в слезной обиде:
– Разоряешь, бачка!
Линь усмехался, произносил с издевкой:
– Такие, как ты, в огне не горят, в воде не тонут. – Желтолицый Линь русский язык знал хорошо, даже очень хорошо – когда-то он учился в Хабаровске, в Коммерческой школе, писать умел почти без ошибок, читать – и того лучше. – Если такого человека, как ты, проглотит корова, он из ее желудка вылезет невредимым. Таких ни медведи, ни свиньи, ни тигры не едят, разорять вас – дело бесполезное. Гони, старый козел, пятнадцать рублей золотом и живи со своей деревней мирно. Не дашь денег – будешь обижаться на самого себя.
Староста, стеная, кряхтя, исчезал в соседней комнате, через несколько минут выносил деньги.
– Душегуб ты, Линь, – крутил головой Ефим Бычков, хлюпал носом обиженно, – креста на тебе нет.
– Креста нет, это точно. – Желтолицый Линь заходился в смехе, сгребал монеты в руку, пересчитывал их и хвалил хозяина: – Молодец, Ефим, на этот раз не обманул меня. – Хотя обмануть Линя было трудно – в русских деньгах он разбирался не хуже Ефима Бычкова. – Молодец, паря!
Вытаскивал нож из столешницы, засовывал его в чехол, сшитый из кабаньей пашины, и уходил.
Через несколько минут китайцы покидали Сучан-Кневичи.
В конце концов платить поборы стало невмоготу, и староста, покряхтев, расчесав в раздумиях затылок до крови, надел лучший свой пиджак, нацепил на него медальку, полученную за беспорочную службу, и поехал на станцию Гродеково жаловаться на Желтолицего Линя командиру Первого Нерчинского полка генерал-майору Перфильеву. Перфильев лишь недавно был произведен в генералы и ожидал нового назначения. В полку его любили и жалели, что Перфильев уходит.
Перфильев обещал Ефиму Бычкову укоротить Желтолицего Линя, проводил старосту до дверей кабинета; прощаясь с ним, подал руку.
– Скоро мои люди появятся у вас.
– Жду с нетерпением. – Староста наклонил напомаженную, с ровным пробором голову.
– Только постарайтесь, чтобы солдат моих никто не видел, – попросил генерал-майор. – От секретности операции очень многое зависит. Слишком уж граница у нас щелястая, ветер в дырах свистит.
– Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, – староста вновь наклонил напомаженную голову, – я ведь сам в этом очень заинтересован. Назад дороги нет. Если Желтолицый Линь о чем-нибудь узнает, то мне же первому и отрежет голову.
Командир полка был вежливым человеком, проводил деревенского старосту дальше, чем было положено, – до входной двери.
Группа нерчинцев выехала вечером, когда было уже темно. С собою взяли винтовки, патроны, немного еды. С провиантом да с кормом для лошадей Ефим Бычков просил не беспокоиться – эти заботы он брал на себя.
Едва миновали последние домики станции Гродеково, как сразу погрузились в вязкую, густую черноту, в которой невозможно было увидеть даже холку собственного коня.
В число отряженных пяти человек Семенов включил и шустрого Белова. В обещании, данном помощнику командира полка самому во всем разобраться, на месте, была некая доля игры – Семенов слышал и о набегах на Сучан-Кневичи, и о Желтолицем Лине – слухами ведь земля полнится, – но как будет действовать, пока не знал. С этим-то он точно определится на месте. Сейчас попусту гадать нечего.
Кони шли ходкой рысью – понукать не надо было, – перед тем как выехать, Семенов приказал хорошенько накормить их. Местами черный лес подступал вплотную к дороге, и тогда Семенов, на ходу сдергивая с себя винтовку, клал ее на луку седла. Зима нынешняя выдалась не только капризная, но и голодная, из тайги на тракты выходит много волков, в Гродеково они напали на жену железнодорожного стрелочника, на несчастье свое заплутавшую на окраине станции, и если бы не казаки из учебной команды, случайно проезжавшие мимо, волки так бы и закатали ее, пустили бы на свою звериную закуску, а так женщина, считай, легко отделалась – клыкастые покусали ей только правую руку и ноги.
В глубине леса иногда помаргивали слабые гнилушечьи огоньки, исчезали, затем возникали вновь, и от их таинственного мерцания делалось не по себе, по телу пробегал холод.
Впрочем, волков Семенов не боялся, а вот нечистой силы побаивался, это в него было вживлено еще с детства – от волков можно отбиться чем угодно – винтовкой, факелом, топором, палкой, лопатой, ломом, косой, а вот от леших не отобьешься – окружат, защекочут, зацелуют и удавят. Да и волк – не дурак. Он на вооруженного человека не полезет – издали чувствует запах патронов, пороха, горелого ствола, а лешим на горелый ствол наплевать, они пороха и пуль не боятся.
Глубокой ночью казаки, встреченные ленивым перебрехиванием сонных кобелей, прибыли в Сучан-Кневичи; староста, несмотря на поздний час, встретил их на пороге дома, радостно потер руки:
– Ну, теперь лимону этому – хана!
– Хана! – спокойно подтвердил Семенов.
Утром староста сообщил сельчанам, что решил возводить новый дом – большую пятистенку с высокой, в половину человеческого роста завалинкой и для этого нанял в Гродеково пятерых работников – ловких мужиков: пусть они к весне выберут в лесу сухостойные лиственницы – дерево, как известно, вечное, гниению не поддающееся – срубят их, обработают, вывезут, свяжут венцы, а уже летом, когда грянет настоящее тепло, начнут стройку.
Дом должен быть удобным, широким, разумно спланированным – староста собрался выдавать замуж свою красавицу-дочь и при этом ставил условие: новоиспеченный родственник должен переехать жить к нему, в тот самый дом, что будет срублен.
Весть о новых работниках и великих планах Ефима Бычкова обязательно дойдет до ушей Желтолицего Линя, поэтому появление свежих лиц не вызовет вопросов у предводителей хунгузов. Что же касается казачьих коней, то их Ефим глубоко запрячет в конюшне, так что ни один человек, даже из своих, не говоря уже о чужих, не узнает о них.
Главное – чтобы Желтолицый Линь появился побыстрее.
Через два дня банда Линя с лихим свистом пронеслась по единственной улочке деревни и исчезла в морозном розовом мареве студеного февральского дня.
Семенов наблюдал за хунгузами из-за занавески и, проводив их долгим изучающим взглядом, озабоченно почесал подбородок:
– Однако к тебе, Ефим Иваныч, не завернули.
Бычков перекрестился:
– Боюсь я их!
На всякий случай Семенов натянул поверх рубахи казачий мундир с офицерскими погонами, людей своих расставил по намеченным точкам. Поскольку он знал, что банда обычно целиком въезжала в просторный двор Ефима, то двоих казаков поставил в сторонке с одной стороны двора, двоих – с другой, старшим в этой дворовой команде назначил Белова.
– Все. Ждем встречи с узкоглазыми, – проговорил он довольно и скомандовал: – Стрелять без промаха. Главного живодера, Линя этого, я беру на себя.
Хунгузы появились лишь в четвертом часу дня, когда на деревню уже начал наползать серый предвечерний сумрак, людей на улице не было видно – попрятались в ожидании хунгузов. Что-то тяжелое, тревожное, пахнущее кровью, повисло над деревенскими домами.
Отряд Линя снова проскакал через Сучан-Кневичи, словно бы проверял деревню – нет ли чего опасного, затем развернулся и неспешной рысью двинулся обратно. Семенов, одетый в форму, перетянутый ремнями, при револьвере и сабле, наблюдал за китайцами из-за занавески.
Около ворот Ефима Бычкова Желтолицый Линь остановился:
– Хозяин!
Староста поспешно выскочил из дома, открыл ворота. Линь, пригнувшись, чтобы не задеть головой за перекладину, въехал во двор, бросил поводья подбежавшему Белову, натянувшему на себя лохматый нагольный полушубок.
– А это кто такой?! – спросил у Бычкова Линь. – Вроде бы раньше у тебя такого работника не было.
– Раньше не было, а сейчас есть. Я решил строить новый дом и взял кое-кого к себе на работу. Разве ты не слышал об этом?
– Слышал. – Желтолицый Линь закряхтел, слезая с коня, скосил губы в деланно-горькой усмешке. – Вон ты какой, оказывается, Ефим. А еще другом называешься. Разбогател… Хоромы новые собрался ставить, дочь замуж выдаешь, праздник всей деревне решил устроить, а близкого друга своего обходишь стороной. Обидно это, Ефим, очень обидно. – Желтолицый Линь осуждающе покачал головой.
Белов отвел его лошадь в сторону, повод привязал к длинной, гладко вытертой перекладине коновязи, расстегнул шейный ремень, освобождая уздечку. Лошадь выплюнула шенкеля и оскалила крупные желтые зубы, словно бы понимающе улыбнувшись Белову, тот похлопал ее по морде и скрылся в конюшне.
Все, что надо было узнать, он узнал. Пересчитал хунгузов, въехавших вслед за Желтолицым Линем во двор. Двенадцать человек. Многовато, однако, будет. Но ничего страшного – одолевали в стычках и не столько врагов – справлялись с перевесом куда большим. Разглядел Белов и оружие, что имелось у хунгузов. Вооружение у них было слабенькое, они брали злостью да жестокостью.
– Прошу дорогого гостя пожаловать в дом, – манерно пригласил Линя староста, ухватил его под локоток, согнулся в подобострастном поклоне. – Ты на меня, Линь, не сетуй, не обижайся…
– Это я решу, когда побываю у тебя в доме, – сказал Линь.
– Прошу, прошу… – Староста продолжал подобострастно держать Линя под локоток.
Желтолицый Линь уверенно прошел в дом, сбросил на лавку малахай, расстегнул лисью доху. Неожиданно лицо его подобралось, сделалось жестким, он настороженно оглядел горницу.
Ефим Бычков тем временем проворно выставил на стол бутылку монопольки и блюдо с жареной кровяной колбасой.
– Я тебя, Линь, не обижу.
– Ладно, ладно, – Линь махнул рукой, – если я с тебя обычно брал пятнадцать золотых рублей в месяц и никого в твоей деревне не трогал, то сейчас возьму два раза по пятнадцать.
– Ох, Линь! – староста вздохнул горестно. – Ты хочешь совсем разорить меня. – Он вздохнул вновь. – Выпей для начала стопку, потом другую, закуси, и тогда мы будем решать вопрос о ясаке.
– Думаешь, я добрее стану?
– А вдруг?
– Не стану.
– Тогда я попробую уговорить тебя.
– Не уговоришь, – Желтолицый Линь усмехнулся, – мне деньги очень нужны.
Семенов находился в соседней комнате, отсюда весь разговор был слышен хорошо, и даже если Линь будет вести его шепотом, услышать можно все до последнего словечка. Семенова допекали досада, злость, еще что-то незнакомое, сложное. На щеках заходили желваки, и он поднял револьвер, глянул в черное, пахнущее гарью дуло. Под ногой от неосторожного движения скрипнула половица, и он замер, превратившись в изваяние – как бы не услышал Желтолицый Линь… Но нет, пронесло.
Из своего укрытия Семенов вышел, когда Ефим Бычков прошаркал ногами в горницу и выложил перед Линем стопку золотых монет. Незваный гость засмеялся, придвинул монеты к себе.
– Цени мою доброту, Ефим, я беру с тебя очень мало денег, – сказал Линь. – Другие так не поступают. – Он будто отщипнул от стопки одну монету, звонко щелкнул ею о стол. – Р-раз! – Отщипнул вторую монету, также звонко, будто взводил курок револьвера, щелкнул ею о стол. – Два! – Отщипнул третью…
Желтолицый Линь увлекся – такое дело, как пересчитывание золотых монет, радовало его душу – увлекся и не услышал, что в соседней комнате несколько раз тяжело прогнулись половицы, потом скрипнула форточка – это Семенов подал сигнал Белову, – через минуту занавеска, прикрывавшая вход в соседнюю комнату, раздвинулась, и в горнице появился казак в офицерской форме.
Желтолицый Линь вздрогнул, щеки у него обвисли, и нездоровая лимонная желтизна сменилась всполошенным серым цветом, в глазах мелькнул страх, и Линь, визгнув, шваркнул ладонью левой руки по столу, сгребая монеты, но не сгреб, а только рассыпал, правой рукой схватился за кобуру револьвера.
Семенов, перегнувшись через стол, что было силы ткнул его кулаком в лицо, Линь взмахнул руками и тяжело плюхнулся на лавку. За окном послышался шум, раздался выстрел, за первым выстрелом, в унисон, – второй.
Линь беспомощно глянул на окно, приподнялся на скамейке, Семенов вновь с силой ткнул его кулаком в лицо – попал в глаз – и рявкнул железным голосом:
– Сидеть! – Затем, чтобы Желтолицый Линь больше не дергался, ткнул ему под нос револьверное дуло. – Ты это видел? Если еще раз дернешься – голову тебе укорочу ровно наполовину. Понял? – Содрал с него кобуру с оружием.
Желтолицый Линь обессиленно просел в теле, всхлипнул жалобно, разом становясь обыкновенным обиженным пареньком, папиным сынком, его сальная косичка на его голове скрючилась в жалкий щенячий хвостик. Под глазом у Линя начал быстро наливаться темным фиолетовым цветом синяк.
Во дворе раздался еще один выстрел, затем топот ног и следом – новый винтовочный хлопок. Топот угас – бежавший замер на месте, будто его по колени вкопали в землю. Семенов продолжал спокойно поигрывать револьвером. Желтолицый Линь сделался еще меньше – сжался до размеров карлика, его нижняя челюсть, украшенная жидкой бороденкой, затряслась.
– Меня расстреляют? – жалобно спросил он у Семенова.
– Кому ты, такой дурак, нужен? – пробасил тот в ответ, усмехнулся – понимал, что происходит на душе у Линя, подумав немного, добавил: – Хотя, будь моя воля, я расстрелял бы. И голову твою, насаженную на кол, отправил бы отцу – пусть любуется, какого отпрыска произвел на свет. И весть о тебе, дураке, разнесется по всему Китаю, так что другой разбойник, такой же нахрапистый, как и ты, тысячу раз подумает, соваться в Россию или нет.
Семенов поднял револьвер, прицелился Линю точно в лоб и взвел курок. Желтолицый Линь замер, в глазах его заметался страх, он прошептал жалобно, давясь воздухом, собственным языком, еще чем-то:
– Не на-адо!
– Надо! – жестко проговорил Семенов и, придерживая рифленую пяточку курка большим пальцем, медленно спустил его. Выстрела не последовало. – Эх, была бы моя воля, – мечтательно произнес он, покрутил головой. – М-м-м…
– Не надо!
Через несколько минут в комнате появился Белов. Ловко вскинул руку к папахе:
– Все в порядке, ваше благородие! Двое оказали сопротивление, поэтому пришлось их… – Белов выразительно посмотрел вверх, на широкую, коричневую от времени матицу потолка, потыкал в нее пальцем, – …в общем, отбыли господа разбойники в дальнюю дорогу…
– У нас потери есть?
– Нет.
Семенов попросил у Ефима Бычкова трое саней, связал хунгузов попарно, чтобы не смогли убежать, и погрузил их на сани.
Так, караваном, казаки и отбыли в Гродеково.
Первый Нерчинский полк был разбросан по всей Приморской области, в Гродеково располагались только две казачьих сотни, штаб полка да учебная команда.
Привезя хунгузов на станцию и сдав их под стражу, Семенов неожиданно для себя подумал, что жизнь его все-таки сера, тяжела, ничего радостного в ней нет. По сравнению с Сучанами станция Гродеково была едва ли не городом, носила отпечаток некой романтичности и лоска, если хотите, и Семенов позавидовал тем, кто квартировал в Гродеково. Хотя и Гродеково, и Сучаны, и Никольск-Уссурийский, и Троицко-Савск были обыкновенными провинциальными дырами.
Но ведь и среди дыр бывают различия. Есть дыры получше, есть дыры похуже.
Весной 1914 года сотник Григорий Семенов получил новое назначение – стал начальником полковой учебной команды. Конечно же должность эта – не бог весть что, одна из самых неприметных в казачьем полку, но сотник обрадовался ей несказанно: она была самостоятельной, не надо было каждый день докладываться есаулу, куда ты пошел, зачем пошел, что собираешься делать – начальник учебной команды подчинялся только командиру полка.
Новая должность пришлась сотнику по душе. Но пробыл он в ней недолго – надвинулся печальный август 1914 года[3].
Государь объявил всеобщую мобилизацию.
Вскоре многие полки, находящиеся в Восточной Сибири, покинули свои казармы, погрузились в эшелоны и отбыли на запад, а Первый Нерчинский словно бы завис, оставшись в Приморской области.
Семенов занервничал – ему не терпелось попасть на фронт: казалось, что война вот-вот закончится, она будет стремительной и на долю молодого сотника ничего не достанется… И верно ведь, близкие родственники[4] – российский государь Николай Александрович и кайзер Вилли – одумаются и хлопнут по рукам (чего им воевать, родные души все же, семейное окружение им этого простит), и тогда молотить немцев будет неудобно. Но не тут-то было – чем дальше, тем больше пахло мировой бойней.
Нервничать пришлось недолго – во второй половине августа семеновский полк был погружен в эшелон и отправлен на запад. Маршрут движения был известен только до Тулы, там надлежало получить приказ, куда следовать дальше.
Тулу эшелон проскочил не останавливаясь – казакам в городе оружейников нечего было делать – и через сутки прибыл в Белокаменную. Стояла середина сентября – золотая пора.
В Москве эшелон остановился ранним туманным утром у запасного перрона, наспех сколоченного из толстых досок. Дома сытой купеческой столицы показались казакам серыми, угрюмыми, чужими – от той приподнятости, о которой впоследствии с таким воодушевлением написал Семенов, не осталось и следа. Казаки, почувствовав себя в Москве чужими, невольно оробели: ловкие, сильные, бесстрашные в тайге, в степи, в песках, в горах, здесь, среди равнодушных каменных домов, они ощущали себя неуверенно, втягивали головы в плечи и немо, одними только глазами спрашивали друг у друга, куда же их завезли?
Семенов выяснил, что стоять в Москве они будут три дня, казаков можно будет повозить по Белокаменной – пусть полюбуются добротными домами, колокольнями, соборами, поглазеют на темную холодную реку, над которой нависли зубчатые стены Кремля, в Китай-городе поедят горячих блинов с икрой и покатаются на трамвае. По распоряжению властей московские трамваи будут возить казаков бесплатно. С шести часов утра до двенадцати ночи.
Получив эти сведения, Семенов подкрутил усы и вернулся из штабного вагона к своим казакам довольный:
– Ну что, мужики, тряхнем стариной, прокатимся по семи холмам, а? С одной горки на другую, а?
Казаки насупились:
– По каким таким семи холмам, ваше благородие?
– Это так говорят… Тут так принято. Москва стоит на семи холмах. А с холма на холм ездит трамвай.
Казаки насупились еще больше.
– Что такое трамвай?
– Ну-у… – Семенов задумался, он сам не мог толком объяснить, что такое трамвай. – Это такая дура, которая ездит на железных колесах по железным рельсам.
– Вагон, что ли? На каком мы сюда приехали?
– Вагон, вагон. Только размером поменьше и скорость такую, как на железной дороге, не развивает.
– Не-а, господин сотник, не поедем мы в город.
– Вагон мы уже видели, на зуб пробовали… Лошади его боятся.
– Да при чем здесь лошади! Церкви зато не видели. Церкви московские посмотреть надо обязательно.
– Церковь у нас в Гродеково есть…
– Таких церквей, как в Москве, нет.
– Есть, ваше благородие. – Казаки ожесточенно трясли лохматыми папахами и отказывались покинуть железнодорожный тупик, куда после целования московской земли на деревянном перроне загнали воинский эшелон.
– Ну и… – Семенов ожесточенно рубанул воздух рукой. Он не знал, что сказать. – Больше такой возможности не будет. Впереди – фронт, война, пули. Тьфу! Не ожидал от вас, казаки!
Казаки из-под папах угрюмо поглядывали на сотника и молчали. Над Москвой плыл серый печальный туман, пахло горелым углем, улицы были пустынны, недалеко от вокзала звонил колокол – в небольшой церквушке отпевали купца второй гильдии, почившего от чрезмерной борьбы с алкоголем.
В конце концов Семенову удалось сколотить группу из двенадцати человек.
– Нельзя уехать из Москвы, не постучав каблуками по здешним мостовым, – поучал он казаков, – мы ведь потом сами себе этого не простим.
Когда большой, странно тихой гурьбой забрались в страшноватый красный вагон московского трамвая, Семенов, хоть и знал, что казаков велено на трамвае возить бесплатно, оробел, подергал усами и полез в карман шароваров за серебряным двугривенным, чтобы расплатиться, но кондуктор – седенький вежливый старичок в форменной фуражке – предупреждающе поднял руку и примял ладонью воздух, будто вату:
– С защитников отечества денег не берем.
Семенову стало приятно, он улыбнулся и опустил двугривенный обратно в карман, улыбнулся повторно – никогда так много не улыбался, произнес приторно-благодарным тоном:
– Благодарствую!
В следующий миг он поймал себя на неестественной приторности и сделал внезапное открытие: ведь он и слова «благодарствую» никогда раньше не произносил – чужое оно для него… Неужто так Москва действует на постороннего, не привыкшего к ней человека?
Неожиданно Семенову захотелось взять старика за форменную пуговицу ветхой черной шинели, притянуть к себе, дохнуть в лицо недавно съеденным в вагоне чесноком: «Если вздумаешь издеваться над казаками, старый хрыч, то будь поаккуратнее на поворотах… Не то задницу отвинтим быстро, отвалится вместе с ногами, галоши не на чем будет носить», но вместо этого он проговорил прежним приторным тоном, вежливо, сам себя не узнавая:
– Не подскажите ли, любезнейший, куда нам можно пойти-податься?
– Отчего же, – благодушно похмыкал в кулак старичок, – советую сходить в цирк Соломонского на Цветном бульваре, там выступают русские богатыри Поддубный, Шемякин, Вахтуров. Очень красиво борются. Особенно Иван Поддубный. Борьбу, к слову, можно посмотреть – ежели, конечно, есть желание – и в «Аквариуме», у братьев Никитиных – там борются остзейцы Лурих и Аберг, но этих господ надо ловить за руку – много красивых приемов, ловких подсечек, хлестких ударов, а на самом деле – туфта. Пшик. Кроме того, Аберг любит поиздеваться над противником: засунет голову себе под мышку и начинает давить, будто жеребец – ждет, когда у того треснет череп.
Семенову это показалось интересно.
– И были случаи, когда череп трескался? – спросил он.
– Бывало и такое. Недавно пострадал борец по фамилии Куренков.
– Мне эта фамилия ничего не говорит.
– Он известен мало и теперь вряд ли когда станет известным. Что еще… Советую послушать несравненную Анастасию Вяльцеву, ежели не слышали.
– Но Вяльцева[5] же умерла… Год назад. Я читал в газетах.
Вовремя, к месту вспомнил это Семенов. Он еще год назад читал поразившую его статью о том, что великая Вяльцева, в которую был влюблен весь гвардейский Петербург и которая в конце концов вышла замуж за гвардейского офицера, умерла после гастролей в каком-то заштатном Курске… Курск – это ведь чуть больше Гродеково.
– Да, та Вяльцева действительно умерла, но появилась новая, – старичок улыбнулся как-то смущенно, браконьерски, словно был причастен к появлению Вяльцевой номер два, – голос у нее точно такой же, как и у Анастасии Дмитриевны, один к одному. А в остальном… в остальном девушка не мудрствовала лукаво и взяла себе фамилию и имя этой известной певицы.
– Не мудрствовала, значит, говорите, – Семенов почувствовал вдруг, что ему хочется выругаться, – а я-то обрадовался, думал, та Вяльцева не умерла, выжила… Уж очень ее голос хорош на граммофонных пластинках.
– Эта будет не хуже – тот же голос, та же улыбка. Тот же репертуар. «Под чарующей лаской твоею», «Дай, милый друг, руку», «Гай да тройка!» и так далее. Удивитесь, когда услышите. Очень советую сходить.
– А пластинки ее продаются? На граммофоне нельзя послушать?
– Э-э-э, молодой человек, слушать Вяльцеву на пластинке, – старик негодующе поднял указательный палец, – что одну Вяльцеву, что другую – это все равно, что видеть виноград и не есть его. Слушать таких певиц надо живьем.
Кондуктор так и произнес: «живьем». Слово это показалось Семенову вещим, а смысл – значительным. Он оглядел своих притихших спутников в огромных лохматых папахах, надвинутых на самые глаза, и понял, что они ничего не разобрали из того, что говорил кондуктор – многие из них по-русски вообще не разумели, многие знали не более десяти слов и даже общепринятые воинские команды понимали лишь, когда Семенов подавал их на языке халха или агинцев. Сотник жестом остановил кондуктора и на монгольском начал пересказывать спутникам то, что услышал от говорливого седенького старичка.
Неожиданно весь вагон развернулся в сторону казаков – произошло это слаженно, в одно движение, общее, будто бы по чьему-то приказу, – и начал внимательно рассматривать их. Забайкальцы, и без того маленькие, неказистые, кривоногие, крупноголовые, и вовсе уменьшились, сжались, словно грибы после сушки. У Семенова нервно задергались усы: если его товарищи не нравятся этим московским кашеедам, то… то сотник Семенов найдет способ, чтобы казаки им понравились. А с другой стороны, что он может сделать с ироничными востроглазыми москвичами, скорыми и на слова, и на поступки? Да ничего, собственно. Семенов поник, плечи у него опустились сами собою.
Однако в глазах старого кондуктора, во взглядах москвичей, повернувшихся к казакам, не было ни иронии, ни насмешки, ни издевки – только доброжелательное любопытство.
Со скамейки неожиданно соскочила гимназистка в приталенном длинном пальто, сделала книксен:
– Садитесь, господин офицер!
– Благодарствую, – вновь произнес Семенов непривычное слово и энергично помотал головой – еще не хватало, чтобы его как инвалида усаживали на скамеечку.
– Садитесь, пожалуйста!
– Нет.
– Это что, японцы? – неожиданно спросила гимназистка и повела глазами в сторону спутников Семенова, затем, не дожидаясь ответа, задала второй вопрос: – Долго добирались до Москвы?
– Добирались тридцать три дня, – спокойно ответил Семенов, но на этом его спокойствие закончилось, он вновь почувствовал тревогу, усы у него нервно задергались, в голосе появились хриплые нотки. – И это не японцы, а подданные государя российского императора агинские казаки. Иначе говоря, буряты.
– Буря-яты? – На красивом лице гимназистки нарисовалось изумление.
– Так точно, сударыня. Буряты-агинцы. Разве вы никогда не слышали о таких?
– Мне всегда казалось, что буряты и монголы – это одно и то же.
– Не совсем. Монголы – это даргинцы, а буряты – агинцы. Честь имею, мадемуазель! – Семенов лихо козырнул и, не желая больше продолжать разговор с юной особой, вывел казаков из трамвайного вагона.
Но, как известно, в природе существует закон парности случаев: всякая история, даже самая маленькая, имеет свойство повторяться.
Смотреть на прославленных русских борцов не поехали – отправились в Кремль. В Кремле Семенов приосанился: вспомнил занятия в казачьем училище в Оренбурге, часы, проведенные в кабинете истории Российской империи, и стал объяснять агинцам на их родном языке, что такое Москва и Кремль в ней. Объяснял, конечно, как мог – слишком многое он уже забыл – кое-где вообще перевирал факты и даты, ловил себя на этом, но не поправлялся. Это самое последнее дело – поправляться перед подчиненными, враз потеряешь авторитет.
«В это время вблизи нас оказались две дамы и мужчина, – вспоминал впоследствии Семенов в своей книге “О себе”, описывая кремлевскую экскурсию. – Они усиленно прислушивались к нашему разговору и, конечно, ничего не могли понять. Вдруг мужчина обращается, долго ли мы находились в пути и не устали после длинности дороги?»
Сотник Семенов поправил кончиком мизинца усы и начал рассказывать, как они тридцать три дня тряслись в дырявых жестких теплушках, что видели и вообще, какова Сибирь первого месяца войны. Мужчина и его спутницы внимательно слушали. Затем, как отметил Семенов, обе дамы «начали с чувством глубокого участия говорить много приятного по нашему адресу».
Семенов понял, что их вновь, как и в трамвае, приняли за японцев, одетых в русскую форму. В нем опять возникло что-то злое, секущее, он был готов наговорить резкостей, но сдержал себя.
«Когда я пытался разубедить их в этом и сказал, что мы – забайкальские казаки, то одна из дам возразила, что, возможно, офицеры действительно русские, но солдаты, без сомнения, иностранцы, так как она слышала наш нерусский разговор. Они уверяли меня в своей благонадежности и указали, что я напрасно скрываю обстоятельство, всем известное, о том, что идут японцы. Я не сомневаюсь, что многие жители Европейской России принимали нас за японцев, и, возможно, агенты противника не раз искренне вводили в заблуждение свои штабы несоответствующими истине донесениями».
Мужчина неверяще помотал одной рукой.
– Вы, господин офицер, скрываете правду, – заявил он. Лицо его от волнения аж пошло пятнами. – Но представьте себе, как мы благодарны нашим восточным соседям за то, что они пришли России на помощь…
Разошлись, недовольные тем, что не поняли друг друга.
Через три дня эшелон с забайкальскими казаками отправился на фронт, в Польшу, остановился недалеко от Варшавы, в местечке, о котором Семенов никогда не слышал, – в Ново-Георгиевске.
Казаки сразу поняли, что сотник Семенов умеет воевать. Он словно был рожден для войны. А главное – с ним в атаку идти было нестрашно – Семенов принадлежал к тем командирам, которые никогда не бросают своих подчиненных на произвол судьбы и тем более не оставляют их в беде.
В глазах у сотника при виде противника появлялась некая хмельная веселость, губы раздвигались в победной улыбке, усы вспушивались, будто у зверя, почувствовавшего добычу, и он мог не задумываясь в одиночку кинуться на десяток немцев сразу.
Лошади у казаков были в основном степной породы – забайкалки. Невысокие, гривастые, со звероватым оскалом крупных зубов и налитыми кровью глазами. В бою они вели себя отменно, не боялись ни стрельбы, ни взрывов, смело шли грудью на прусских широкозадых битюгов[6], норовили сбить их с ног, хрипели, грызли зубами, вставали на дыбы, в любой миг были готовы нанести всякому зазевавшемуся германскому лошаку удар копытами по храпу – немецкие лошади свирепых забайкалок побаивались, шарахались от них, отказывались слушаться всадника, разворачивались на сто восемьдесят градусов, норовя удрать домой…
Одно было плохо у забайкалок: они уступали прочим лошадям в скорости. У Семенова же под седлом ходил чистопородный конь, очень выносливый, быстрый – сотник часто отрывался от казаков, а в атаке оторваться от своих и остаться без прикрытия – штука опасная, может плохо кончиться. Так запросто можно въехать в плен. Но Семенов этого не боялся.
Полтора месяца бригада, в составе которой находился Первый Нерчинский полк, воевала под Варшавой, действуя успешно, потом переместилась к городу Ново Място.
Девятого ноября 1914 года сотник Семенов ваял с собою пятнадцать казаков и отправился с ними в разведку, за линию фронта.
Задача у Семенова была усложненная: надо было не просто произвести разведку, тихо прийти и, собрав сведения, тихо уйти, а шквальным ветром налететь на немцев в районе Остатние Гроши, где были замечены некие тактические перемещения войск, в коротком жестоком бою выяснить, сколько же у германцев сил и где располагаются огневые точки, и попытаться живыми вернуться назад.
Ноябрь в Польше выдался слякотный, земля разбухла от дождей, сделалась угольно черной, какой-то неприятной, червивой – из-под копыт забайкалок вместе с сырыми ошмотьями земли во все стороны, будто лапша, летели жирные дождевые черви. Лошади шарахались от них, оскользались, от мокрых шкур шел пар, лица казаков были сосредоточены и бесстрастны.
По пути попалась фура с понурым немцем, наряженным в шинель-большемерку, горбом собравшуюся у него на спине. Семенов с гиканьем устремился к нему, на скаку вытягивая из ножен шашку. Немец вскинулся в фуре, защищаясь от удара руками. Семенов рубанул прямо по рукам, перебил их клинком – отхваченные кисти рук, брызгаясь кровью, с мягким стуком шлепнулись в фуру; немец завизжал, в следующий миг жалобный визг его обрезала шашка, развалившая пополам голову. Из раскрытого, словно бутон, черепа под копыта семеновского коня посыпался крупитчатый розовый мозг.
Разведка, не задерживаясь, поскакала дальше.
Через сорок минут спешились в небольшом сыром лесочке. На макушках елей висели неряшливые клочья тумана, будто куски серой мокрой ваты, с веток капала холодная влага, по-синичьи тенькала, всаживаясь в землю; если такая капля попадала за воротник, то пробивала холодом до самого крестца. Казаки невольно ежились.
Мимо леска проходила проселочная дорога с двумя обледенелыми колеями, совершенно пустынная, невдалеке были видны немецкие окопы со свеженасыпанными желтовато-черными брустверами. Чтобы хоть как-то замаскировать эти слишком бесстыдно обнаженные брустверы, немцы накидали на насыпь сушняка, сохлой травы, длинных кудрявых веток, бурьяна, кое-где даже вдавили в землю серую, содранную с крыш черепицу, листов пятнадцать, не меньше. Семенов, стоя с биноклем под елью, минут двадцать обследовал окопы.
Было понятно, что немцы приготовились оставить линию фронта, отступить и после броска в собственный тыл нырнуть в эти окопы.
Слева, в таком же сыром лесочке, Семенов обнаружил несколько артиллерийских фур, окрашенных в защитный цвет, загруженных длинными деревянными ящиками, в которых перевозили артиллерийские снаряды.
Самих пушек не было видно – их либо закатили в глубину леса, либо еще не успели подтянуть. Семенов сделал на карте несколько пометок.
За окопами, примерно в сотне метров, виднелись дома – деревянные, бедные, с высокими темными крышами и ровными редкими заборами. «Интересно, где же немаки взяли черепицу? – возник в мозгу невольный вопрос. – В селе нет ни одной черепичной крыши. Если только где-нибудь в глубине села завалили кирху? Вряд ли». Семенов провел линзами по домам. Пусто. Тихо. На улицах ни одного человека.
«Вот мокрицы, – у Семенова задергался ус, – попрятались по норам. Чуют многоножки, что будет большая молотилка». Неожиданно сотник увидел стремительно пересекшего деревенскую улицу человека, одетого в полевую егерскую форму, – тот вышел из-за одной ограды и поспешно нырнул за другую.
Семенов внимательно изучил палисадник, в который нырнул егерь. Никаких бросающихся в глаза примет. Даже намека нет на то, что там могут находиться военные, и все же вскоре сотник обнаружил полевую кухню, спрятанную под двумя яблонями. Точно такую же кухню Семенов нащупал биноклем и в том дворе, откуда выскочил егерь, – кухня была спрятана за сараем и, чтобы она не была видна с воздуха, с русских аэропланов, затянута сверху старой рыбачьей сетью.
Две полевых кухни в одном селе – это уже что-то, кухни наводили на кое-какие мысли. В Остатних Грошах стояла воинская часть.
– По коням! – скомандовал сотник.
Казаки поспешно позабирались на лошадей.
– Ну что, братцы, есть желание посмотреть, кто в этой деревне живет?
– Как скажете, ваше благородие, так и будет.
– Как скажу… – Семенов хрипловато засмеялся, лицо его сделалось хищным, – так и скажу. За мной!
Он первым вынесся из леска и наметом пошел по проселку в сторону деревни. На скаку – это движение стало у него уже привычным, рукоять клинка словно бы сама припечатывалась к ладони, к пальцам, – вытянул шашку из ножен.
В деревню они ворвались вихрем. Сотник гигикнул, боевой клич этот подхватили казаки – тоже загигикали, заулюлюкали, засвистели, лошади-забайкалки заплевались пеной, захрипели злобно.
На улицу вывалилось несколько немцев в егерской форме – егерей, похоже, здесь было не менее батальона, – один из них пальнул в сотника из винтовки, но промахнулся, пуля просвистела у Семенова над самой папахой, подпалив на ней несколько скруток шерсти; сотник, словно почувствовав горячий свинец, вовремя пригнулся – во второй раз солдат выстрелить не успел, Семенов рубанул его шашкой по шее, снеся голову, будто кочан капусты, и немец, выпустив из рук винтовку, завалился на спину… Второго егеря, слишком близко оказавшегося около всадника, Семенов проткнул острием шашки, словно штыком.
Несмотря на азарт атаки, от острого глаза Семенова не ускользнуло ничто – ни две штабные машины, стоявшие во дворе широкостенного, по-купечески вольно расположившегося на земле дома, ни одинокая гаубица, нашедшая себе место во дворе следующего дома, под прикрытием высоких, блестящих от влаги слив, ни повозка, в которой на треноге был установлен пулемет, ни грузовики, накрытые брезентом.
Все это Семенов засекал на скаку, увиденное прочно отпечатывалось у него в мозгу.
Кто-то из казаков, скакавших сзади, бросил в машины гранату. Раздался взрыв. Следом грохнул еще один взрыв.
Сотник метнулся на коне в сторону, перемахнул через низкую плетеную изгородь и бросил гранату в повозку, на которой стоял тупорылый, с блестящим язычком дула, высовывавшимся из кожуха, пулемет.
Взрыв расколол воздух, когда Семенов был уже далеко, под осколки попал один из немцев, сотник лишь услышал далекий, словно принесшийся из преисподней вскрик…
Деревню проскочили на скорости, погони за казаками не было – слишком стремительной получилась эта атака, на обычную атаку не похожая, а за ветром, как известно, угнаться непросто, – нырнули в ближайший, темный от осенней мокрети лесок. Леса здесь растут, как грибы – семьями, с замусоренными опушками, круглые, густые, в солнечную пору очень приветливые, в смурную – угрюмые, с темной лещачьей порослью колючих кустов, плотно обложивших стволы. Из-под копыт семеновского коня неожиданно выскочил заяц, метнулся в сторону. Казаки заулюлюкали.
– Как бы косой не обмокрился от страха.
– Здешние косые – боевые мужики, такие пустяки, как казацкие кони, их не пугают, – больше всех балагурил Белов.
Агинцы, еще месяц назад требовавшие себе переводчика, научились немного разуметь по-русски, и не только разуметь, но и говорить.
– Шпрехайте, шпрехайте больше – людьми будете, – втолковывал им Белов, – научитесь говорить по-русски, потом будете учиться шпрехать по-немецки…
И агинцы старались.
Семенов выставил дозор из трех человек, остальным велел спешиться. Через двадцать минут он отправил в полк двух казаков с донесением о том, что он обнаружил в Остатних Грошах, сам же решил еще немного побыть в немецком тылу.
Больше часа простоял Семенов с казаками в круглом, будто краюха хлеба, лесочке, ожидая, что кто-то вдруг появится на пустынной дороге, украшенной двумя длинными блестящими полосками льда – тележный след на проселке обледенел и выделялся очень заметно, – но дорога была удручающе пуста. Видимо, налет казаков на Остатние Гроши испугал немцев.
– Отходим, – негромко произнес Семенов, садясь на коня.
Кони были накормлены, казаки перевели дух, перекурили и перекусили. Пора было двигаться дальше.
В тот день Семенов совершил еще один налет на небольшую немецкую часть, вздумавшую расположиться на отдых в глухом, с высокими закраинами, хорошо защищающими от ветра овражке. В коротком бою сотник зарубил немца, пытавшегося развернуть против казаков пулемет и дать очередь, захватил в плен штабного велосипедиста с перекинутой через плечо кожаной сумкой, – затем казаки ветром пронеслись по улицам двух заштатных польских деревенек, но немцев там не обнаружили и на ночлег расположились в лесу.
На большой поляне, плотно прикрытой деревьями, развели костер, на рогульках подвесили несколько котелков – надо было хотя бы раз в сутки поесть горячего, потом, выставив часовых, забылись в коротком сне. Ночью было холодно. Спали в бурках. Иногда кто-нибудь примерзал к земле, к веткам, к полегшей траве, и его приходилось отдирать вместе с буркой. Казаки ругались. Семенов успокаивал их.
– Настоящий солдат должен познать все – и мороз, и жару, а уж по части, где переспать, должен пройти все огни и воды.
– Уж лучше решать вопрос, с кем переспать, а не где, ваше благородие. – Это был Белов, такие шуточки мог отпускать только он.
Белов дробно, по-синичьи, рассмеялся.
Сотник неопределенно мотнул головой – не понять, поддерживает он Белова или нет, хотя глаза у него на мгновение сделались жесткими. Впрочем, на поверхность ничего не выплыло, сотник сдержал себя – язык ведь без костей, что хочет, то и мелет, – и произнес добродушным тоном:
– И такое в нашей жизни обязательно будет. Доживем и до этого.
– Доживем до понедельника, ваше благородие, а там, глядишь, хлеб подешевеет, – пробормотал Белов угасающим голосом, натянул на голову бурку и уснул.
Утром снова начали месить мерзлую грязь на тыловых дорогах, но безуспешно – то ли немцы успели предупредить своих о шальных казаках, прочесывающих тылы, то ли произошло еще что-то, Семенов, покрякав от досады, подкрутил усы и решил возвращаться в полк, всего несколько дней назад осевший в Сахоцине – зеленом местечке, богатом цирульнями, плохим виноградным вином, голенастыми крутобедрыми девками и черствым хлебом, который местные пекари готовили с добавлением картошки и мелко смолотой кукурузы.
– Задание мы выполнили еще вчера, – справедливо рассудил Семенов, – пора и честь знать.
День прошел быстро, попасть в Сахоцин засветло не удалось, и Семенов решил заночевать в маленькой, черной, словно насквозь прокопченной дымом, измазанной сажей деревушке. Чумаза деревушка была настолько, что невольно думалось – а не живут ли тут ведьмы, у которых метлы работают на смеси дегтя с мазутом? До Сахоцина осталось идти совсем немного – пятнадцать верст, но в темноте решили не рисковать, иначе кони останутся без ног.
Ночь хоть и была ветреной, темной, с низкими удушливыми облаками, а прошла спокойно, утро наступило серое, какое-то беспросветное, лишенное не только радости и броских красок, но даже свежего воздуха. Откуда-то издалека понизу полз вонючий, пахнущий незнакомой химией дым. Словно где-то горела фармацевтическая фабрика.
Было тихо. Только на западе, километрах в пяти от деревеньки, грохотало одинокое орудие, раз за разом посылая в невидимую цель снаряды. Семенов, приложив ладонь ковшом к уху, прислушался к орудийным ударам: наша пушка или немецкая?
Определял он это по неким неведомым приметам, и когда у него спрашивали, в чем разгадка, лишь смеялся в ответ да произносил одну и ту же фразу:
– Не знаю.
Он действительно не знал, чем отличается звук немецкого орудия от нашенской лихой пальбы – выстрелы были похожи, будто близнецы, и в то же время какое-то различие между ними было, Семенов угадывал это различие интуитивно, на подсознательном уровне, но словами описать это не мог.
– Наше орудие лупит, – прислушавшись к далеким ударам, вынес вердикт сотник. – Только чего оно так далеко делает? Там же немцы.
– Может, пока мы мотались по разным Остатним Грошам, карта фронта перекроилась? – предположил Белов.
– Может, и перекроилась. – Семенов резким движением подтянул подпругу на седле и в ту же секунду ловко взлетел на коня. Скомандовал тихо, словно только для самого себя: – Уходим.
– А как же, ваше благородие, с завтраком быть? – спросил сотника казак с черными, блестящими, как у таежной птицы, глазами, теряющимися в длинных лохмах бараньей папахи. Фамилия его была Никифоров, в полк он прибыл из-под Хабаровска, из маленького железнодорожного городка под названием Алексеевск, имеющего узловое значение; городок так был назван в честь наследника престола[7], юного цесаревича. Семенов Никифорова приметил, как приметил и Белова: эти казаки, несмотря на некий мусор в голове, – надежные.
– Что, Никифоров, на яишню потянуло?
– Потянуло, – не стал скрывать тот.
– В Сахоцине твою яишню и съедим, – сказал Семенов.
Но позавтракать в Сахоцине не удалось. Едва подъехали к этому маленькому городку, украшенному высокими голыми тополями, как услышали длинную пулеметную очередь, за ней – несколько винтовочных хлопков. Сотник немедленно вздыбил коня, предупреждающе поднял руку:
– Стой, казаки!
Стрельба ему не понравилась. Казачий полк – это серьезная боевая единица, с которой не рискует связываться даже целая немецкая дивизия, и если кто-то позволил себе напасть на Сахоцин, то значит, напал крупными силами.
Раздалось еще несколько винтовочных хлопков. Кто может позволить себе стрельбу в городке, занятом казаками? Может, перепившие офицеры? Послышалось еще несколько выстрелов. Семенов вскинул к глазам бинокль – немецкий, снятый с убитого артиллерийского обер-лейтенанта; в России приличные военные бинокли не производили, и факт этот каждый раз, когда сотник брался за бинокль, рождал у него ощущение досады – не хотелось пользоваться немецким.
Сильные линзы позволили отчетливо видеть разбегающихся людей. Вот один бородатый солдат в обмотках лихо перемахнул через высокую изгородь из колючих кустов, вознесся над другой колючей грядой, но, подбитый пулей, упал на нее. Рука свесилась с жесткого куста, энергично заработала клешнястыми пальцами.
Это была агония. Бородатый солдат умирал.
«В городе немцы! – У Семенова от одной только этой мысли невольно зачесались кулаки. – Откуда они здесь?» Новость была неприятной. Пока казаки прочесывали немецкие тылы, германцы неплохо поработали в тылах наших.
Вот в окуляр попал всадник – из городка, отчаянно размахивая руками на скаку, несся одинокий казак. Вдогонку ему хлобыстнула винтовка. Потом ударила еще раз. Семенов выругался и ударил коня плеткой, тот, бедняга, едва не застонал от боли. Сотник пришпорил его и понесся навстречу одинокому всаднику – показалось, что за ним сейчас устремится погоня и ее надо будет отсечь. Но погони не было.
Увидев впереди казачий разъезд, всадник свернул к нему. Сотник вновь вскинул бинокль, чтобы получше разглядеть этого расхристанного, без фуражки и пояса, человека и невольно вздрогнул – это был его собственный денщик Чупров. И конь, на котором скакал Чупров, был также хорошо знаком сотнику – это был его личный конь, чистокровный норовистый жеребец. Вряд ли этого коня могли догнать короткохвостые немецкие битюги.
– Стой, Чупров! – издали закричал денщику сотник. – Стой!
Но Чупров ничего не слышал – ветер свистел у него в ушах, все забивал. Не доехав двадцати метров до казаков, Чупров остановился. Тяжело, боком, сполз с коня. Отер рукою пот с лица и едва слышно шевельнул губами:
– Слава богу, выбрался…
– Ну, Чупров, если ты испохабил копыта моему коню – берегись! – Семенов не выдержал, сжал руку в кулак.
Коня в отсутствие сотника должен был подковать полковой коваль, но не подковал – что-то, видимо, помешало…
– Бездельники! – Остывал Семенов быстро – так же быстро, как и загорался. – Чего там случилось, Чупров?
А у Чупрова уже дрожал от обиды рот.
– Извиняйте насчет коня, ваше благородие, и вообще извиняйте, ежели что не так… Но другой возможности вырваться из Сахоцина не было.
– Извиняйте, извиняйте, – проворчал Семенов по-стариковски, – скакал бы по пахоте – тогда другое дело, а тебя понесло на трамбовку.
– Иначе бы не ушел, Григорий Михайлович.
– Докладывай, что произошло, – потребовал сотник, остывая окончательно. – Где полк? Что за стрельба?
– Полк снялся еще вчера и ушел вышибать из-за реки «вильгельмов», а здесь… здесь остались только два обоза, – Чупров провел рукой по лицу, увидел на пальцах кровь – у него была разбита верхняя губа, – два обоза, значит, да штабные фуры… Воевать некому.
– Немцев много?
– Около полка примерно.
– Около полка или примерно?
– Примерно около полка, – тупо повторил Чупров. Он еще не отошел от скачки, от того, что пережил, – может быть, даже больше. Налетели внезапно, как вороны… Знаю еще, что два немецких эскадрона спешились.
– Где?
– Да у церкви ихней, у этой… как ее? Ну, на «цырлих-манирлих» слово похоже. С буквой «пе».
– У кирхи, что ли?
– Во-во. С буквой «хэ». Заставу из «вильгельмов» выставили, – Чупров упорно называл немцев «вильгельмами». Все называли по-разному – «гансами», «фрицами», «адиками», выбирая слово поудобнее для языка, а Чупров называл «вильгельмами» – словно в недобрую память о ненавистном кайзере, не в честь, а в память, – и что еще плохо…
– А почему стрельба такая редкая? – перебил денщика Семенов.
– Это немцы по разбежавшимся обозникам пуляют, в каждого в отдельности. И что еще плохо, я говорю, ваше благородие, они знамя нашенское в плен захватили.
– Ма-ать честная! – Сотник невольно присвистнул, лицо его исказилось, и он привычно поднял коня на дыбки, выкрикнул резко, со слезой, будто сорока, в которую угодил заряд дроби. – Братцы, это что же такое делается? Немцы захватили наше знамя! – Лицо у сотника обузилось, сделалось хищным, незнакомым. Семенов вытянул из ножен шашку, с лязганьем загнал ее обратно. – За мной!
Это была отчаянная атака.
Ну что, казалось бы, мог сделать десяток усталых, плохо выспавшихся всадников против немецкого конного полка или даже хотя бы двух спешившихся эскадронов? В городе, как потом выяснилось, было больше полка – четыре эскадрона…
Немцы готовились уйти из Сахоцина, но не успели. Два эскадрона сопровождали длинный неповоротливый обоз, двигавшийся с черепашьей скоростью. Чего только в этом обозе ни было – и четыре сейфа с важными штабными документами, и канцелярия Уссурийской конной бригады вместе со столами, замкнутыми на ключи, и целый ворох ценных казачьих бурок, присланных с Кубани, – их не успели раздать казакам, и семьдесят ящиков с заряженными пулеметными лентами и сами пулеметы – новенькие, с еще не стертой смазкой «максимы», тревожно вскинувшие к небу свои ровно обрубленные, похожие на поленья стволы, и горы офицерского обмундирования, загруженного в фуры с высокими бортами, и главное – знамя Первого Нерчинского казачьего полка – целая «штука»[8] тройного шелка, без которой полк не имел права на существование.
– За мной! – вновь громко прокричал Семенов.
Запоздало оглянулся, почувствовал, как боль стянула ему скулы, выругался матом – сзади скакал Чупров, не отставал от казаков. Семенов погрозил ему кулаком:
– Отзынь! Коня мне запорешь!
Чупров его не понял, продолжал скакать, и Семенов, покраснев от натуги, от азарта, от злости, от досады на ординарца, словно тот был во всем виноват, заорал что было мочи и врубился в кучу спешившихся немцев, полоснул одного шашкой по голове, потом с оттяжкой рубанул другого.
Среди немцев поднялась паника.
– Знамя! Где знамя? – прорычал Семенов, будто немцы понимали русскую речь и могли разобраться в его рычании, метнулся в сторону, легким ударом шашки перерубил кожаные поводья, соединявшие десяток задастых крепких битюгов, собранных вместе, которые с визгом унеслись кто куда. Немцы остались без лошадей.
– Где знамя? – вновь прорычал Семенов, устремляясь в освободившийся проулок.
Казаки, размахивая шапками, выкрикивая что-то азартное, ринулись за ним следом.
– Дас зинд казакен! – послышался испуганный крик.
– Казакен, казакен, – подтвердил Семенов, продолжая орудовать шашкой.
Через несколько минут он догнал последнюю подводу обоза – с высокими бортами, нагруженная офицерскими сапогами, обоз еще не успел уйти – ездовой, старый худой немец в роскошной каскетке, сияющей медью и лаковым обтягом кожи, сидел на скрипучем, пахнущем ворванью[9] верху, как на груде соломы, и шлепал вожжами лошадей.
Увидев Семенова, он взвизгнул надорванно, будто получил удар ногой в низ живота, в самое важное место, и стремительно соскользнул с пароконки[10] на оглоблю, похожую на длинный орудийный ствол, с нее спрыгнул в чистый, присыпанный песком кювет, откатился в сторону, прикрывая голову руками.
Сотник не стал стрелять: ездовые – самые безобидные люди среди врагов – как правило, немощные, убогие, скрюченные ревматизмом, разноногие, криворукие – их жалеть надо, а не убивать. А вот «вильгельмов», как величает этот народ Чупров, небрежно пошлепывающих своих битюгов ладошками, каждый раз стараясь дотянуться до жирного конского зада, – он сейчас здорово пощекочет шашкой.
– Аль-ле-лю-лю-лю! – зашелся в крике сотник, заводясь от этого крика сам, делаясь сильнее, злее, ловчее, привстал на стременах, прокрутил шашкой над головой «мельницу» – блестящий клинок работал, как пропеллер «ньюпора» – боевого самолета, находящегося на вооружении у русской авиации. – Аль-ле-лю-лю-лю!
Конь под Семеновым был хороший, как и все его кони, – мог носиться, словно ветер, у дончака даже шкура задрожала, пошла сыпью от крика хозяина; запасной конь, на котором сейчас скакал Чупров, был еще лучше.
Сотник перестал крутить шашкой «мельницу», рубанул клинком воздух – раздался жесткий свист, на который оглянулись сразу несколько немцев.
– Казакен! – вновь послышался заполошный крик, и немцы – целых два эскадрона, хорошо вооруженных, сытых – даже не достав клинки из ножен, бросились от казаков врассыпную.
Ездовые – как один похожие на убогого немца, слетевшего с горы офицерских сапог, – горохом посыпались со своих возов, стараясь слиться с каким-нибудь кустом, раствориться в сухой крапиве, обратиться в мышь, в таракана, лишь бы не видеть этих страшных казаков.
Сотник точно вычислил, в какай повозке находится знамя – оно лежало в новенькой двуколке, придавленное грудой штабных бумаг, – круто развернул коня и, словно дух, возникший из ничего, встал перед двуколкой.
Ездовой с вытаращенными глазами вскинулся в двуколке в полный рост и поднял руки.
– А ну, пошел вон отсюда! – зарычал на него Семенов, легким движением шашки обрезал постромки; освободившиеся лошади захрапели испуганно, а ездовой продолжал тянуть вверх руки. – Я же сказал – вон! – выкрикнул сотник, перепрыгивая в двуколку.
Похоже, только сейчас ездовой понял, как ему повезло: он всхлипнул благодарно и так, с поднятыми руками, и исчез. Не война, а чудеса какие-то. Человек может исчезать в одно мгновение.
Древко знамени торчало из-под синих папок, к которым были приклеены аккуратные белые этикетки с интендантским перечнем. Сотник небрежно сплюнул за борт двуколки, лицо у него исказилось, стало чужим, каким-то кошачьим, усы вспушились. Он выдернул знамя из-под папок. Прорычал недовольно, чувствуя, как у него подрагивает от возмущения подбородок:
– Развели тут бумаги, крысы штабные!
Штабистов Семенов, как и многие забайкальцы, особенно окопники, не любил – они казались ему слишком высокомерными, погруженными в дворянскую заумь, не способными держать шашку в руках… А что главное для солдата в пору войны? Колоть врага шашкой, будто колбасу, и подмазывать кипящим салом пятки, чтобы «колбаса» эта бежала быстрее. При встречах со штабными офицерами, даже со старшими по званию, Семенов холодно улыбался и отворачивался в сторону. Приветствовал их только тогда, когда этого невозможно было избежать.
Сотник перекинул знамя Белову:
– Держи!
Тот ловко поймал его, развернул; Семенов вновь вскочил в седло, увидел замешкавшегося немчика в новой, еще необмятой форме и решил захватить его в плен. У немчика неожиданно закапризничала лошадь – такое часто бывает, и всадник вместо того, чтобы огреть ее пару-тройку раз плеткой и быстро привести в чувство, начал с большезадой гнедой кобылой валандаться, уговаривать ее, успокаивающе хлопать ладонью по холке.
– Дур-рак! – прорычал Семенов, устремляясь наперерез к немчику.
– Немчик оглянулся на дробный топот копыт, вскрикнул надорванно, словно преследователь выстрелил в него, залопотал что-то, давясь словами, воздухом, собственной оторопью – на него даже противно глядеть было; в это время кобыла его, будто почувствовав опасность, рванула с места так, что в разные стороны полетели невесть откуда взявшиеся мокрые комья земли.
– Дур-рак! – вновь хрипло прорычал Семенов, который знал, что немчика этого все равно догонит и возьмет в плен.
Похоже одуревший неумеха этот добавил немцам паники: из-за домов на рысях выскочил целый эскадрон, увидел казаков и припустил лошадей от забайкальцев так, что на копытах лошадей только подковы засверкали, через несколько минут он смял другой эскадрон, шедший впереди. А ведь немцам ничего не стоило развернуться – хотя бы одному-двум десяткам человек – и тогда Семенов со своими людьми увяз бы в рубке…
Отовсюду неслись панические крики:
– Казакен!
А Семенов как выбрал себе одну цель – немчика-кавалериста, испуганно встряхивающегося в седле, – так и продолжал ее преследовать, скалил зубы, будто волк, и крутил около головы коня плетку, пугая его, и тот на скаку всхрипывал и старался отвернуть голову от плетки в сторону.
– Вр-решь, не уйдешь, – пробормотал Семенов угрожающе, глядя на спину немчика, обтянутую добротным форменным щабуром, утепленным меховой подкладкой, чтобы владельцу было не холодно рубать русских солдатиков, чтобы не застудился родимец, размахивая сабелькой во время исполнения своего воинского долга.
И вообще, все на этом немце сидело ладно, было специально подогнано, все – добротное, новенькое, необмятое, неспешно, с толком и умом сшитое – видно, на войну он пошел, как на некий праздничный променад, где могут повстречаться красивые девушки, на которых надо будет произвести неизгладимое впечатление.
Именно эта ухоженность немчика вызвала у Семенова приступ какой-то особой злости, он даже захрипел, на скаку загнал плетку за голенище сапога и опечатал конский бок ножнами шашки – не так это страшно коню, как если бы опечатал плеткой, но больно.
Сотник и не заметил, как остался один – скакал и скакал за немчиком, не видя, что происходит вокруг – увлекся, – и оторвался от своих спутников, верных забайкальцев. Но и от добычи своей, до которой оставалось всего ничего – рукой дотянуться, – Семенов не хотел отказываться, словно на этом упакованном в добротную амуницию немчике для него свет клином сошелся: сотник загадал: изловит пухлогубого глазастого вояку – и судьба воинская у него сложится так, как надо, не изловит – все пойдет наперекос.
Тугой встречный ветер свистел у Семенова в зубах, свистел по-настоящему, разбойно, немчик разбойный свист этот, похоже, слышал, корчился на лошадиной спине, стремясь сделаться ниже ростом, неприметнее, меньше, зыркал испуганно глазами назад, верещал что-то – похоже, призывал на подмогу, но куда там – его однополчане-одноэскадронники спасали собственные шкуры, скакали не оглядываясь.
Сотник сомкнул зубы. Свист исчез. А без свиста скакать как-то неинтересно, азарта того нет.
– Вр-решь, не уйдешь, – пробормотал сотник вновь, открывая рот. Свист возник опять.
Продолжалась эта странная скачка долго – минут семь, но Семенов заставил немчика уйти с накатанной грунтовой дороги в поле, где лошади увязали в мокрой фиолетовой земле, потом снова загнал на грунтовку – по ней все-таки легче было скакать. В конце концов сытый мерин под немчиком стал спотыкаться и всадник, испуганно вываливая из орбит крупные светлые глаза, остановился, поднял дрожащие, испачканные грязью руки. Сотник неторопливо засунул шашку в ножны, подъехал к немчику и сдернул с него, будто хомут через голову, перевязь с саблей в блестящих ножнах, проговорил тихо и устало:
– Все, отвоевался ты… Пукалку свою тоже сымай, – показал пальцем на карабин, о котором за все время погони немчик так и не вспомнил, – она тебе ни к чему…
Тут подоспели запыхавшиеся забайкальцы, дружно позадирали лохматые папахи:
– Н-ну, ваше благородие! Вы и даете!
– Чего? Чем недовольны? – Сотник недоуменно глянул на казаков: может, он действительно совершил проступок, требующий наказания?
– Всем довольны, – засмеялись казаки, – только отрываться от народа нельзя. Так и сгинуть можно.
– Бог не выдаст, свинья не съест, – привычно проговорил Семенов, потом понял, что сказанул не то, виновато наклонил голову: – Извиняйте, казаки! Повинную голову меч не сечет. Больше такого не будет. В горячке все произошло.
Казаки были настырны.
– Обещаете, ваше благородие?
– Обещаю, – твердо произнес Семенов.
Но обещание так и осталось обещанием: война – штука горячая, кровь вскипает в несколько секунд, а в бедовом потомке казаков из караула Куранжи Дурулгеевской станицы кровь вообще была на несколько градусов выше, чем у остальных казаков, поэтому Семенов и воевал так лихо, не оборачиваясь назад, не окружая себя большим количеством верных бойцов и не страхуя себя подмогой – исходил из момента, быстро принимал решение и старался бить наверняка. За эту безоглядность, ухарство, всегдашнюю готовность рисковать казаки его корили и одновременно любили.
– Принимайте оглоеда. – Семенов подтолкнул к казакам немчика, круглые водянистые глаза у того вновь едва не вывалились из орбит от страха. Он закричал слезливо:
– Найн, найн, найн!
– Никто тебя не тронет, дурак, ты в плену, – сказал ему Семенов, – значит, лежачий. А лежачих в России не бьют. Жалеют.
«Обозы всей нашей бригады и наше полковое знамя были отбиты и спасены, – написал впоследствии Семенов. – Всего было захвачено немцами и отбито мною свыше 150 обозных повозок: головные эшелоны артиллерийского парка 1-го конно-горного артиллерийского дивизиона и около 400 человек пленных, кроме того, наша бригада получила возможность закончить свою операцию по овладению Цехановым, который был занят нами.
По результатам это дело кажется маловероятным, и осуществление этого подвига разъездом в десять коней объясняется внезапностью налета, быстрым распространением паники среди противника, эффект которой завершил начатое, не требуя легендарного героизма от исполнителей. Мои потери в этом столкновении выразились в одной раненой лошади.
За описанное дело я получил орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, а казаки были награждены Георгиевскими крестами»[11].
Ну что ж, по делам и награды. А награды были достойными.
Прошло двадцать дней. Немцы начали вытеснять наши части из Восточной Пруссии – делали они это умело, жестко, и тогда русское командование решило: хватит немчуре наступать! Пора ворога остановить. Наметили ударить по Млаве – неприметному тихому городку, имевшему узловое значение – городок копной сидел на шоссе, по которому немцы подвозили в свои войска питание, боеприпасы, оружие, фураж.
Млаву надо было взять во что бы то ни стало. Поручили эту операцию Четвертой Туркестанской стрелковой дивизии. И дивизия увязла в боях. Германские позиции наши орудия рубили как хотели, только тряпки вперемежку с комьями земли взлетали к облакам, окопы после обработки огнем делались мелкими, как огородные грядки, казалось, в них ничего не должно сохраниться, но стоило подняться в атаку, как «грядки» эти оживали: немцы начинали вести огонь буквально из-под земли.
Обе стороны несли тяжелые потери, но оставались на своих позициях. После четырехдневных боев решено было подключить к операции казаков, точнее – Уссурийскую конную бригаду.
Штабом бригады командовал капитан Бранд – человек осторожный, который решил, что надо провести подробную разведку – затребовал от каждого полка по три разъезда разведчиков. В каждом разъезде – по десять коней.
В числе тех, кто был назначен в разъезд от Первого Нерчинского полка, был Семенов.
Бранд собрал начальников разъездов, объяснил, чего он ожидает от разведки, затем произнес:
– Самый трудный участок – шоссе, ведущее на Млаву, там все простреливается. Каждый человек виден как на ладони. Но на шоссе обязательно должен пойти один казачий разъезд. Какой именно?
Все молчали. Бранд покхекал в кулак и проговорил огорченно:
– Вот и я не знаю, какой. Поэтому поступим так: кто вытянет спичку с обломленной головкой, тот и пойдет на шоссе.
Бранд достал из кармана коробок со спичками, отсчитал девять штук, у одной отщипнул головку и крепко зажал пальцами всю щепоть.
– Тяните, господа!
Все прекрасно понимали – разъезд, который пойдет на шоссе, меньше всех имеет шансов вернуться. Сотник Семенов шагнул к начальнику штаба первым. На лице его под усами блуждала некая победная улыбка. Уж кто-кто, а он хорошо знал, что от судьбы не убежишь, и если человеку уготовано задохнуться в канаве посреди крапивного гнилья, то он никогда не умрет от пули.
– Браво, сотник! – похвалил решительность Семенова капитан.
В ответ сотник качнул головой, ухватился пальцами за одну из спичек – она была тонкая, ускользала из рук, огрубелыми пальцами трудно взять – Семенов сморщился, будто поднимал что-то тяжелое, и выдернул спичку из щепоти. У спички оказалась обломлена головка. Семенов поднял спичку повыше, чтобы ее видели все.
– Вот так со мною бывает всегда, – подкинул спичку, показывая ее начальникам разъездов, добавил с незнакомой едкостью: – Будет чем ковырять в зубах.
– Браво, сотник! – еще раз похвалил его капитан Бранд.
Полдня Семенов провел в штабе, в оперативном отделе у карт, где были зафиксированы все изменения позиций, затем несколько часов проспал в дощанике, установленном в лесу, под гулкими высокими соснами, а в предрассветной темноте он был уже на ногах.
Надо было спешить – в утреннем сумраке, в тумане успеть проскочить на ту сторону фронта.
– Быстрее, быстрее, братва! – подогнал Семенов казаков и первым вскочил в седло. Забайкальцы также проворно попрыгали в седла, а сотник добавил: – Своим замом я назначаю Белова. Он не раз бывал со мною в деле, я видел его в поиске и в атаке. Лучшего помощника не найти. Возражения есть?
– Возражений нету.
– Прямо стихи какие-то. – Семенов не удержался, хмыкнул. – А теперь – вперед!
Поскакали наметом, или, как говорили учителя Семенова по Оренбургской юнкерской жизни, – быстрым аллюром.
Через полчаса разъезд уже спешился у одной из пехотных сторожевых застав, которой командовал прапорщик с желтым лицом. На шее у него вздулся крупный фурункул. Когда в окопе появился Семенов, прапорщик как раз занимался им – солдаты нашли где-то несколько полудохлых стрелок столетника, распластали их, и теперь несчастный прапорщик пытался приладить их к фурункулу. Небритый унтер в мятой папахе помогал ему.
– Ну, чего тут нового? – бодрым голосом поинтересовался сотник.
Прапорщик поморщился.
– Ничего нового. Главная новость на войне всегда одна – количество убитых. А мы, слава богу, нынешней ночью потерь не понесли.
– Как лучше пройти на ту сторону?
Прапорщик поморщился вновь и, придерживая пальцами повязку на шее, приподнялся, выглядывая из окопа.
На немецкой стороне было тихо. Предрассветные сумерки затянулись; было сокрыто в этой затяжке что-то обещающее; вязкий серый воздух подрагивал, будто студень, пахло горьким – со стороны немецких окопов ровно бы весенним черемуховым духом потянуло, запах этот родил в Семенове тревожные воспоминания; он ощутил, как под глазом справа невольно задергалась мелкая жилка, в груди родилось что-то слезное, размягчающее душу, словно он провалился в собственное детство, в прошлое – нырнул в некую реку и не вынырнул из нее.
Он спросил недовольно у прапорщика:
– Чем это пахнет? Неужто газы?[12]
Тот в ответ махнул рукой успокаивающе:
– Это германцы вырубают у поляков вишневые сады и топят ими печи, и пахнет горелой вишневой смолой, а никак не черемухой.
Сотник с сомнением качнул головой.
– А мне кажется, что черемухой… Ладно, не будем об этом.
– Мои разведчики вернулись с той стороны тридцать минут назад, – сказал прапорщик. – Ничего нового не принесли. Что же касается прохода к немакам, то лучше всего идти вам по левому боку лощины, она через двести метров вообще рухнет вниз, в овраг. Ну, а в овраге до десяти часов утра будет стоять туман – в тумане можно целую дивизию провести, не то что казачий разъезд.
– Овраг длинный?
– Километров пятнадцать. Вам надо будет пройти по оврагу километров семь, до поворота на север… Мимо поворота вы никак не пройдете – он обязательно бросится в глаза. Наверху, в сотне метров от кромки оврага, – немецкий полевой караул.
– Уже на шоссе?
– Да. У немцев там установлена деревянная будка с печкой, а из мешков, набитых песком, сооружены два пулеметных гнезда, а через саму дорогу, как и положено по германским порядкам, перекинута полосатая слега. Словом, это обычный комендантский караул. Народу в карауле немного – человек двадцать.
Сотник присел на корточки и химическим карандашом на листке бумаги быстро настрочил донесение – возникли кое-какие соображения по части захвата дороги… Отправил с мрачным бровастым казаком по фамилии Луков донесение в штаб бригады лично Бранду, пожал руку мучавшемуся от фурункула пехотному прапорщику и скатился в лощину, к коням.
Через несколько минут казачий разъезд растворился в серой мге, которая предвещала скорое утро, но утро это никак не могло наступить.
Овраг был глубоким, поросшим высоким трескучим чернобыльником и на удивление чистым – ни соринки в нем, ни бумажки, ни ржавой железяки, ни старых гильз, будто его кто-то специально убирал. В России таких оврагов нет, в России в овраги положено сбрасывать все ненужное, что скопилось в хозяйстве, всю грязь, а потом с гиканьем гонять по оврагам волков. А здесь волки, наверное, вообще не водятся.
Вскоре на востоке порозовели облака, у них появился рисунчатый подбой, туманный воздух стал прозрачнее. Туман действительно держался в овраге, но не везде.
Когда достигли крутого поворота – приметной детали, живо обрисованной прапорщиком, – было совсем светло. Казаки спешились. Семенов поднялся наверх, на закраину, и примерно в ста пятидесяти метрах от оврага сотник увидел проволочные заграждения, за ними, вдали, – темные, словно пропитанные влагой дома с высокими крышами.
«Они тут в Европах своих – молодцы, крыши высокими делают, – невольно отметил Семенов. – Снег на них не удерживается, самоспуском сваливается вниз. А у нас крыши плоские, снегу на них иногда набирается столько, что он проламывает их. Век живи – век учись. Надо бы ононским дедам рассказать про это».
Семенов наскоро, карандашом зарисовал расположение проволочных заграждений и отправил в штаб бригады, отрядив для этого еще одного казака – у капитана Бранда сведения должны быть самые свежие.
Тут к Семенову на закраину, пригнувшись, словно по нему стреляли, вскарабкался младший урядник Заметнин – шустрый скуластый казак в длинной шинели, шлейфом волочившейся за ним. Заметнину несколько раз предлагали укоротить шинель, чтобы было удобнее вспрыгивать в седло, но тот решительно пресекал все попытки.
– Вот этого как раз и не надо делать. Такая шинель не только меня – лошадь греет. Разве вам неведома старая казачья истина: держи лошадь в тепле, голову в холоде, пузо в голоде? А?
Истина была известна, поэтому казаки со смешком отскакивали от Заметнина.
– Смотри, как-нибудь запутаешься в полах – оконфузишься.
– А потом в собственной шинелке оправляться можно, как в сортире, очень это удобно, – наставлял своих товарищей Заметнин. – Я видел одного солдатика в длинной шинели на вокзале. В стороночке он поставил свой фанерный чемоданишко, сел на него, прикрылся шинелью и вроде бы задумался. Потом встал и ушел. После него что осталось? Правильно – дымящаяся кучка дерьма. Так что не замахивайтесь на длинные шинели, станичники. Коротких шинелей много, длинных мало…
– Ваше благородие, немцы, – проговорил Заметнин почему-то шепотом.
– Где? – спокойно спросил Семенов.
– В низинке, у шоссе. Около костра сидят. Картошку, похоже, пекут.
– Как же, станет тебе немчура лопать картошку, – Семенов хмыкнул, – им гусиную печенку подавай, свиные ножки, начиненные чесноком, сосиски и тушеную брюкву. А ты, Заметнин, картошку… Низко летаешь.
В низине справа горел небольшой, совершенно не видимый на расстоянии костер – дым растворялся в воздухе, около огня сидело человек восемь немцев, люди загораживали костер.
На шоссе, около проволочной рогатки, еще два человека – часовой и подчасок постукивали сапогами друг о дружку, колотя ими громко, чтобы не замерзнуть. Шоссе было пустынным. В стороне от костра был отрыт окоп и накрыт кусками фанеры, несколькими старыми дерюгами, ветками. Это и был окоп сторожевого охранения. Из-под дерюг торчал шпенек трубы, похожей на самоварную: у теплолюбивых немцев в окопе стояла печушка. Воевали они с удобствами.
Если осмотреть местность получше, то, надо полагать, найдется и сортир. Сотник не выдержал, насмешливо дернул головой, словно унюхал что-то нехорошее. Сортир на фронте – опасная штука, особенно если в него попадет снаряд.
Это был тот самый пост, о котором Семенова предупреждал прапорщик.
– Молодец, Заметнин! – похвалил он младшего урядника. – Возьми казака и ползи по-пластунски к шоссе… Там замри до моего сигнала. Мы устроим немакам маленький фейерверк.
Заметнин понимающе кивнул и, прихватив с собой одного казака, растворился в утреннем пространстве. Еще четырех человек Семенов отослал на другую сторону оврага, приказав залечь там.
Было по-прежнему тихо – немцы сидели у костра молчаливые, сгорбленные, чем-то подавленные, один из них – крупный, носастый, хорошо видимый в бинокль, – ворошил железным прутом огонь.
– Сейчас тебе не до костра будет, – пообещал Семенов и, пристроив на глиняной колтыжине цевье карабина, поймал на мушку носастого, нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел.
Немец поднялся над костром во весь рост и рухнул в огонь.
Слева от Семенова грохнул залп – казаки поддержали своего сотника. Немцы бросились от костра врассыпную. У огня остались лежать еще двое. Казаки, поспешно перезарядив винтовки, дали еще залп, но залп этот ушел в белый свет – немцы прыгали, как зайцы, поймать такую цель – мятущуюся, нервно двигающуюся, неуловимую – штука непростая даже для охотника, привыкшего стрелять в глаз верткой белки.
И все равно сотник воскликнул довольно:
– Хар-рашо!
У проволочной рогатки, где только что топтались, поухивая сапогами, часовой с подчаском, уже никого не было – доблестные солдаты кайзера покинули пост со скоростью сусликов, почуявших лису.
– Заметнин, убери рогатку! – прокричал Семенов, боясь, что младший урядник не услышит его, но тот услышал и через минуту оказался на шоссе, ухватился за столб с рогаткой; его менее проворный напарник малость запоздал, но все равно кривоногим медведем, задевая ножнами за землю, пригибаясь, выскочил на шоссе, помог Заметнину.
Из окопа сторожевого охранения, из-под дерюг ударил выстрел, за ним второй. Семенов птицей взлетел на коня и вымахнул на пологую кромку оврага.
– За мной! – прокричал он, оглушая криком и самого себя, и своего коня, и казаков, оказавшихся рядом. Выдернул из ножен шашку.
Через несколько минут все было кончено. Казаки зарубили двоих немцев, пытавшихся отстреливаться, остальные – сторожевая застава под командой пожилого гауптмана с пушистыми седыми висками и лысиной размером почти во всю голову – сдались Семенову в плен.
От гауптмана Семенов узнал то, чего не знал еще никто: немцы, не выдержав противостояния с туркестанцами (все-таки не выдержали), начали поспешно отступать. На дорогах ими решено было оставить только прикрытие.
В Млаве тоже оставалось только прикрытие, основные силы ушли за укрепленную линию примерно час назад.
– Пленных – в тыл! – распорядился Семенов и отрядил на конвоирование двух казаков.
Оружия, сданного немцами, набралось много – целая гора, Семенов послал еще одного человека искать подводу, чтобы на ней увезти трофеи, а сам с оставшимися казаками поскакал по обочине шоссе на запад, к темным высоким домам – там на его глазах целая рота немцев поспешно выстраивалась в походный порядок.
Ввязываться в бой с ротой было глупо, поэтому Семенов свернул вместе с казаками в прозрачный черный лесок, засыпанный мелким снегом, заваленный сохлыми, гремящими как жесть листьями и сбитыми ветками. Немного оглядевшись, перекочевал в другой лесок – ему важно было не потерять из виду немецкую роту, потом, послав еще одного казака к капитану Бранду, переместился в третий лесок.
В результате он оказался на окраине Млавы, спешился около одинокого кирпичного сарая с продавленной крышей.
От разъезда осталось лишь три человека – сам Семенов, молчаливый бровастый Луков, который иногда в течение суток не произносил ни слова, да Никифоров – такой же «разговорчивый» забайкалец – оба были людьми надежными; Семенов окинул взглядом головастого низкорослого Лукова, затем оглядел с макушки до пяток Никифорова и крякнул сожалеюще:
– М-да, маловато нас! С такими силами не с немцами воевать, а жареную картошку есть. Как считаешь, Луков?
Луков молча вскинул руку к папахе: так, мол, оно, ваше благородие, и есть. Зачем только лишние вопросы задаете?
Семенов вновь удрученно крякнул.
– А ты, Никифоров, как считаешь?
В ответ Никифоров лишь блеснул жгучими черными глазами и так же молча, как и Луков, приложил руку к папахе.
Семенов крякнул в третий раз и произнес многозначительно:
– Воинство!
Арьергардная рота тем временем, поблескивая тусклыми стволами винтовок, исчезла на одной из улиц Млавы.
– По коням! – скомандовал сотник. Немецкой роте осталось пройти немного, скоро она исчезнет. Рота эта сильна, в ней много опытных солдат, она хорошо вооружена, поэтому Семенов с ней и не связывался. Если бы у него оставался полный разъезд, десять коней, можно было бы связаться, а когда разъезда нет – пехотинцы в шишкастых шлемах поднимут его на штыки, и этим дело закончится.
Остановились они около дома со старой черепичной крышей, такой старой, что она целиком, от конька до нижнего среза, была покрыта густым зеленым мхом, будто одеялом, снег на крыше не задерживался, сползал вниз, и мох зеленел ярко, вызывая удивление и улыбку.
Через десять минут Семенов переместился с казаками к другому дому, огляделся. Млава была пуста. Окна в домах плотно завешены, двери заперты, по булыжным покрытиям улиц стелется жесткая серая крупка, вызывающая ощущение пустоты и некоего внутреннего онемения, холода. Захотелось забраться в какое-нибудь теплое место, плюнуть на войну, выпить пару стопок водки и закусить расстегаем, забыться. Крупка, низко стелющаяся по мостовой, вдруг поднялась вверх тяжелым столбом и рухнула прямо на людей. Семенов выругался, хлопнул коня плеткой, вынесся на середину улицы.
Вскоре он уже находился в центре Млавы, на широкой площади, украшенной старым обледенелым фонтаном; в углу площади высился угрюмый, со стрельчатыми черными окнами костел – хорошее место для наблюдения. Особенно для артиллерийского корректировщика, засекающего цели.
Сотник, пристроившись к стенке какого-то ларька, обитого крашеным железом, достал лист бумаги и написал на нем: «Млаву занял. Прошу подкрепления для преследования отступающего противника. В моем распоряжении остался один конный вестовой». Сложил бумагу в несколько раз, написал на ней «Г-ну к-ну Бранду», отдал Лукову:
– Гони в штаб бригады. Отдай это лично в руки начальника штаба. Понял?
Луков сунул донесение за отворот лохматой папахи и ускакал.
Сотник достал из кармана часы, открыл, даже не услышав их нежного малинового звона – не до того было, глянул на циферблат и огорченно покрутил головой – скоро начнет темнеть.
Серый мозготный день пронесся со скоростью пули – ветер, а не день, ураган, в котором нет ни четких очертаний, ни теней, все растворилось в нем. Иногда откуда-то сверху сыпалась мелкая колючая пыль, обдавала людей с головы до ног едкой стылой белью, приходилось продирать глаза, чтобы что-то увидеть. Было сыро и холодно, тянуло в тепло, за стол, Семенов давил в себе это желание и делался раздражительным.
Раздражало и то, что ни один из посланных им в штаб казаков не вернулся – разъезда, с которым Семенов выехал на задание, не стало, он его растряс на посыльных – люди растаяли вместе с донесениями. Непонятно, дошли ли они до штаба… Кто знает? Одностороння какая-то связь получилась. Сотник раздраженно кутался в бурку, продолжая наблюдать за немцами.
И другое также вызывало в нем раздражение: если немцы – боевое охранение той же арьергардной роты, – сейчас обнаружат его и вздумают напасть, то двумя саблями, своей и Никифорова, он не отобьется.
Помощи ждать было неоткуда, до своих далеко – он ушел за линию фронта в немецкий тыл, верст на восемь, не менее.
Капитан Бранд – сухой, с гладко выбритым лицом и тщательно подрезанными висками – веером разложил перед собой донесения Семенова. Тщательно прочитал их и озадаченно качнул головой, соображая, все ли в порядке у этого сотника с мозгами?
– Он что, Семенов этот, нормальный мужик или нет? Лечить его не надо?
На голос начальника в кабинет заскочил старший помощник, штабс-капитан с высокими, как у Наполеона, залысинами и римским – опять-таки как у Наполеона – носом человек, тщательно следивший за своей внешностью и среди офицеров известный стремлением отличаться от других.
– О ком речь? О сотнике Семенове?
– О нем, любезном. Справный офицер или так себе?
– Семенов, Семенов… Человек он, конечно, без царя в голове, но нахрапистый.
– Своенравный, что ли?
– Будем считать, так.
– А у него не может быть… – Бранд повертел около виска пальцем, – не может быть слишком хорошо развита фантазия?
Старший помощник неопределенно приподнял одно плечо.
– Кто его знает! Раньше вроде бы не замечалось. Война ведь штука такая: сегодня человек нормальный, а завтра, хватив немецких газов, неожиданно лезет на стенку, изображая таракана, либо раздевшись до пупа, нарисовав на плечах кресты, всем сообщать, что он – немецкий генерал… А что, собственно, случилось?
– Да вот. – Бранд придвинул помощнику донесения Семенова. – Почитай. Особенно последнюю депешу. – Очень похоже на писательское сочинительство.
Старший помощник взял в руки последний листок, прочитал громко, со смаком, с выражением в голосе:
– «Млаву занял». – Брови у него дернулись, встали домиком, нос округлился, превращаясь в пуговку, будто у коверного комика. – Он занял Млаву? Хе-хе-хе! Во дает сотник! Он что, бочку сливовицы в брошенном шинке нашел и перебрал со своими казаками? Хе-хе-хе! «Прошу подкрепления для преследования отступающего противника. В моем распоряжении остался один конный вестовой». Один вестовой… А остальные где?
– Остальные здесь.
– Это дело, как говорят в милой моему сердцу Хохландии[13], трэба разжуваты. Надо послать к Семенову разъезд. С толковым офицером во главе. Он на месте во всем разберется – у нас будет точная картина того, что происходит.
– А вдруг этот сотник действительно занял Млаву?
– Исключено. Не верю. Целая дивизия уже столько дней топчется на месте, ничего не может сделать, казачью бригаду в помощь бросили – и вновь результат нулевой…
– Бригада в бой пока не вступила, – поправил своего помощника осторожный Бранд.
– Все равно… А тут на тебе – разъезд из двух носов и трех папах занял целый город. Не верю. Побасенки это из собрания сочинений господина Салтыкова-Щедрина. Болтовня!
– Хорошо. – Бранд придавил белыми ухоженными ладонями стол. – Посылаем к Семенову разъезд с толковым офицером.
Через четверть часа в Млаву поскакал казачий разъезд из пятнадцати человек во главе с корнетом Коншиным.
А сотник Семенов в эти минуты пытался отбить у немцев русских пленных – девятнадцать человек в приморской драгунской форме, из которых четверо были офицерами. Пленные появились на безлюдной улочке недалеко от костела; были они измученные, ослабевшие, конвой окружал их крепкий, в два кольца, при конях и телегах, с пулеметом, и сотник понял – ничего он не сумеет сделать. Были бы при нем его люди – отбил бы. А так – увы. Только сам в беду попадет и разделит участь драгунов-приморцев.
– Эх, земляки, земляки! Как же вы так оплошали? – Он взял в рот кончик уса, с досадою пожевал его. – Тьфу! – выплюнул несколько откушенных волосинок, прилипших к языку, затем с лязганьем выдернул из ножен шашку и с силой загнал ее обратно. Покрутил головой, словно его оглушили, снова приложился к винтовке, целясь в офицера, ехавшего впереди конвоя на короткохвостом артиллерийском битюге, и опустил ствол: освободить этих людей он не сможет.
Выругался виновато: приморцев было жаль – попадут в какую-нибудь картофельную латифундию, либо давильню проса в Лотарингии, либо на выпасы поросят в Саксонии, либо того хуже – за колючую проволоку лагеря военнопленных и вряд ли выберутся оттуда до конца войны.
– Эх, земели вы мои, родные!
В очередной раз возникла досада: если бы капитан Бранд вернул людей, которых сотник направил в штаб с донесениями, тогда был бы совсем другой коленкор. Но нет, не хватило на это у Бранда шурупов… Тьфу!
Сотник грохнул кулаком по кирпичу, вылезающему из угла стены. Вместе с Никифоровым они лежали на колокольне. Кони были привязаны в глухом дворе внизу, к старому каменному отбойнику, специально врытому в землю для того, чтобы кареты своими колесами не вырубали крошку из стен. Отсюда, с верхотуры, было все хорошо видно: не только кони, мирно жующие овес внизу, и не только цепочка несчастных пленных – была видна вся Млава. Казалось, что город находился в ладонях у сотника.
На западной окраине Млавы что-то горело, черный дым косо струился над домами. Полыхали то ли штабные бумаги, для верности облитые химической либо бензиновой дрянью, то ли резиновые противогазовые комбинезоны, завезенные немцами на этот участок фронта, о чем у русских имелись данные разведки, то ли чаны со скипидаром, которые германские медики, пуще косоглазия и поноса боявшиеся всякой заразы, всякий раз пускали в ход, когда подыхала лошадь или для покойников была вырыта слишком мелкая могила. Черный косой дым, тянувшийся над землей, оставлял в душе ощущение беды. Город был пуст – на улицах ни одного жителя.
Сверху было видно, как во дворе аптеки, украшенной зеленым крестом и рогами неведомого зверя – костяные сучья были диковинно изогнуты, торчали вкривь-вкось, – около убитой лошади крутится беспородная собачонка с поджатым хвостом, клацает зубами, трусливо оглядывается, не огреет ли кто ее палкой сзади? Рядом с домом, крытым крашеным железом, тлеет воронка – из круглой ямы вьется свежий парок, похожий на дым, будто на дне воронки разложен костерок, и снежный мусор тает на жарком огне. А может, там догорает чья-то душа…
Стыло в городе Млаве, тоскливо, пусто.
Хотелось есть. Та малая часть продуктов, которую казаки взяли с собою, была израсходована, животы подвело, подступала сосущая голодная боль.
– Ваше благородие, а немчуки не могли угнать из города жителей? – спросил Никифоров, обеспокоенный давящей пустынностью пейзажа. – А? Ни одной живой души в нем…
– Не должны, – неуверенно ответил сотник.
Корнет Коншин со своими драгунами прискакал уже в ночи – хорошо, ночь на этот раз выдалась светлая, невидимый месяц неглубоко спрятался в облаках, время от времени выглядывал в промоины, словно ему было интересно, что происходит этой ночью на земле.
– Ба-ба-ба, сотник, – громко провозгласил корнет Коншин, – а ведь вы действительно с одним казаком взяли этот твердый орешек – город Млаву!
– Не с одним казаком, а с десятью, – сухо поправил его сотник. – В начале операции нас было десять человек.
– Поздравляю! – горячо воскликнул Коншин, огляделся повнимательнее; молодое розовое лицо его передернулось, будто от холода, и он невольно поежился: – Неуютно тут как-то. Нечистой силой попахивает.
В штаб бригады корнет отрядил двух драгунов с донесением, подтверждающим донесение сотника Семенова: «Млава взята!»
В первом часу ночи бригада забайкальцев вступила в город. Впереди казаков на белом, четко выделяющемся в лунном сумраке коне двигался начальник бригады генерал-майор Киселев.
Увидев Семенова, он согнулся в седле, хлопнул перчаткой по погону:
– Молодец, сотник! Всем нос утер, показал, как надо воевать. – Киселев повысил голос. – Капитан Бранд!
Капитан молча вытаял из ночного сумрака.
– Представьте телеграфно сотника Семенова к награждению Георгиевским оружием.
– Сотник уже представлен к ордену Святого Георгия… Не успел получить.
– Вот и получит… И орден и оружие. Все вместе.
К слову замечу, за эту операцию сам начальник бригады генерал-майор Киселев был также награжден орденом Святого Георгия Победоносца – высшей боевой наградой, вручаемой офицерам.
Воевал Семенов лихо, совершенно безоглядно, с выдумкой, храбро, хотя особых безрассудств тоже не совершал. Если бы его биография закончилась только боевыми подвигами на фронте, если в дальнейшем Семенов, как, впрочем, и Колчак[14], не вмешался бы в кровопролитную схватку, именуемую Гражданской войной, он вошел бы в число великих граждан России, почитаемых во все времена, при всех властях.
Но этого не произошло.
На фронте наступило затишье. Окопы были завалены снегом, и он все сыпал и сыпал, накрывал пушистым одеялом землю. Солдаты, чтобы хоть как-то согреться, прямо в окопах жгли костры, не боясь, что немецкие артиллеристы засекут отблеск пламени и накроют костер снарядом. Холод считался большой бедой, гораздо большей, чем вражеские снаряды. Из немецких окопов также валил дым, поднимался в небо десятками тонких столбцов.
Немцам прямо в окопы, на передовую, подвезли железные печки с самоварными клепаными трубами, а также брикеты прессованной угольной крошки. Очень удобное это топливо – угольная крошка: и разгорается быстро, и горит жарко. Казаки добыли несколько таких печушек с брикетами – остались очень довольны.
Стрельба на замершей линии фронта выдавалась редко.
Под Млавой в районе деревень Руда и Зеленая, где разбил свой зимний бивуак эскадрон Семенова, было много зайцев. Косые развелись в количестве немеряном и обнаглели вконец – повадились совершать налеты на деревни и обгладывать яблочные стволы до корней. От косых обжор не стало спасу.
За дело взялся молчун Луков. Он оказался ловким охотником – каждый день потчевал забайкальцев печеной зайчатиной.
Вооружен был Луков старой, в простеньких облупившихся ножнах шашкой с вытертой деревянной рукоятью. На вид неказистая шашка ловко сидела в руке, будто вместе с рукой и была рождена.
Однажды перед Луковым бросили кусок тряпки.
– Руби!
Луков стремительно выхватил шашку из ножен и, прежде чем ткань упала, рубанул по ней лезвием. Тряпка развалилась на две части.
Казаки присвистнули, с завистью поглядели на шашку Лукова:
– Однако!
В следующий раз также решили проверить качество луковской шашки, нашли в ранце убитого немца шелковый, светящийся насквозь, легкий, как воздух, платок. Перед Луковым бросили его – небольшой шелковый лоскут буквально повис в воздухе; он парил, будто бабочка, затем, едва пошевеливая краями, тихо поплыл вниз. Луков неторопливо обнажил шашку, поплевал на лезвие и коротким несильным движением распластал платок.
– Вот это да! – Казаки дружно вздохнули, и во вздохах этих слышалась зависть. – Что за шашка у тебя такая, а? Неужто из дамасской стали сработана? А?
В ответ Луков лишь приподнял одно плечо – не знаю, мол. Может, и из дамасской…
– Ну откуда она у тебя взялась?
Луков вновь, словно не умел говорить, приподнял другое плечо.
– Может, ты ее где-то купил или у врага отнял, а? Либо она тебе досталась по наследству от деда? А?
Тут у Лукова прорезался голос – наконец-то, – он степенно откашлялся в кулак.
– Вы правы, от деда, – проговорил он. Голос у него был глуховатый, с пороховым треском. – Дед ее привез из Китая.
– А что за сталь? Ведь только дамасская сталь рубит шелковые платки.
Луков снова приподнял плечо: главное не что за сталь, главное – чтобы шашка, срубая голову очередному врагу, пела песню. А принадлежность стали к той или иной плавильной печке – дело десятое.
Скорее всего, эта шашка была сделана в Японии – японцы знали секреты стали не хуже дамасских мастеров, умели напаивать сталь на сталь, сталь жесткую на вязкую, могли закалить клинок до такого состояния, что он запросто рубил железо, мог стать черным алмазом и рубить сталь…
– Японская это сабля, – пришли к окончательному выводу казаки и, будто бы точку поставив, прекратили завидуще поглядывать на шашку Лукова.
Заячья несметь что-то стронула в Лукове, он даже говорить начал – проснулся, значит, корешок – как-то, случайно выгнав из кустов очередного беляка, ленивого, толстого, неповоротливого, он задумчиво произнес:
– М-да-а…
Вытащил из ножен шашку, посмотрел на нее и снова вогнал в ножны.
Потом отвязал свою Рыжуху, отмеченную, будто орденом, счастливой белой звездочкой, легконогую гривастую кобылу, оседлал ее и выехал в поле.
Зайцы встретили Лукова настороженно. И правильно поступили – казак пошел на них в атаку, как на немцев. Через полминуты он насадил одного зайца на острие шашки, будто на вертел. Сбросил его в брезентовый непромокаемый «сидор», поскакал к следующему кусту. Через полторы минуты в «сидоре» копыхался еще один заяц.
Через час, ободрав зайцев и порубив их на куски, Луков поставил на костер большой закопченный чан – из этого чана можно было накормить человек пятьсот, – наполнил его водой, кинул несколько головок лука и две ветки лаврового листа, добытого у полкового кошевара, заложил зайчатину, а сам с Никифоровым сел чистить картошку.
Вскоре дух над здешними полями, над лесами и окопами поплыл такой, что немцы невольно забеспокоились, начали кричать из своих окопов:
– Рус, перестань над нами издеваться!
А казаки во главе с сотником Семеновым уселись вокруг котла и устроили себе праздник – обсасывали каждую заячью косточку, смаковали каждое мясное волоконце, ахали и хвалили Лукова:
– Ну, говорун, ну, говорун, потешил наши души! – и восхищенно хлопали себя по животам.
«Говорун» на этом не остановился – натянул сырые заячьи шкурки на дощечки – решил выделать их – не пропадать же добру, из которого может получиться и роскошная женская шапка, и вполне приличная казачья папаха.
На следующий день Луков вновь взгромоздился на свою Рыжуху и поскакал в поле.
Окопное противостояние продолжалось, жизнь была спокойной, казаки занимались в основном тем, что мелкими группами ходили в разведку.
В бригаде сменилось начальство. Генерал-майор Киселев пошел на повышение – стал начальником Восьмой кавалерийской дивизии, на его место прибыл генерал-майор Крымов[15].
Семенов в вечерней мге перемахивал через линию фронта и через пару часов возвращался с перекинутым через седло, будто куль, каким-нибудь полудохлым фрицем, на плечах которого болтались фельдфебельские либо офицерские погоны. Сотник попросту крал у немцев офицеров. Либо вычислял, каким путем немецкая разведка пойдет в наш тыл, и ставил на ее дороге капкан. За полтора месяца затишья он взял в плен пятьдесят с лишним человек, со своей же стороны не потерял ни одного.
Это было азартное и опасное состязание – кто кого, и Семенов со своими забайкальцами оказался на высоте.
В конце концов немецкая разведка стала ходить в наши тылы под прикрытием пехоты. Человек восемь конных разведчиков тащили позади себя целый пеший обоз при двух-трех телегах, на которых стояли пулеметы.
Обоз ощетинивался не только пулеметными стволами, но и винтовками, и штыками, и нападать на него, такого ежистого, готового вылить на противника лаву огня, было очень непросто, это усложняло задачу. Тем более что Семенов предпочитал действовать так, чтобы не терять своих людей.
Зима была теплой. Линия границы проходила неподалеку, и в бинокль можно было увидеть крыши большой деревни, смахивающей на город, под названием Руда, что находилась уже не на польской, а на прусской территории. Семенову хотелось как-нибудь вечером со своей сотней ворваться в Руду, посмотреть, как живут обленившиеся в зимнем затишье немчики, но новый начальник генерал Крымов запретил это делать – он почему-то предпочитал проводить учения у себя в тылу, а не в тылу немецком, за линией фронта.
Деревья в лесах гнулись под тяжестью мягкого липкого снега, погода баловала и удивляла забайкальцев.
Они привыкли совсем к другой зиме – им были больше по душе лютые морозы, пушечные удары стужи, раскалывающие пополам не только деревья, но и камни, целые скалы; ветры, выламывающие зубы; снег, в котором с головой утопают не только всадники, но и целые железнодорожные составы; пурга, плотно накрывающая землю – вытянешь в ней руку, и руки не видно, хвосты пурги сшибают с ног не только человека, но и быка, накрывает путника снеговым стогом и превращает его в ледяную колоду. У пурги с морозами – самый крупный счет, сколько они унесли человеческих душ – не счесть.
Здешние же ветры по сравнению с забайкальскими – обыкновенный пшик, при таких ветрах лишь хорошо спится, мороз же способен только подрумянить щеки какой-нибудь миловидной толстушке, а во время снегопада вообще можно весело провести время, дружной компанией катаясь с гор на салазках.
В деревне Зеленой квартировали только казаки. Линия фронта выпрямлялась, «аппендиксы» были срезаны – слишком тяжело их удерживать даже во время самого малого наступления противника, легко можно отрезать вместе с людьми и затянуть на горловине такого мешка веревку, а это – плен, это – беда. Деревня Зеленая оказалась на нейтральной территории, и Семенов, сидя в ней, как в своей родовой вотчине, продолжал ставить капканы на немецких разведчиков и потом вытаскивал их из тисков, помятых, ошарашенных, будто зайцев. Относились к пленным казаки не то чтобы с уважением – при случае могли и зуботычину дать – а как к убогим людям, которым не повезло в жизни, скажем так – снисходительно.
В январе 1915 года, в морозный серенький день, когда с крыш сочилась, звонко шлепалась на землю капель, бередила души, семеновские казаки-наблюдатели засекли полтора десятка немецких всадников, выехавших из Руды, с ними – три подводы с людьми и пулеметами.
У сотника от этой новости загорелись глаза.
– Следите за штурмистами в оба, – приказал он. – Вдруг это местные дедки просто собрались в лес по дрова.
– Не похоже, ваше благородие, чтобы немцы опустились до обычных дровишек, они свои печки топят прессованными угольными брикетами. К нам немчуки идут, ваше благородие…
– Ну, раз к нам, то мы постараемся их достойно встретить.
Забайкальцам лишний раз приказывать было не надо – к вылазке они были всегда готовы. Семенов пересчитал своих людей – было их ровно тридцать. Он азартно потер руки.
Через лес, в котором растворились немцы, пролегала дорога, хорошо накатанный проселок. По этому проселку немцы возили в Руду сушняк, хворост, распиленные прямо на месте дрова. Дорога эта была присыпана снегом и, несмотря на накатанность, особо не видна, ее хорошо знали местные жители, но не штурмисты, которые, похоже, на этот раз взяли с собой проводника – местного аборигена.
– Сколько их? – спросил Семенов у наблюдателя, шустрого глазастого казачка.
– Большая банда, человек пятьдесят будет.
– Такой бандой можно запросто проводить разведку боем. – Семенов защепил зубами кончик уса, погрыз его. – Может, они действительно задумали разведку боем? – спросил он самого себя и развел руки в стороны. – А на кой лад? И так все понятно.
– И два пулемета у них, два! – Казачок для пущей убедительности выставил перед собою два пальца, указательный и средний.
– Хорошо, что они хоть орудие с собою не взяли, – усмехнулся сотник. Вновь покусал усы, на лбу у него пролегла вертикальная морщина. – И если это разведка боем, то кого же они решили пощупать?
– Нас, ваше благородие.
– Мы им неинтересны. Мы и без того у них будто на ладони находимся – нас из Руды они каждый день в бинокли рассматривают. И никакая это не разведка боем, а обычная разведка, – пришел Семенов к выводу и скомандовал, нагнав в голос звона и лихости: – По коням!
Он хотел достичь леска прежде, чем немцы выползут из него, поглядеть поближе, «пощупать», что это за «товар». Через несколько минут казачья лава уже неслась по единственной улочке деревни, распугивая собак и кур, – следом, целя далеко вверх, в самое небо, поднимались густые столбы снеговой крошки. Остро пахло квашеной капустой, от этого знакомого духа в глотке даже что-то сжалось, и сотник не выдержал, выдохнул громко, будто кого-то полоснул шашкой:
– Й-эх!
Придержал коня он уже на опушке, втиснулся вместе с ним под громадную ель и предупреждающе поднял руку:
– Тих-ха!
Немцы растворились в густоте леса, словно духи бестелесные, – не слышно их и не видно. Казаки застыли на опушке, обратились в слух. «Ну как?» – одними глазами спросил сотник Белова, вытянувшегося на коне, будто молодая елка. Белов отрицательно качнул головой. Сотник оглянулся на растворяющиеся в сером воздухе домики деревни.
Там тоже было тихо.
– Будем ждать, – приказал Семенов.
Через минуту на окраине деревни гулко ухнула винтовка – это подал сигнал казачок-наблюдатель. Они так договорились с сотником – как только казачок засечет, что немцы показались на опушке леса, так сразу даст сигнал.
– За мной! – скомандовал сотник, направляя коня на заснеженный, схожий с диковинным животным куст, поежился от стылой белой пыли, насыпавшейся ему за отворот башлыка прямо на голую шею. Конь с лету одолел диковинного «зверя» и, быстро перебирая ногами, покатился вниз с невидимой заснеженной горки, потом встал, уткнувшись грудью в высокий сугроб. – Вперед! – подогнал его сотник. – Не спотыкайся!
Запоздало поморщился: спотыкающийся конь – не к добру. Раздумывать, к добру это или не к добру, было некогда, сотник хлестнул коня плеткой, тот с тихим стоном поднялся на дыбы и всей тяжестью навалился на сугроб, разломил его, будто гигантскую прель, замотал головой, фыркая и выбивая из ноздрей снег.
– Не спотыкайся! – вновь предупредил коня Семенов и поднял плетку.
Бить не стал. Все-таки конь – родное существо, такое же близкое, как и приятели-станичники, прибывшие на фонт с родного Куранжинского поста. Семенов подбадривающе хлопнул коня по шее ладонью, и тот выволок всадника из сугроба.
Следом, выстроившись в цепочку, пошли забайкальцы. Через десять минут казаки уже находились на проселке, по которому только что прошли немцы.
Посреди санного следа валялись свежие конские яблоки, исходили теплым овсовым душком, около них уже копошились, горланя и дерясь, воробьи.
– Ну что, ваше благородие, догоним немаков? – предложил Белов.
Сотник хмыкнул.
– И сразу на пулеметы? Положат они нас с большим удовольствием.
– А мы нагличать не будем. С двух боков зайдем незаметно и навалимся.
– Незаметно подойти не удастся и внезапности не будет.
– Тогда что же делать, ваше благородие?
– Ждать! Есть такой хороший русский рецепт – ждать. Нам нужно, чтобы конники отделились от пехоты. Вот тогда и наступит момент «тогда» – тогда можно будет им натереть перцем репку. Понятно, Белов?
Проселок, по которому ушли немцы, словно шампур, нанизывал на себя все окрестные рощицы – оно и понятно: это была дорога, по которой вывозили лес. Колонна лощиной, невидимая со стороны большого тракта, проследовала в Журамин – некрупное, но важное село, оседлавшее сразу две дороги.
– Как бы они там кого из наших не прихватили, – обеспокоился Белов.
– Не прихватят. Никого из наших там уже нет. Но даже если какой-нибудь раззява попадется – на обратном пути отнимем.
Семенов правильно рассчитал, пропустив усиленную колонну разведчиков. Те на обратном пути, потеряв бдительность, успокоенные тем, что русские не встретились им, разбрелись. Пехота, истосковавшаяся по горячей каше – время было уже далеко за обед, – на санях унеслась в Руду, а конники задержались.
Произошло это в том самом лесочке, который Семенов и облюбовал для засады, чутье у него по этой части было, как у зверя – безошибочное. Сотник первым вывалился вместе с конем из-за огромного заснеженного куста и рубанул шашкой немца, оказавшегося к нему ближе всех, – дородного, в шишкастой каске и с большими рыжими усами. На рукаве у немца пестрели новенькие нашивки фельдфебеля, который молча повалился под копыта своего коня.
Раздался выстрел. Пуля с шипением пропорола воздух рядом с головой сотника. Стрелял юный, с тоненькими витыми погонами на плечах офицерик. Лицо его было бледным от испуга.
– Ах ты, сука! – взревел Семенов, бросился с шашкой на офицерика, резким штыковым движением послал ее вперед.
Офицерик попытался отбить шашку, но опоздал, острие клинка всадилось ему в живот – будто в квашню с мягкой давленой картошкой. Офицерик вскрикнул и повалился лицом на шею лошади.
– Если успеем до медсанбата доскакать – жив будет, – выкрикнул сотник, вновь вскинул над головой шашку.
Немцы растерянно смотрели на него, на казаков, окруживших их. Наконец один из немцев поднял над головой дрожащие белые руки. Следом поднял руки второй германец, потом третий.
– Вот и все, – удовлетворенно произнес сотник, вгоняя шашку в ножны. – Приехали детишки в гости к маме с папой.
Пленных разоружили и увели в село, откуда отправили с конвоем в штаб бригады – в Руде разведчиков так и не дождались. Раненый лейтенантик совсем еще зеленым был, мальчишкой, будь он немного постарше – вряд ли бы стал рисковать и стрелять в Семенова.
– Как хоть тебя зовут? – спросил у офицерика Семенов.
Тот, грызя зубами белые губы – больно было, – произнес едва внятно:
– Барон фон Шехтер, лейтенант шестого егерского полка.
– Белов, постарайся мальчишку довезти до санитаров, – приказал сотник. – Они его обязательно спасут.
Не дождавшись своих разведчиков, немцы снарядили на поиск конный разъезд. Сотник достойно встретил его – армейское начальство, сидевшее в Руде, так и не дождалось тот разъезд: зажатый в тихом прозрачном лесочке, он сдался без единого выстрела – звероватые казаки в лохматых папахах, ловко сидевшие на таких же звероватых, злобно скаливших зубы низкорослых лошаденках, внушали немцам лютый страх. Страх парализовал немцев.
Вечером, сидя у небольшого костерка в одном из деревенских дворов, сотник с удовольствием отведал рагу из зайчатины, выковырнул застрявшую меж зубов мелкую косточку, сыто рыгнул в кулак и произнес:
– Однако хороший у нас сегодня денек получился.
Казаки, сидевшие у костра, просияли – этих слов они ждали.
– Ваше благородие, это дело следует отметить бимбером, – предложил Белов.
– Где взяли этот гнусный напиток?
– Обижаете, ваше благородие. Даром, что ли, мы немецкий разъезд встречали с такой любовью, а? Вот немаки с нами и поделились по-братски, – Белов поставил перед сотником литровую бутылку, заткнутую резиновой медицинской пробкой, – попросили выпить за их здоровье. Что и надо, наверное, сделать… А, ваше благородие?
– Валяйте, – разрешил сотник. – Только имейте в виду – немцы нам сегодняшнего дня не простят.
– Плевать!
– Ночью они могут атаковать Зеленую.
– Плевать, ваше благородие!
– В крайнем случае атакуют утром.
– Тем более плевать. Мы – склизкие, увернемся.
Семенов как в воду глядел. Утром из Руды выдвинулись две длинные колонны с двумя прямо на ходу мирно попыхивающими дымком полевыми кухнями, при четырех орудиях. Сотник оглядел колонны в бинокль, насмешливо покусал ус.
– Что-то старичков среди воинов многовато.
– Это ополчение, ваше благородие. Минин и Пожарский, только на немецкий лад.
– Знаю. Ландштурм[16] есть ландштурм. – Лицо сотника приняло озабоченное выражение; он спрятал бинокль в твердый фанерный ящичек, изнутри обитый бархатом, чтобы не поцарапать нежную оптику, и неторопливо забрался в седло. – Отступаем, казаки. Иначе эти старички своей массой расплющат.
Прикрываясь домами, казаки спустились в длинный пологий лог и так, логом, и ушли. Ландштурмисты – их было два батальона – прочесали деревню гребенкой, но ничего, кроме двух костров, залитых казачьей мочой, да нескольких груд свежих конских яблок не нашли.
Ведомые двумя боевыми обер-лейтенантами, ландштурмисты оставили Зеленую и передвинулись в Журамин. В Журамине русских не было – ни одного человека, это местечко для наших частей выполняло роль этакой станции подскока, промежуточной базы и находилось в своеобразной нейтральной полосе, капитан Бранд в своих картах вынес Журамин за линию фронта, поэтому немцы, довольные тем, что не пришлось стрелять – они вошли тихо, не сделав ни одного выстрела, – расположились в Журамине, как у себя дома: заняли обжитые помещения и первым делом решили подкрепиться – даром, что ли, их полевые кухни все это время коптили небо. Запах наваристой, заправленной копченым салом каши долетел даже до Зеленой, куда казаки не замедлили вернуться.
Семенов насмешливо отер перчаткой усы:
– Это испытание почище испытания огнем и железом. Не для слабого человека.
– Ничего, ваше благородие, переживем и это, – бодро отозвался на слова сотника Белов.
– Лучше пережевать, чем переживать.
– Тогда позвольте действовать, у нас как в аптеке – бутылку бимбера из кармана, а Лукова с его шашкой – в поле, за зайцами.
– Рано еще, Белов. Вдруг немцы сейчас какой-нибудь фокус выкинут? Старички на это дело всегда были горазды. Тогда и зайцев не увидим и ловкого Лукова потеряем.
Однако немцы никакого фокуса не выкинули, они решали задачу простую, как превращение сена в конские яблоки: зная, что казаки совершают налеты из Зеленой, решили занять село в казачьем тылу и таким образом отрезать сотню Семенова от своих.
Никакой разумный командир не решится на вылазку, имея у себя в тылу два батальона, а если решится, то это будет либо великой дуростью, либо великой наглостью – ни то, ни другое нормальный офицер позволить себе не может. Так считали немцы. Но сотник Семенов считал по-другому, у него по части воинской арифметики вообще не было правил: два плюс два давали разный результат, могло получиться и пять, и шесть, и восемь, а могло получиться и полтора – все зависело от обстоятельств.
Утром Семенов отрезал ландштурмистов от своих. Когда из Журамина в Руду отправились две подводы с десятком вооруженных винтовками стариков, не замедлил их разоружить. Затем связал одной веревкой и обходным путем отправил в штаб бригады. Точно так же он перехватил пять подвод с продовольствием, которые шли в Журамин из Руды.
– Скоро мы австрийским шоколадом коней кормить будем, – пообещал сотник казакам. – А французским коньяком – поливать сено, чтобы душистее было. И венгерская ветчина у нас будет, и твердая немецкая колбаса, и швейцарский сыр, и чешские шпикачки…
Казакам было весело слушать перечисление этого гастрономического реестра, и вообще было весело воевать с таким командиром. А вот ландштурмистам было худо. Очень скоро их полевые кухни перестали дымиться.
Казаки же в самом деле и венгерской ветчиной, и дырявым швейцарским сыром, и твердой, аппетитно попахивающей дымком колбасой в красной лощеной облатке, на которой золотом был тиснут частокол готических букв «Брауншвейгская», полакомились, и многим другим. Казаки пластали колбасу шашками и, выковыривая из темной красной плоти мелкие блестящие жиринки, рассматривали их как нечто диковинное, пробовали на зуб и завистливо вздыхали:
– Это надо же ж так обработать кусок сала! А остальное куда делось? Ведь свинья-то была большая.
И всякий раз находился какой-нибудь острослов, который обязательно выражал недоумение по поводу дырок в сыре:
– Криворукие! Эти дырки надо пробками из-под вина затыкать – не могли как следует заляпать щели! Если провалишься в них – ногу сломаешь!
Ландштурмисты попробовали расчистить дорогу в Руду, но куда там – только телеги свои потеряли. Вместе с пулеметами.
– А ну как это старичье попрет на нас сразу двумя батальонами, – озадаченно почесывая затылки, обратились казаки к сотнику, – сметут нас дедки.
– Не сметут, – спокойно ответил сотник, – да и не попрут они никуда. У дедков приказ – умереть в Журамине. А немцы – народ такой: от приказа – ни на сантиметр. Так и будут сидеть в Журамине.
– Голодные?
– Голодные.
Вторая колонна подвод с продовольствием отправилась в Журамин под усиленным конвоем, вокруг них крутилось два с половиной десятка всадников, командовали проводкой два седых, очень похожих на семеновских учителей оренбургской поры сгорбленных офицера, оба – тихие, интеллигентные, муху не обидят – они были тоже из ландштурмистского призыва.
– Таких людей на фронт посылать никак нельзя, – Семенов с неодобрением пожевал кончик уса, – такие киндерам арифметику должны преподносить… Ну что они смыслят в смерти, в огне, в окопной тактике?
Впрочем, двух этих офицеров сопровождал краснолицый фельдфебель, очень похожий на большую, прочно сколоченную сельскую баню. Встреча с таким человеком на открытом пространстве была опасна.
– Вот с тебя-то мы и начнем, – спокойно проговорил сотник, подводя мушку винтовки под подбородок фельдфебеля. Повел чуть в сторону стволом, беря на опережение, задержал дыхание и нажал на спусковой крючок. Фельдфебель изумленно приподнялся в седле, выдернул ноги из стремян и свалился под тяжелые копыта своего битюга.
Следом за выстрелом сотника раздалось еще несколько выстрелов – палили казаки, и через две минуты половина всадников уже валялась в снегу. Казаки вымахнули из Зеленой и с улюлюканьем понеслись на продуктовый караван.
Немцы повыпрыгивали из возов в снег и помчались кто куда.
Половина возов была поставлена немцами на колеса, вторая половина имела санный ход. Одна из лошадей, запряженная в телегу, понесла. Под колеса попал мерзлый выворотень земли, телега перевернулась. По полю рассыпались цветные плитки шоколада и упакованные в пергамент коробки галет.
– Тпр-р-ру! – громко закричал Семенов, совершенно забыв о том, что немецкие лошади русских команд не понимают.
Лошадь рванула еще раз, также закувыркалась, хомут сдавил ей шею – он развернулся вокруг своей оси и сдвинулся, лошадь захрипела. Одну оглоблю она переломила своей тяжестью – толстая слега разлетелась сразу на три части, вторая оглобля прогнулась, затрещала, но выдержала. Лошадь начала задыхаться.
Семенов выматерился, спрыгнул на землю, ухватился обеими руками за хомут, разворачивая его на лошадиной шее. Вдруг из сугроба, прямо из глуби, хлобыстнул выстрел. Пуля прошла стороной, Семенов даже не услышал ее, увидел только, как снеговая плоть вспыхнула изнутри неярким рыжеватым огнем, обрела глубину, выдернул из кобуры револьвер и вогнал в сугроб – прямо в центр высветившегося места – сразу три пули.
Больше выстрелов не было. Семенов поднял упавшую лошадь, казаки поставили телегу на колеса.
– Ну что, станичники, шоколад будем собирать или оставим воронам на закуску? – спросил сотник.
– А мы чем хуже ворон, ваше благородие?
– Тогда – налетай! – скомандовал сотник.
Казаки кинулись собирать шоколад. Под оживленный шумок несколько дедков улепетнули из своих схоронок.
– Тьфу! – Семенов выругался.
– Ваше благородие, сейчас изловим, порубаем…
Сотник вспомнил совершенно не к месту, что его обожаемый государь-император Николай Александрович состоит в близком родстве с германским кайзером, да и женат государь на немке[17], сотнику стало жаль стариков в коротких, обдрипанных понизу шинеленках, и он отрицательно мотнул головой:
– Не надо! Пусть живут!
– Тогда, может, каждому по одной ноге оттяпать? Чтобы не бегали так шустро?
Семенов вновь отрицательно мотнул головой:
– Не надо!
– Как скажете, так и будет, ваше благородие.
Вот там-то, в чужой стороне Семенов первый раз в жизни – раньше такого не было – почувствовал, как в подмышках у него возник нехороший холодок, споро побежал куда-то вниз и исчез, и сотник вдруг понял, что всю жизнь ему придется принимать решения – пролить чью-то кровь или нет, но в отличие от нынешнего дня, когда он делает что хочет, у него будет полным-полно случаев, в которых ему придется – даже если он и не захочет – проливать чужую кровь. Осознание этого вызвало у сотника некую оторопь, он опять покрутил головой, глянул на заснеженное поле, на сбившиеся в кучу продуктовые возки и запоздало понял, что война – штука постылая.
Еще он неожиданно понял, что у немцев не хватает саней, они у себя в Европах привыкли больше на колесах разъезжать… Даже в холодную пору. Поэтому и здесь разъезжают на колесах по снегу и проигрывают сражения. Это маленькое открытие родило в нем слабую улыбку, некое удивление – какие все-таки разные люди живут на свете – и одновременно уверенность в том, что в этой войне русские обязательно победят. Однако, как показали последующие события, Семенов ошибался. Русские через три года, сами того не желая, подписали позорнейший мир[18].
А в упомянутый день казаки объелись шоколада – двери сортиров не закрывались, – в то время как старички-ландштурмисты голодали. Они проклинали казаков, подтягивали ремни на штанах сразу на несколько дырок, шатались по дворам, выпрашивая еду у местных жителей, и с тоской поглядывали на запад, где располагалась сытая Руда, из которой пришли.
Следующий продуктовый обоз немцы пустили ночью, постарались сбить его компактно, погрузив еду всего на несколько возов, охрану же выставили минимальную, посчитав, что так обоз привлечет меньше внимания.
Но глазастые наблюдатели из сотни Семенова обоз засекли – не помогли немцам ни вязкая ночная темнота, в которой все растворялось – даже кончика собственного носа не было видно, – ни то, что немцы попытались обогнуть село Зеленое, пройти лощинами, увалами, под прикрытием леса. Даже тот факт, что в этот раз немцы решили обойтись только санями, тоже сработал против них – снег скрипел под полозьями наждачно, громко, этот звук был слышен на добрые два-три километра, под колесами он тоже скрипел бы, но меньше – в общем, и тут промахнулись германцы.
Казаки свалились на них огромным снопом, накрыли разом, и ни ездовые, ни их охранники ничего сообразить даже не успели, как вдруг оказались повязанными, с кляпами во рту. Кляпы им пришлось сунуть из-за одного дедка в сапогах, на которые были натянуты валенки с разрезанными голенищами – похоже, он был старшим в обозе, – дедок начал блажить так, что в лесу с деревьев посыпался снег, и замолк он только тогда, когда в рот ему всадили свернутую в рулон рукавицу.
Наутро у казаков вновь – понос: горький немецкий шоколад и марокканские сардины плохо действовали на их желудки. Казаки даже двери сортиров не запирали, чтобы проскакивать к нужнику без остановок и осложнений.
А ландштурмисты от голода уже выть начали – они не привыкли, чтобы с ними так обращались.
В следующий раз немцы снарядили длинный обоз и выделили ему мощную охрану – целый эскадрон. Эскадрон – это главная сила, охранявшая деревню Руду. Раз он оттуда ушел, значит, остались в Руде одни инвалиды да больные. Семенов подкрутил усы и произнес довольным голосом:
– Хар-рашо!
Семенов пропустил обоз мимо, восхитился четкостью кавалерийского каре, охранявшего возы с едой: немцы двигались торжественно, не ломая линий, будто в Журамине их должен был встретить сам кайзер Вильгельм, принять парад и раздать медальки за усердие – желанную награду для всякого немецкого солдата.
Когда обоз скрылся, Семенов неторопливо забрался на коня. Сказал своим казакам:
– А мы, ребята, сейчас пойдем в обратном направлении.
– Куда, ваше благородие?
– В деревню Руду.
– Так в ней столько войск… Неужели они отдадут Руду?
– А куда они денутся? Конечно отдадут. Вперед! – скомандовал Семенов, направляя коня прямо на плетень. Конь легко взял преграду. Семенов на скаку оглянулся, призывно махнул рукой и скомандовал вновь: – Вперед!
Ох, как он любил такие моменты! Ветер, твердый железный ветер военной зимы свистит не только в ушах, но даже в зубах, под копыта лошадей уносится серый неопрятный снег, испятнанный следами подков, человеческой топаниной, какими-то тряпками, примерзшими к наледям, крупной конской картечью, разворошенной воробьями и воронами, а сердце при этом мечется в груди от холодного победного восторга, оно то отзывается болью, то щекоткой, то обозначится под ключицей, то гулко заколотится в разъеме грудной клетки, то возникнет еще где-то, рождая внутри хмельное состояние.
Во время скачки ветер выдувает из головы все лишнее, и вообще все желания, кроме одного – желания во что бы то ни стало перекусить горло врагу, и все естество, все мысли подчинены только этому, и тело в атаке группируется само по себе, оно само чувствует опасность, само готово сохранять и защищать себя.
Одолев горбатое неряшливое поле, сотник нырнул в лесок, придержал коня, ожидая, когда его нагонят казаки – те ссыпались в лесок гулкой густой лавой, и хотя их было немного, всего двадцать человек, впечатление создавалось такое, что скачет целая сотня. Семенов довольно улыбнулся – это было то что надо.
Казаки окружили его. Звероватые забайкальские лошаденки защелкали зубами, будто собаки.
Сотник не выдержал, засмеялся – настроение у него было приподнятое, он вытянул из ножен шапку и с громким лязганьем вогнал ее обратно. Казаки повторили это движение – со временем оно вообще войдет у них в привычку, в обычай, – слитое металлическое лязганье прозвучало настоящим громом, сотник снова засмеялся и широко загреб рукою воздух:
– За мной!
Из одного леска казаки переместились в другой, потом в третий, просочились сквозь прозрачную рощицу и лавой вынеслись на поле перед самой деревней.
Сотник скакал первым, пригнувшись к шее лошади и азартно покхекивая на ходу. Ему показалось, что от крайнего дома, где был вырыт окоп, сейчас по казакам хлестнет горячая пулеметная струя, рассечет пространство, и он, спасаясь от нее, пригнулся еще ниже, но в следующий миг поймал себя на этом и недовольно отплюнулся на скаку: еще не хватало скрываться за конской шеей. Ни за конскими шеями, ни за человеческими спинами он скрываться не привык.
Выхватив из ножен шашку, он заулюлюкал азартно, громко, зло. В конце улицы увидел заморенного, худого, как заяц по весне, полупарнишку-полустаричка, представителя рабочего класса Германии, кинулся за ним, тот совсем как обычный русский мужик сиганул через плетень и был таков.
– Шельма! – прорычал на ходу Семенов, крутанул над головой клинок – аж самому холодно сделалось от стального ветра, кулаком примял на темени папаху, чтобы не свалилась, прорычал вторично, то ли негодуя, то ли, наоборот, восхищаясь бесстыдно драпанувшим ландштурмистом: – Шельма!
Сбоку ударило два выстрела, оба из винтовки дуплетом – стреляли двое, один стрелок вряд ли бы успел так быстро перезарядить винтовку. Семенов махнул рукой влево, и в то же мгновение через забор легко перемахнули на лошадях два его казака.
Послышался истошный крик, уже ставший таким знакомым:
– Казакен!
Деревня Руда разбегалась. Ландштурмисты, словно тараканы, старались забраться в какую-нибудь щель, спасаясь от казаков; то там, то тут раздавались надрывные, словно вместе с нутром вывернутые наизнанку, крики:
– Казакен!
Семенов увидел прямо под собою, под брюхом коня, толстого, с выпученными глазами-маслинами ландштурмиста – турка либо грека, а может, и немца, родившегося на юге страны, – с кучерявящимися черными волосами, вылезающими из-под каски. Ландштурмист выкинул обе руки, загораживаясь от страшного казачьего клинка, Семенов хотел ткнуть его шашкой, как копьем, но передумал, остановил руку – жалко стало этого шашлычника. А тот, благодарно взвизгнув, откатился к плетню, Семенов пронесся мимо, упрекнул себя за недозволенную на войне мягкотелость, отплюнулся привычно.
Жалко было рубить стариков. Кто Германию будет восстанавливать, когда закончится война и русские победят? Не победителям же брать в руки лопаты с мастерками. Не было у Семенова никакого чутья. А с другой стороны, не это было важно, не это главное. Главное, чтобы шашка во время удара о вражескую черепушку не вылетала из руки.
Семенов снова отплюнулся.
Одного ландштурмиста он все-таки зарубил – тот, с длинным лошадиным лицом и жесткой щеткой волос на голове, ощерил зубы, ткнул в сторону сотника плоским, похожим на нож для резки хлеба штыком, Семенов даже усмехнулся – и чего это дедушка пыряет в него штыком за десять метров, от страха спятил, что ли, но в следующий миг, словно что-то предупредило сотника об опасности, он резко послал коня в сторону. Сделал это вовремя. Успел. Пуля, которую выпустил ландштурмист, чиркнула по погону, сорвала его, сотник даже ощутил жар раскаленного металла.
– Вот сука! – воскликнул Семенов изумленно, направляя коня на ландштурмиста, рубанул немца прямо по щетке волос.
Ландштурмист хотел защититься от сотника винтовкой, выставил ее перед собой, будто дубину, Семенов изловчился, направил шашку вдоль винтовочного тулова – на плечи ландштурмиста только мозги выбрызнули, бледно-розовые, с каким-то туманным помидорным налетом. Располовиненное лицо ландштурмиста залилось кровью, только в самом низу головы, почему-то скатившись на подбородок, страшно и одновременно весело скалились чистые белые зубы. Так ландштурмист со скалящимися зубами и свалился в снег.
Больше выстрелов не было.
Через двадцать минут казаки – шумные, довольные собой – съехались на небольшой площади, обложенной крупными гладкими камнями. Белов по обыкновению отнял у кого-то из ландштурмистов бутылку с местным первачом – польской свекольной самогонкой некрасивого сивушного цвета, – собрался было выдернуть из горлышка кукурузную пробку, но сотник погрозил ему кулаком:
– Нельзя!
– Ваше благородие! – взмолился Белов.
– Пить будем потом, сейчас нельзя, – произнес Семенов жестким, каким-то чужим голосом; этот непривычно чужой, звеневший металлом голос он незамедлительно засек, услышал его словно со стороны, поморщился и добавил: – Спрячь бутылку, Белов!
– Так холодно же ж, ваше благородие. Простудиться можно.
– Спрячь!
– Что будем делать дальше, ваше благородие?
– Ждать!
Хреновая это штука, особенно на войне – ждать. Ожидание и в мирное время не слаще горчицы, вытягивает из человека все соки, выматывает так, что он, бедняга двуногий, сдавать и стареть начинает в несколько раз быстрее положенного, а уж по части нервов, то они вообще за пару дней могут превратиться в гнилые нитки, и ничем их ни залечить, ни заменить: прель есть прель…
– Может, догнать кого-нибудь из ландштурмистов и пощекотать кончиком шашки? – спросил Белов, с сожалением затыкая бутылку початком и засовывая ее подальше от глаз командирских в переметную суму – слишком сумрачным и тяжелым сделался взгляд сотника, лучше не рисковать. – Все веселее будет.
– Валяй. Но времени на эти тараканьи игры даю немного – два часа. Через два часа все должны быть здесь, на этой площади, – сотник примял ногою хрусткий сухой снег, – все, до единого человека.
Он рассчитывал так: эскадрон, который ушел с обозом в Журамин, к вечеру поспешит обратно, ночевать в Журамине не останется, немцы ночевать в чужих постелях не привыкли и обязательно вернутся – на этом и строил свою стратегию сотник Григорий Семенов.
А что касается науки ждать, то ее надо осваивать, она такая же важная в военном деле, как и наука наступать.
Белов покрутил головой в поисках напарника, но никому не хотелось бить ноги ни себе, ни коню и охотиться на ландштурмистов – гоняться за этими тараканами в поле себе дороже, и Белов утих, скис и через десять минут об охоте уже не вспоминал.
Прямо на площади, на земляной обочине, проступившей сквозь снег и поблескивавшей оттаявшей мокретью, развели костер и, вогнав в размякший рыжий суземок два кола с рогульками, развели костер. Огородили перекладину, навесили ее на рогульки и украсили черным закопченым котелком – с некоторых времен эту легкую, склепанную из алюминиевого листа посудину с собой возил Никифоров – выполнял негласное общественное поручение.
Казаки – люди в большинстве своем обстоятельные, питаться всухомятку без горячего не привыкли, так что котелок, два месяца назад найденный в немецком обозе, оказался очень кстати. Никифоров при общем молчаливом согласии оприходовал его, проверил на дырявость, почистил снегом, льдом – «шоб вони фрицевой тут не осталось ни капли» – и теперь тешил горячей едой дружков своих Белова да Лукова, ну и остальных станичников – тоже.
Луковских жирных зайцев тоже приспособились готовить в этом котелке, прежний котел был уж очень здоров, хотя алюминий – металл не для жарева и тушений, он мигом притягивает к себе всякий кусок мяса, заставляет его дымиться, за таким котелком глаз да глаз нужен, иначе все очень быстро сгорит, кроме зайчатины в нем и супы варили, и диковинное блюдо, похожее на лапшу – длинные лохматые стебли, скатанные из теста, под названием макароны: то ли немецкое, то ли итальянское, то ли папуасское изобретение… У всех, кто смотрел на хозяйственную троицу – Никифорова, Лукова и Белова, – душа начинала невольно радоваться.
Расселись вокруг костра, лошадей поставили рядом, на морды им накинули мешки с трофейным овсом.
– Спасибо немакам, – всякий раз кланялся Белов, насыпая овес в торбы, – от моего коня – особенно. – Белов с шутовским видом совершал второй поклон.
– Надо бы ближайшие дома проверить, – произнес Семенов с озабоченным видом, – вдруг там кто-нибудь из немцев застрял? Не то вытащат пулемет да начнут садить по нашим головам – вот тогда мы и закукарекаем.
На неровной узкой улочке, ведущей к центральной площади деревни, показался сгорбленный человек с клюкой, небритое лицо его было сосредоточенно, он держался одной стороны улицы и почему-то опасливо поглядывал вверх, на крыши домов.
Казаки, увидев этого человека, замолчали – что-то необычное было сокрыто в нем, сколько годов было ему – не понять: могло быть и тридцать пять, и сорок семь, и семьдесят шесть – есть категория людей, которая живет вне времени, поэтому возраст их определить невозможно. Этот человек принадлежал к таким людям.
– Белов, – тихо обратился к казаку сотник, – подсоби-ка дедку.
Казак подвел непрошеного гостя к костру.
– Вот, ваше благородие, говорит, что в восемьсот семидесятом году был в России.
– Почти полвека назад, – уважительно проговорил сотник, подвинулся, освобождая место рядом с собой.
Вид у гостя действительно был вневозрастной, на висках – ни одной седой волосинки, но старческая редина и просвечивающая сквозь прозрачно-темные волосы дряблая кожа делали поправку, слезящиеся глаза с красными веками тоже не могли принадлежать молодому человеку.
– Он и по-русски гуторит вполне сносно, – сообщил Белов.
– Да, да, да, – закивал головой пришелец, – я был Россия, пришлось узнать русский.
– А чем вы занимались в России?
– Я… я… как это? Момент, – предупредил он, полез в карман, достал оттуда старые часы в медной узорчатой луковице. – Вот. Я ремонтировайт это вот. – Он нажал на кнопку, одна половинка луковицы отворилась, послышалась чистая серебристая мелодия. – Видите?
Сотник перегнулся через плечо старика, глянул на луковицу, одобрительно поцокал языком.
– Хорошие часики, однако.
– Сам собрал, – похвастался пришедший, – из отдельных деталей.
– А корпус, луковицу как – тоже сами делали?
– Корпус нет, корпус я взял от старых русских часов и подогнал под него механизм.
– Немцы, что стоят здесь, в Руде, они как… не обижают вас?
– Не-ет. Смирные люди. В основном старики.
– А кавалеристы? Отсюда высыпал целый эскадрон.
– И кавалеристы ничего. Когда спят, – пришедший засмеялся, смех у него был молодым и звонким, будто у мальчишки, – вместе с лошадьми.
Сотник протянул руки к огню, погрел их, потом задумчиво похлопал плеткой по голенищу сапога. Спросил у незваного гостя в упор: – Кто-нибудь из немцев в деревне остался? А? С одной стороны, мы вроде бы всех их выкурили, а с другой… А? Всякое ведь может быть… А?
Он не рассчитывал, что бывший часовщик ответит взаимностью – пришедший был немцем, а немец немца выдавать не станет.
Незваный гость молча подвигал из стороны в сторону нижней челюстью – соображал… Семенов понял – настаивать не надо, хотя ответ может быть всякий. В том числе и с выстрелами. Война на то и война, чтобы на ней стреляли. Выстрелы в Руде могут загрохотать в любую секунду.
– На нет и суда нет, – произнес сотник миролюбиво.
– Я очень хорошо отношусь к русским, – наконец проговорил пришелец, вздохнул, глаза его затуманились – видно, с Россией у него были связаны хорошие воспоминания.
Пауза была затяжной.
– Весьма похвально, – произнес Семенов.
Пришелец повернулся к улице спиной, приблизил лицо к сотнику, проговорил тихо и совершенно бесцветно:
– В третьем доме с краю находятся два немецких офицера.
Сотник присвистнул:
– Застряли, значит, голуби…
– В общем, вы… ваше дело военное, вы тут разбирайтесь, а я топайт дальше. – Бывший часовщик обстукал клюкой землю перед собой, словно пробовал ее на твердость, и, не прощаясь, двинулся дальше.
Некоторое время был слышен стук его клюки, а потом он стих.
Белов, сидевший на корточках у пламени, проводил пришельца взглядом и вскочил на ноги:
– Разрешите мне, ваше благородие… Я мигом растрясу эту перину.
– Погоди, Белов, – осадил его сотник. – Рано пока. Минут двадцать выждем. Иначе мы выдадим этого мастера вместе с его часами и вообще со всеми потрохами.
Через двадцать минут Белов, взяв с собою двух дружков, Лукова и Никифорова, неспешно двинулся по улице. Винтовки все трое держали на весу, патроны сидели в патронниках – в любую секунду казаки были готовы стрелять. Лица казаков имели одинаковое отсутствующее выражение, лишь в глазах поблескивало любопытство. С одной стороны, им интересно было увидеть, как живут люди в чужой стороне, с другой – по телу полз холодок, предупреждающий об опасности, все-таки они находились на войне.
– Богато живут, – завистливо произнес Луков, – нам бы так.
– Придет время – и мы заживем так же, – убежденно заверил приятеля Белов, – в России ведь как – то понос, то золотуха, то война с Японией, то плохая погода, то барин вдруг оказался круглым дураком. Для того чтобы было хорошо, надо, чтобы все это совместилось. Когда совместится – все будет великолепно.
– Такого не будет никогда.
– Не скажи, друг сердечный, построим дороги – станем жить, как кум королю. – Белов засмеялся.
Луков не выдержал, выругался беззлобно:
– Болтун!
Дом, где находились немецкие офицеры, казаки взяли в клещи – выйти из него незамеченным было невозможно, главный вход выводил на широкую, застекленную до самой крыши веранду, хозяйственная дверь, в русских подворьях считающаяся черной, была не в задней стене, как положено, а в боковой части дома, хорошо видимой с улицы, от этой двери к сараю, увенчанному высокой двухскатной крышей, будто боярской шапкой, вела темная, хорошо натоптанная дорожка – там находился сортир. Было слышно, как в сарае нервно квохчут куры.
Окна дома, завешенные легкими шторками, были темны и безжизненны. Ни одна из шторок не шелохнулась, когда казаки подошли к дому.
Белов дал команду остановиться, едва приметно примял рукой воздух – стойте, мол, здесь, – а сам, пригнувшись, беззвучно влетел на крыльцо и вошел в дом.
Было тихо. На высоком, веретеном вытянувшемся к небу тополе шебуршали мелкие розовогрудые птахи, очень похожие на наших снегирей, да о чем-то негромко и важно переговаривались несколько ворон.
Прошло минуты три… пять минут – ничего, кроме птичьего шебуршанья да миролюбивого бормотка ворон, не было слышно. Никифоров недоуменно переглянулся с напарником – уж не пришибли там их приятеля?
Прошла еще пара минут. Воздух словно загустел, стал холодным, появилось в нем что-то звенящее, тревожное, будто где-то рядом натянулась гитарная струна и ветер, прилетающий с недалекого поля, играл на ней свою печальную песню. Луков вздохнул, переступил с ноги на ногу и решительно взял винтовку наперевес:
– Что-то случилось. Надо выручать братку.
Никифоров ухватил его за рукав, мотнул головой, останавливая.
– Ты чего? Убьют немцы Белова…
Луков не ответил. Никифоров продолжал держать приятеля за рукав.
Прошло десять минут.
Дверь с треском растворилась, на веранде показался Белов, живой и невредимый, повел стволом винтовки в сторону, освобождая проход:
– Пожалуйте, ваши благородия!
На веранду вышли два офицера – одетые по-зимнему, в шинелях с меховыми воротниками, затянутые в ремни, оба в пенсне, носатые, бледнокожие, похожие друг на друга, словно близнецы-братья.
– Чего так долго? – Луков потопал сапогами по снегу. – Мы чуть дуба не дали, тебя ожидаючи.
– Да вот, их благородия изволили затяжно собираться, все капризничали. – Белов толкнул одного из офицеров прикладом винтовки в спину, под лопатки. – Шагай, шагай, клешнястый!
Казаки повели офицеров к костру. Те шли молча, горбились, когда замечали, что из окна кто-то пытается рассмотреть, кого ведут. Под роскошные каскетки у офицеров были натянуты аккуратные, связанные из верблюжьей шерсти подшлемники с утолщенными наушниками.
– Нам бы такие! – произнес Луков, с завистью глядя на наушники.
Белов хмыкнул:
– Может, тебе еще теплый ночной горшок, подогреваемый дровами, выписать со склада? На что заришься, черная кость? Нос не дорос! Вот отрастишь себе шнобель, как у этих немаков, – тогда и получишь право на шерстяные наушники.
– Можно пристрелить их, а наушники снять.
– Тебе сотник за такие речи оторвет все, что висит ниже подбородка – ноги, руки и все остальное. Я и сам немаков, не люблю, но стрелять в пленных не позволю.
Увидев пленников, сотник Семенов поднялся и, нависнув над костром, похлопал в ладони: «Браво!», потом гостеприимно повел рукой:
– Садитесь, господа хорошие!
Пленные угрюмо смотрели на него и молчали.
– Садитесь, садитесь, в ногах правды нет.
В глазах пленных возник страх – они не понимали, о чем говорит русский офицер. Семенов, усмехнувшись, пояснил:
– Это пословица такая… Садитесь, садитесь. Зитцен зи битте!
Услышав несколько знакомых слов, пленные приободрились. Один из них неожиданно вскинул голову, разом становясь похожим на жирафа, и проклекотал:
– Я буду жаловаться!
Семенову сделалось весело, он рассмеялся, показывая мелкие чистые зубы:
– Кому жаловаться? Кайзеру Вилли? До Вильки это дело не дойдет. Нашему государю императору? Тоже бесполезно. Так что пишите бумажку, мы ею подотрем задницу самому прожорливому коню. Так что садитесь, господа, пока приглашают.
Пленные офицеры замялись – земля около костра была влажной, замусоренной – Семенов это понял, приказал:
– Никифоров, найди для господ германцев пару чурбаков, не то они задами к земле примерзнут. Они, оказывается, не только белоручки, не только белоножки, но и беложопки.
Никифоров приволок пару толстых круглых обрезков, вначале один, потом другой; офицеры, чопорно поджав губы, уселись на них.
– Эх, знал бы я немецкий «шпрехен», мы бы сейчас здорово поговорили, – сказал Семенов. – А так остается только «цирлих-манирлих» разводить руками по воздуху в разные стороны. Тьфу, неучи мы!
– Не расстраивайтесь, ваше благородие, – успокоил Белов, – еще не вечер… И немецкий успеете выучить, и английский.
– Успеть-то успею, только зачем? Дед у меня без всякой грамоты сумел столько Георгиевских крестов заработать, что их вешать некуда было – на рубахе места свободного не оставалось.
Дед сотника был известным среди забайкальцев рубакой – ловкий наездник, меткий стрелок, шашкой владел, как фокусник, никто не мог сравниться с ним в этом деле. Однажды он ускакал в монгольскую степь и исчез, соратники по караулу уже похоронили его, когда он объявился в селении. Объявился не один – следом, ловко сидя на гнедом породистом коне, ехала тоненькая, с розовиной на смуглом красивом лице и глазами, похожими на драгоценные камни, юная монголка.
– Познакомьтесь, – сказал он и поклонился односельчанам, монголка тоже поклонилась. – Это – моя жена. Среди монголов известна тем, что она – единственная женщина, которой в дацане[19] дают «Джаммпаду» – книгу истин.
Монголка снова поклонилась казакам.
Позднее казаки Дурулгеевской станицы с удивлением узнали, что она принадлежит к царскому роду, прямым предком ее является сам Чингисхан. Дед, которого и без того уважали в забайкальских степях, стал уважаем еще больше – надо же, монгольскую царицку охомутал.
Семенов выделил немецким офицерам двух конвоиров и одну верховую лошадь – офицеры сели на нее друг за дружкой, недоуменно закрутили головами, словно соображая, как они выглядят со стороны, смешно или не смешно, – и отправил в тыл, в штаб бригады. Конвоирам наказал:
– Двигаться старайтесь рощицами, низинами, в окрестностях Журамина будьте осторожнее. К ночи я жду вас обратно. У меня каждый клинок на счету. Понятно, служивые?
– Так точно! – бодро гаркнули те.
Вернулись они, как принято говорить, «в самый аккурат», когда немецкий эскадрон вместе с пустыми подводами выступил из Журамина в Руду.
Семенов довольно потер руки – этого момента он ждал весь нынешний день. Оглядел станичников.
– Ну что, однополчане, покажем немакам, как раки на горе умеют свистеть?
– Как будем действовать, ваше благородие? – не замедлил задать вопрос Белов.
Вот шустряк. Всегда норовит быть шустрее паровоза – бежит перед ним по чугунной колее, попукивает, хриплым гудком пространство оглашает. Тьфу!
– Внезапно, – ответил сотник. – По моей команде. А пока – рассредоточиться по дворам. Чтобы не видно нас было и не слышно.
Немцы возвращались в Руду расслабленные – операция удалась, два батальона несчастных ландштурмистов, воющих от голода в Журамине, накормлены и напоены, казаков не видно – похоже, они ушли, – повод быть собой довольными у немцев был.
Всадники потирали руки – наконец-то они доберутся до тепла, напьются горячего чая с грогом, поедят свиных сарделек с тушеной капустой – повар, наверное, уже все жданки прождал, выглядывая из-за трубы полевой кухни, ждет их, не дождется… Едва немцы вошли в село, как из-за заборов раздался громкий лешачий гогот, следом – резкий свист, от которого у немецких кавалеристов побежали по коже мурашики.
– Казакен! – не выдержал кто-то из них, закричал громко, разворачивая коня.
Эскадрон, державший строй, смешался в несколько мгновений и превратился в обычную кучу малу, всадники сбились, некоторые из них, перемахнув через забор, поскакали в чистое поле, кто-то вытянул саблю из ножен, собираясь рубиться, но в ближнем бою, клинок на клинок, немцы уступали казакам, были слабы. Слишком внезапным оказался для немцев леденящий душу гогот, возникший словно из-под земли, из чертенячьей глубины, а следом из этой глуби выскочили и сами казаки – яростные, жестокие, лохматые, с пропеченными до темноты восточными лицами. От свиста и улюлюканья казаков с деревьев даже снег посыпался.
Несколько немцев сдались сидя прямо в седлах, подняв руки, – казаки посдирали с них перевязи с саблями, ремни с револьверами, карабины, – остальные ринулись в поле, назад к Журамину, под прикрытие винтовок ландштурма – только белая холодная пыль взвилась высоким столбом. Что-что, а по части драпанья немцы имели опыт и кони их держали хороший ход. Забайкальцам на своих низкорослых лошаденках догнать их было трудно.
Немецкий эскадрон был полновесный, пятьдесят сабель, у Семенова же было всего двадцать клинков. Взял сотник не числом, а умением.
Прискакавшие в Журамин конники внесли смятение в ряды ландштурма – накормленные до отвала и напоенные до ноздрей старички подняли ор – надо немедленно идти на соединение со своими, в Журамине они погибнут все, до единого человека.
Ландштурм начал поспешное отступление из Журамина. А Семенову это только и надо было – в Журамине ландштурмисты хоть плетнями были защищены да заборами, а в чистом поле оказались бы голенькими, как на ладони. Казаки Семенова ударили по ним залпом из винтовок, потом дали еще залп. Старички вылетали из фур, будто голуби, только ноги в укороченных теплых сапогах взметывались вверх да поле оглашалось жалобными стонами.
Добыча, которую взял сотник Семенов, была богатая: «около ста пленных и обоз в двадцать телег».
«За это дело я был произведен в следующий чин, за отличие», – написал он четверть века спустя в биографической книге «О себе».
Спокойная жизнь длилась недолго.
Начались затяжные бои, а с ними – полоса неудач. Приказом генерала Крымова два казачьих полка – Первый Нерчинский и Уссурийский – были пересажены с лошадей на «свои двои», попросту говоря, спешены. Спешенным полкам было велено готовиться к форсированию реки Дресвятицы.
У реки этой оказались сосредоточены ни много ни мало тридцать кавалерийских дивизий, и две дивизии пехотные; кулак сколотился такой, что если он ударит по немцам как следует, по-русски, то разом прорубит дыру сквозь всю Европу, прямо до самого Берлина; во главе кулака был поставлен генерал Орановский – человек, как впоследствии оказалось, вялый и пустой. Максимум, что он умел делать – сохранять сапоги зеркально начищенными в самую лютую грязь да трубно сморкаться в надушенный батистовый платок.
По коню своему, уведенному в тылы дивизии, Семенов скучал здорово – словно по близкому другу, пришедшему с ним в эти края с родного кордона, – в нем рождалось ощущение потери, чего-то печального, даже скорбного, как будто не стало человека, которому он доверял. Вроде бы только что вместе шли в атаку, вдруг пуля – вживк! – и Семенов остался один.
Река Дресвятица была коварной. Узкая, глубокая, с ямами, из которых на отмели выползали полуторапудовые сомы, норовили тяпнуть за ногу какого-нибудь зазевавшегося солдатика, она имела очень топкие, сочащиеся черной сукровицей берега. Лишний раз на такой берег не ступишь – увязнешь по пояс.
Приказ форсировать Дресвятицу пришел ночью, а ранним утром, когда немного развиднелось и можно было хотя бы чуть-чуть различить соседа, находящегося в строю. Первый Нерчинский полк выдвинулся к реке.
На конях была оставлена только одна сотня под командой Жуковского – человека храброго и одновременно рассудительного. Обгоняя пеших казаков, эта сотня ушла вперед. Через несколько минут она разобрала стоявший в излучине реки небольшой темный сарайчик, где хозяева коптили рыбу, из его досок соорудила несколько плотиков. Раскатанные, выдернутые из пазов бревна казаки также аккуратно связали, пустив на это целую бухту найденного в загашнике у рачительного хозяина сизальского[20] каната.
Вскоре на немецкой стороне послышались выстрелы, крики, перекрытые громким «ура», затем – запоздалый пулеметный стук, который был тут же задавлен.
– Аллес капут![21] – пояснил Семенов своим казакам, выбравшись на противоположный берег Дресвятицы и отряхиваясь. – Жуковский оттеснил немаков на вторую линию. Молодец сотник!
Воздух разрезал шелестящий звук, словно кто-то невидимый, громадный располосовал ножницами небесный полог – странный, вышибающий мурашики на коже шелест оборвался, и в воду шлепнулся тяжелый снаряд. Вода разом вскипела, вверх взметнулось сеево черных брызг, на берег накатилась высокая волна, ухватила Семенова за сапоги и попыталась стащить назад в реку. Семенов напрягся, просипел протестующе:
– Дрысь, дур-ра!
Он так и не понял, с чьей стороны пришел снаряд, с нашей или с немецкой, выругался матом. Волна отпустила его – щупальца оборвались, отползла малость назад, но с реки на смену ей уже накатывала вторая волна, больше первой, грязная, с лохматым гребнем, который украшала сечка из изрубленных осколками водорослей. Свертывающаяся в рулон вода гудела устрашающе, будто паровоз, сорвавшийся с колодок; Семенов заторопился, выдернул из засасывающего обжима земли одну ногу, поморщился от неприятного чавкающего звука, напрягся, вытаскивая вторую ногу, почувствовал, что она вместе с портянкой вылезает из сапога. Сотник засипел, лицо его сделалось красным, казаки и слева и справа уже вынеслись на берег и, держа наперевес карабины, унеслись в серый, страшновато шевелящийся, будто он был живой, туман. Когда вал находился уже совсем близко, Семенов успел ухватиться одной рукой за ивовый куст, сползающий с берега в воду, в другой руке продолжал держать карабин, в следующий миг вал накрыл сотника с головой.
Семенов вытаял из отползшего назад вала, отплюнулся с руганью, вылил из ствола карабина воду – в такие передряги, когда он чувствовал себя совершенно беспомощно, будто калека, не попадал с поры детства. Одно было хорошо – застрявший сапог словно сам по себе зашевелился, и Семенов смог выдернуть его из ила. В следующую минуту он вымахнул на берег, перепрыгнул через свежую, еще дымящуюся воронку – след немецкой гранаты – около которой лежал незнакомый казак-уссуриец. Надо было бы проверить – вдруг он живой, и если живой, оказать ему помощь, но слишком уж нескладно казак сложился, и эта нескладешность, по которой позу мертвого человека всегда можно отличить от позы живого, говорила, что он мертв, к тому же и время не ждало, поджимало – за эти минуты его сотня могла оказаться уже бог знает где, и сотник не останавливаясь понесся дальше.
– Ур-ра-а-а-а! – послышался многоголосый крик впереди. Где-то далеко-далеко…
Но это только казалось, что крик звучит далеко впереди, пространство сильно скрадывал туман, он съедал, уводил звук в сторону. Кричавшие казаки находились всего в двадцати метрах от Семенова, не больше; сотник дернулся, отзываясь на этот крик, выбил из горла застрявшую пробку и прохрипел, вздувая на шее темные жилы:
– Ур-ра-а!
Прокричал вроде бы громко, но даже сам себя не услышал, Семенов словно оглох, ему показалось, что на огромном пространстве он остался совершенно один, надо бы остановиться, оглядеться, но он не остановился, а, разбрызгивая черную речную морось, понесся дальше.
Несколько минут он бежал один и вдруг почувствовал: впереди кто-то есть. То ли человек, то ли конь, то ли собака – не понять, но кто-то есть… Семенов метнулся в сторону, отметил про себя, что по нему сейчас очень удобно стрелять, затем сделал резкий бросок в противоположную сторону и через несколько секунд столкнулся с огромным, будто гора, огненно-рыжим немцем.
Увидев перед собой невысокого, чернявого, похожего на монгола человека, немец неожиданно обрадованно засмеялся и поманил Семенова:
– Ити сюта!
Голос у него был трубный, слова получались крупные, округлые, будто отлитые из свинца. Немец снова поманил Семенова – не сомневаясь, что раздавит этого неказистого человечишку буквально одним пальцем:
– Ити сюта!
В правой руке немец держал винтовку с плоским блестящим штыком. «Таким штыком хорошо черствый хлеб резать – идет, как по маслу», – мелькнула в голове Семенова тусклая, совершенно ненужная мысль. В руке немца винтовка выглядела игрушечной, как детское деревянное ружье.
– Ну, Ифан, – вновь позвал его немец, довольный своими познаниями в русском языке.
– Айн момент, – ответил ему Семенов, тоже довольный тем, что малость знает немецкий.
Впрочем, на этом их познания в языках кончились. Слева, в тумане, прозвучала короткая пулеметная очередь, в следующий миг оборвалась. Кто-то закричал. Немец это кричал или русский – не понять. Рыжий гигант невольно покосился в ту сторону и дружелюбно улыбнулся Семенову.
«Он что, рассчитывает взять меня в плен? Живым? – удивленно подумал Семенов. – На самом деле?»
Рыжеватые, навозного цвета глаза немца напряглись, сделались маленькими, жесткими, он перехватил винтовку поудобнее и как держал одной рукой, так и ткнул в Семенова, рассчитывая, что штык войдет тому в живот.
Слишком большая масса была у немца, слишком отяжелевшие мышцы, такие мышцы только замедляли мощный удар, а тут ни сила удара, ни масса не играли особой роли. Семенов легко, будто стебель на ветру, качнулся в сторону, отбил чужую винтовку стволом своего карабина, и немец, увлекаемый собственным весом, протащился по пространству вперед, крякнул удивленно, сотник же, увидев недалеко от себя мясистый затылок, поросший ярким красным волосом, недолго думая, хрястнул по затылку прикладом карабина.
Немец крякнул еще раз и, выпустив из рук винтовку, ткнулся костяшками пальцев в землю. Одного удара для такого гиганта мало, это Семенов понял сразу – рыжий очухается через несколько секунд, и тогда земля задрожит от его ярости, поэтому Семенов ударил немца еще раз, уже сильнее, с оттяжкой, прицельно, в угловатую костяшку, выпирающую из-под рыжей шерсти.
Гигант вновь задушенно крякнул, засипел, словно его проткнули гвоздем и в дырку стал вытекать воздух, мотнул головой – он не желал отключаться, боль его не брала – и Семенов, почувствовав, что дело для него может окончиться плохо, снова гвозданул рыжего прикладом.
На этот раз немец лег. Семенов ногой отпихнул винтовку с блестящим плоским штыком подальше от хозяина, ножом срезал у него со штанов тоненький брючной ремень и перевязал немцу руки:
– Отдыхай!
Пока он успокаивал шумного гиганта, пространство вокруг наполнилось звуками: стрельбой, вскриками, матом, воем, стонами, плачем, аханьем – эти звуки обычно сопутствуют всякому бою. Недалеко рванула граната, взбила фонтан грязи, серый тяжелый туман колыхнулся, издал гнилой треск, но не разодрался, понять, где кто находится, было невозможно. Неожиданно слева, там, где туман был особенно густой, сбился в плотный клубок, послышался отборный мат. На душе от такого мата в бою разом делается легче. Семенов устремился на мат.
Успел он вовремя – проскочил через плотный туманный взболток, будто сквозь комок ваты, и очутился на мокром горбатом пятачке, где Луков сцепился сразу с тремя немцами. Они прижали казака к старой глубокой яме, из которой торчала высокая, с толстыми окостеневшими стеблями полынь – будто волос из гигантского уха, – теперь немцы старались опрокинуть Лукова в нее. Луков отбивался. Лицо у него было в крови, щеку перечеркнул порез – то ли касательный след от штыка, то ли след ножа, кровь залила один погон, а второй погон соскочил с отодранной лямки и болтался на пуговице.
– Держись, Луков! – прохрипел сотник и навскидку, не целясь, выстрелил из карабина в немца.
Пуля попала тому в голову – расколола нарядную каску, будто старую кастрюлю, и вломилась в череп. Велика была, видно, сила пули – глаза у немца вздулись двумя шарами и вылезли из орбит, один глаз лопнул и протек кровянистым студнем на мундир. Семенова, который засекал все детали и мелочи, едва не вырвало. Немец выронил винтовку и, ничего не видя, сделал на подгибающихся ногах шаг вперед, к Лукову, тот посторонился, и немец рухнул в яму, в полынь, куда только что старался загнать казака.
Передернуть затвор карабина Семенов не успел, на сотника прыгнул чернявый, с орлиным носом и немигающими светлыми глазами унтер, поспешно ткнул в казака штыком, но тот, уклоняясь от разящего удара, резко ушел в сторону, развернулся на согнутых ногах и, увидев, что у немца остался неприкрытым бок, с силой всадил в этот бок ствол карабина. Ну будто бы штыком ударил. Немец выпрямился, глянул на сотника изумленно, не веря в свою смерть, сцепил крупкие белые зубы. Глаза его посветлели от боли.
– Найн, – выдавил он сквозь сцеп челюстей сплюснутое слово, повторил его и просел.
Он умер быстро – Семенов отбил ему что-то важное внутри, может быть, попав в само сердце, – завалился на спину, в посветлевших, ставших совсем белыми глазах его застыло неверие. Он так и не понял, что его жизнь на этом кончилась…
Редкий солдат на фронте не думает о том, что он может быть убит, все понимают, что уязвимы, ходят под Богом, а этот человек, кажется, не допускал и мысли о краткости своего бренного существования, был нацелен на жизнь, но смерть внесла свою безжалостную поправку.
Тем временем Луков доколачивал прикладом третьего немца.
– Так их, Луков, так! Гр-робокопатели! Вздумали русского мужика в землю вогнать… Нако-сь!
Стрельба стала слышаться реже. Из первой линии окопов немцев выгнали конники сотника Жуковского, из второй – все вместе, навалившись скопом.
Неподалеку от Дресвятицы находилось серьезное укрепление – кирпичный фольварк[22], обнесенный прочной стеной. Семенов, изучая карту, несколько раз останавливал на нем свой взгляд, прикидывал, как к нему подступиться, но брать его семеновской сотне не пришлось – фольварк Столповчина взяли уссурийцы. Взяли с лету, на одном дыхании. Немцы бежали из фольварка так поспешно, что даже оставили висеть на веревке недавно выстиранные подштанники и одеяла.
В конюшне фольварка остались стоять несколько лошадей – сытых задастых битюгов с обрезанными хвостами.
Дальше казаки не пошли, надо было подождать пехоту – без ее поддержки, без орудий можно было угодить в беду.
Пехота должна была вот-вот подойти.
Туман начал неспешно разваливаться, раздвигаться, тяжелые ватные охапки нехотя зашевелились, поползли вдогонку за немцами, словно собирались сделать невидимыми, откуда-то сбоку, из раздвигающихся косм пролился печальный лиловый свет. Вскоре в прореху между туманными лохмами протиснулось солнце, замигало весело, словно собиралось спросить: чем это вы здесь, люди, занимаетесь? Не слишком ли вы жестоки по отношению друг к другу?
На широком поле, примыкающем к реке, лежали убитые – в основном немцы, русских было меньше.
Семенов отыскал Лукова:
– Живой?
Луков сплюнул в кулак кровь, вытер ладонь о темную прелую траву. Семенов думал, что Луков по обыкновению отмолчится, но тот ответил:
– Живой.
– Пойдем со мною, пока наступать не начали. Я тут немца одного малость придавил – не меньше артиллерийского одера[23] будет.
– Крупнозадый, значит, дядя…
– Сотри кровь со щеки, пока не засохла, и пошли искать этого лошака – рыжий, как лубочная картинка – его за километр можно опознать.
Немца они не нашли – то ли Семенов неверно сориентировался – в тумане ведь ничего не было видно, глазу не за что зацепиться, а когда пространство очистилось, то и земля стала другой, не узнать ее, а может, немец перегрыз зубами брючной ремень и уполз.
– Тьфу! – с досадой отплюнулся Семенов. – Ведь я его здесь уложил, здесь, – он топнул ногой по земле, – вон та воронка, вон, совсем рядом, я ее засек как ориентир… Но немца нету. Тьфу!
– Ваше благородие, но воронок таких на этом поле не менее двухсот будет, – не выдержал Луков.
После боя Луков преобразился, раньше он очень часто молчал, как Никифоров, а тут сделался говорливым, будто нижегородский рабочий на маевке.
Сотник еще раз оглядел поле. Туман уполз окончательно, неряшливые клочья его висели лишь над рекой, тихо плыли, прилепившись к воде, вниз по течению, земля очистилась.
– Немец, гад, уполз! – с досадою проговорил Семенов. – Очухался и уполз. Череп у него из чугуна отлит. Я раза три грохнул его прикладом – и хоть бы хны! Уполз!
– Бывает, ваше благородие, – сочувственно проговорил Луков.
– Ладно, пошли к своим. По-моему, шевеление началось – пехота подходит.
Но пехота не подошла. Разгоряченные, готовые совершить новый бросок на немцев, казаки ругались:
– Во черви дождевые! Небось ждут, когда Дресвятица обмелеет, чтобы пешком, по дну, не замочив ног, переползти на тот берег.
Командир полка Кузнецов пробовал связаться со штабом генерала Орановского – послал туда вначале одного казака с донесением, потом другого, но ни ответа, ни казаков не было, словно посыльные до штаба не дошли. А главное – не было пехоты, которую так ждали.
– Как все-таки преступно мы упускаем дорогое время! – не выдержал Кузнецов, хлопнул плеткой по голенищу сапога. Звук получился сочный и громкий, как выстрел. – За такие затяжки виновных надо отдавать под военно-полевой суд. – Он вновь хлобыстнул плеткой по сапогу. – Немцы сейчас очухаются, соберутся в кулак и полезут на нас.
К вечеру пехота также не подошла. Казаки ночевали на плацдарме, в немецких окопах, – лучше всех устроились уссурийцы, занявшие Фольварк, – ругали генерала Орановского, называли его Бараном Барановским и были, между прочим, правы…
Теплилась надежда – пехота подойдет ночью, переправится через Дресвятицу, прикрывшись темнотой, и подопрет крепким плечом казаков, но не тут-то было: пехота не подошла. Казаки, посланные с донесениями в штаб Орановского, слава богу, вернулись, но пустые, ни с чем – в штабе им даже никакого ответа на донесения не дали, ни письменного, ни устного.
– Ну слово-то хоть какое-нибудь сказали? – допытывался у казаков полковник Кузнецов.
– Никакого. Просто какой-то капитан сделал рукой «але гоп» и отправил нас назад.
– И все?
– Все, ваше высокоблагородие.
– Ничего не могу понять, – злился Кузнецов. – Это что? Предательство, недомыслие, трусость? Кто ответит, что это?
Не было храброму полковнику Кузнецову ответа. Казаки оказались заложниками непонятной штабной игры.
Пехота ночью не пришла, не появилась она и утром. Казаки поняли, что на этом страшном плацдарме остались одни.
За ночь немцы подтянули силы, собрали их в хорошо управляемый кулак и утром пятого сентября ударили по казакам, сидевшим в окопах второй линии. Те никогда не были мастерами «сидячей» позиционной войны, любили внезапный налет, атаку лавой, партизанские рейды, войну же из-за бруствера никогда не признавали – не их это было дело.
Немцы начали молотить снарядами по прежним своим укреплениям, которые они хорошо знали; тяжелые чушки с грохотом всаживались во влажную землю. Немецкая артиллерия работала больше часа. Казаки, забрызганные грязью с головы до ног, только кряхтели:
– Совсем озверел родственничек нашего любимого государя! Ни стыда ни совести нет – лупит и лупит!
А чего, собственно, кайзеру было не лупить? Мертвое железо для него было дороже живых людей, это в России все было наоборот…
С главного здания фольварка тяжелый снаряд снес крышу и швырнул на землю за оградой. Крыша крякнула, перерубаясь пополам. С плачем взметывалась к небесам земля, вместе с грязными пластами вверх взлетали окровавленные охапки травы, куски человеческого мяса, оторванные конечности, головы. Едкий селитряный запах заполнил пространство, он вышибал у людей слезы, выедал ноздри, сдирал кожу с губ… Бывшие немецкие окопы были превращены в ад.
После артподготовки немцы пошли в атаку.
Пока оставшиеся в живых казаки протирали засыпанные землей глаза, выковыривали ее из ноздрей, изо ртов, немцы подошли совсем близко. Они передвигались короткими перебежками – падали, поднимались, бросались вперед и вновь падали – боялись казачьего огня. А казаки молчали – еще не очухались от артиллерийской обработки – и пришли в себя, когда немцы находились в пятидесяти метрах от окопов.
– Где пехота? – прокричал кто-то надорванно, с тоской и неверием в то, что видел.
Пехоты не было – генерал Орановский, разработавший эту операцию, обманул казаков, это было даже больше, чем обман – он предал их.
Семенов, тряся гудящей от разрывов головой, поймал на мушку карабина немца, что-то жующего на ходу. Немец шел неспешно, вразвалку, как на прогулке, видно, считал, что от казаков после артиллерийской обработки остались лохмотья, рожки да ножки. Сотник сощурился, смаргивая слезу, и нажал на спусковой крючок.
Выстрела Семенов не услышал – уши были забиты грохотом и звоном, увидел только, что немец перестал жевать и остановился, резко вскинув голову, будто хотел этим движением поправить каску, съехавшую на нос, глянул в одну сторону, потом в другую и повалился на землю.
– Один пишем, шесть в уме, – пробормотал Семенов хрипло, подхватил на мушку второго немца, суетливого, кадыкастого, в большой, похожей на семейный казан каске, из ее притеми поблескивали два светлых рысьих глаза.
Этот немец был полной противоположностью первому – он боялся казаков, стрельбы, пуль, что могут быть выпущены из окопа, где сидели русские, делал мелкие броски то в одну сторону, то в другую, то неожиданно пригибался и едва ли не животом ложился на землю…
– Во глист! – произнес Семенов с удивлением. – Нервный слишком! – Повел стволом карабина за «глистом» влево, потом вправо и выстрелил.
«Глист» взвился в воздух едва ли ни на метр, выронил винтовку, заверещал и легким колобком покатился по земле.
– Два пишем, пять в уме, – пробормотал Семенов. Ни выстрела, ни голоса своего он по-прежнему не слышал – уши были словно землей забиты.
Вокруг поднялась стрельба, выстрелы звучали вразнобой, беспорядочно – и хорошо, что хоть звучали, поскольку организовать залповый огонь было уже невозможно – казаки очнулись и теперь, тряся чубатыми головами, передергивали затворы винтовок и карабинов.
Сотник взял на мушку следующего немца – тяжелого, согнувшегося под плотно набитым ранцем, высовывающимся из-за спины, и широким раздвоенным посередине подбородком. Немец этот на ходу вскидывал винтовку и стрелял по окопу, на который шел, почти непрерывно – будто гвозди вколачивал.
– Дурак! – просипел Семенов, чуть приподнял мушку и мягко надавил на спусковой крючок.
Винтовка отлетела от немца метров на пять – семеновская пуля попала в приклад, взбила сноп искр и, отрикошетив, угодила немцу в низ подбородка. Нырнула под челюсть, вошла в мякоть, будто в кашу.
– Три пишем, четыре в уме, – отметил Семенов, потряс головой.
Сотник еще никак не мог отойти от оглушения, от противной слабости, пробившей дрожью все его тело, застившей глаза белесой, схожей с туманом пленкой. Он стер пленку с глаз, увидел совсем недалеко от себя проворного, как блоха, унтера с нашивками на рукаве, торопясь, выстрелил, промахнулся и, выругавшись зло, хрипло, прицелился тщательно, совсем не беспокоясь о том, что унтер уже почти навис над ним – вот-вот и он пырнет Семенова своим штыком… Либо опередит своим выстрелом.
Унтер, не спуская глаз с Семенова, качнулся влево, потом вправо, затем снова влево, неожиданно опустился на колено и, стремительно вскинув винтовку, выстрелил в сотника.
Семенов точно уловил момент – угадал, нутром поймал миг, когда унтер надавил пальцем на спусковую собачку своей тяжелой винтовки – сделал это вовремя; если сотник запоздал хотя бы на малую долю, на мгновение, пуля снесла бы ему верх черепушки, а так она лишь скользнула по верху фуражки, выжгла клок материи и всадилась в дымящуюся кучу земли, поднятую снарядом в трех метрах от задней стенки окопа.
Унтер промахнулся, а Семенов нет, он всадил пулю немцу точно между бровями. Винтовка унтера хлопнулась в грязь, подняв целый сноп черных брызг, а его самого отбросило назад.
– Четыре пишем, три в уме, – прохрипел Семенов, прочистив горло.
До окопов оставалось пройти совсем немного, и немцы одолели бы эти три десятка метров, если бы не меткая, очень хладнокровная стрельба казаков. Они хоть и были оглушены и ослеплены артиллерийским налетом, хоть и потеряли многих своих товарищей, а смогли прицельной стрельбой разрядить цепь наступающих ровно наполовину.
Атака захлебнулась, немцы проворно, валом, покатились назад, Семенов же сумел снять еще одного германца – гривастого, бородатого, с просторным мешком за плечами, в котором запросто мог поместиться человек, – он убегал, делая огромные длинные прыжки, останавливался, оборачивался в сторону казаков и, зло кривя красное потное лицо, стрелял из винтовки и снова пластал пространство гигантскими прыжками.
В одну из таких остановок Семенов и поймал его на мушку.
– Пять пишем – два в уме.
Сотник как задачу себе поставил: срубить семь вражеских голов. Число семь возникло спонтанно, вроде бы из ничего, и походило на некий родительский наказ… Семь так семь. Он прислонился спиной к грязной стенке окопа, отдышался.
Немцев уже не было видно.
«Сейчас начнется. То, что немаков не видно, – ничего не значит», – подумал Семенов с зажатой внутри тоской, оглядел своих: все ли целы?
Неподалеку от него, подложив под себя заляпанный грязью снарядный ящик, сидел, подергивая головой, Никифоров, выковыривал что-то из уха и снова тряс головой. За ним виднелся Луков, тоже живой, не покалеченный, с бледным худым лицом. Семенов откашлялся.
– Мужики, сейчас немаки снова начнут нас снарядами обрабатывать, – предупредил он. – Будьте готовы.
Казаки в его сторону даже не повернулись – сил не было. Лишь Никифоров подергал плечом и пробасил незнакомым, совершенно чужим голосом:
– Знаем, ваше благородие!
Сотник приподнялся над бруствером, выглянул. Неровное, изрытое воронками поле было усеяно трупами. Немцев валялось не менее пятидесяти, почти все с ранцами – полевым припасом, который всегда находился у них с собою. «Раз есть ранцы – значит есть жратва, – отметил про себя сотник, – казаки голодными не останутся».
Над полем, на малой высоте, будто птицы какие, тянулись хлопья дыма. Это горел фольварк Столповчина. Пахло прелью, гнилью, гарью – на этом поле присутствовали все запахи, все, кроме запаха жизни, и осознание этого рождало желание сделаться маленьким, совсем маленьким, забраться в землю и раствориться в ней.
Через десять минут в воздухе послышалось бултыханье; казалось, по небу летел чемодан, набитый тяжелыми пожитками и раскрывшийся на ходу, пожитки должны были выпасть из него, но не выпали, громыхали внутри, крышка должна была отвалиться, но не отвалилась – летел «чемодан», трепыхался в воздухе, издавал неприятный, вызывающий зуд на коже звук – промахнул через поле, через реку и на той стороне, за водой, вдали от берега, всадился в землю, завалив несколько деревьев и порубив кусты. Вода в Дресвятице приподнялась от взрыва, очутилась в воздухе.
Перелет.
За первым «чемоданом» приехал второй, азартно повизгивающий в полете, раскаленный – воздух разрезал оранжевый, окруженный искорьем болид, лег в землю в трех метрах от кромки воды.
Снова перелет.
Третий снаряд шел беззвучно. Он летел, он ощущался, но звука его не было слышно. В окопе сразу сделалось нечем дышать. Это был один из тех самых опасных снарядов – беззвучных, что обязательно накрывают человека.
– Хы-ы… хы-ы… – донесся до Семенова странный звук. Кто-то из казаков давился воздухом, пробовал протолкнуть его в себя, но никак это не получалось – он не мог продышаться. – Хы-ы-ы…
Сотник представил, как трудно этому казаку, схватился рукой за горло. Выкрикнул:
– Помогите же ему!
– Хы-ы! – Казак, которого кто-то ударил кулаком по хребту, в последний раз вздохнул, пробивая твердый воздушный комок.
Перед линией окопов плотным темным столбом поднялась земля, закрыла небо, превращая день в ночь, края окопа сдвинулись, сплющивая казаков, вбирая в себя их тела. Послышались задавленные крики.
Горячий вонючий воздух промахнул над головой сотника, больно обварил его, Семенов замычал немо, пытаясь присесть на корточки, спрятаться, но сдвинувшиеся стенки окопа не дали ему опуститься, и сотник так же, как и казаки, находящиеся рядом, закричал. По голове его ударил крупный комок земли, как страшная черная курица, свалился на погон, следом ударил еще один комок, поменьше.
Семенову показалось, что это конец, но нет – конец отодвинулся, над макушкой скрипуче пропели осколки, и сделалось тихо.
Уши словно забило ватой. Несколько секунд ни один звук не доходил до сотника, потом чуть отпустило, и до него из далекого далека донесся крик:
– Слюдянкина убило!
«Слюдянкин, Слюдянкин… – тотчас забились молоточки в тупом, но не угасшем – все-таки не угасшем – мозгу. – Кто этот неведомый Слюдянкин? – В сердце воткнулось что-то острое, заусенчатое, будто пристрял целый ворох верблюжьих колючек, Семенов напрягся, но в следующую секунду облегченно обмяк – ни в его сотне, ни в соседней казака по фамилии Слюдянкин не было. Значит, чужой, из полка уссурийцев.
Впрочем, на войне чужих быть не должно, чужими могут быть только враги. Слюдянкин – это тоже свой.
«Слюдянкин, Слюдянкин… Интересно, видел ли я когда-нибудь его?»
Сомкнувшиеся друг с другом стенки окопов медленно расползлись, комок верблюжьих колючек, прилепившийся к сердцу, будто к порткам, отцепился, сделалось легче дышать. Семенов сбросил с плеча комок земли, сдернул с головы испачканную фуражку, отряхнул ее двумя ударами о руку.
Глаза слезились, ноздри разъедала кислая пироксилиновая вонь, кажется, сердце сидело где-то в глотке, готовое выскочить наружу, но в следующий миг оно нырнуло вниз, хотя полет очередного «чемодана» даже еще не был слышен, сердце уже чувствовало его. Семенов ощутил, вжался спиной в стенку окопа, ногами, ступнями уперся в стенку противоположную, напрягся.
На этот раз «чемодан» всадился в землю еще ближе – гудящая огненная простынь накрыла окоп целиком, выжгла редкие былки травы и унеслась к реке. Людей, сидевших в окопе, подбросило вверх, потом с силой загнало обратно. Земля, взметнувшаяся к небу вместе с раскаленными осколками, также понеслась обратно, на головы казаков, засыпая окопы, заваливая тех, кто в них находился.
– Э-э-э-э! – рассек сердце протяжный крик и умолк – жил родимец на белом свете, исполнял свой ратный долг, и не стало его.
Немецкие «чемоданы» падали один за другим. Когда прекращалась артиллерийская обработка, появлялась плотная цепь немецких солдат – цветная, разношинельная, состоявшая из егерей, пехотинцев и спешенных кавалеристов.
К вечеру из двадцати восьми офицеров Первого Нерчинского полка, где служил Семенов, в живых осталось только девять. Погиб и командир полка Кузнецов. У соседей уссурийцев, которые форсировали Дресвятицу вместе с забайкальцами, также погиб командир – полковник Куммант.
Пехота, которая должна была поддержать казаков, подпереть наступление, так и не подошла, с той стороны Дресвятицы не переправился ни один человек.
Фольварк Столповчина сгорел дотла, лишь в небо сиротливыми жерлами глядели высокие трубы трех печей да еще лезла, мозолила взгляд черная решетка одной из крыш, с которой ручьем стекла на землю потрескавшаяся черепица; лес, росший неподалеку, был изуродован – ни одного целого дерева.
И все время откуда-то тянуло вонючим, вышибающим слезы дымом.
Безрадостная картина окружала казаков. Ночью оставшиеся в живых стали подтягиваться к Дресвятице – надо было, пока всех не перебили, уходить к своим.
Кого из казаков можно было похоронить – похоронили прямо в большом длинном окопе, засыпав его землей и вогнав в длинный извивистый холмик несколько деревянных табличек с фамилиями убитых, среди которых – Семенов обратил внимание – была и невольно врезавшаяся в мозг фамилия Слюдянкина; у тех, кого не сумели похоронить, попросили прощения; тела убитых полковников – Кузнецова и Кумманта – унесли с собой, на поспешно сколоченном плотике доставили на другой берег.
Переправа происходила в полной тиши, в непроглядной черноте ночи: казаки ночных атак немцев не опасались – они темноты боялись больше казаков, – поэтому переправились на свой берег без потерь.
Уже стоя на своем берегу, мокрый, усталый, злой, Семенов попытался разглядеть в ночном мраке противоположный берег – и ничего там не увидел. Клубилось, пытаясь взняться к небесам, что-то черное, плотное, неслышно встряхивало землю, но никого и ничего не было видно, словно некий мор навалился на тот берег Дресвятицы. В двух метрах от ног плыла черная холодная вода, уползала куда-то вдаль, растворялась в пространстве, и вместе с ней уползали души погибших на этом несчастливом плацдарме людей – забайкальских и уссурийских казаков. Если бы генерал Орановский кинул бы на плацдарм хотя бы один пехотный полк – казаки смогли потеснить немцев километров на пятьдесят, не меньше, сидели бы сейчас в каком-нибудь замке, дули бы из бочек старое вино… Но нет, не получилось.
Предали казаков. Свои своих же и предали.
Днем, когда догоняли полк – конная армия, оказывается, начала отступать к Цеханову, – на опушке сиротского, с облетевшей листвой леска увидели пехотинцев. При виде их Луков, обычно спокойный, погруженный в себя, не выдержал, в нем словно что-то лопнуло, сорвало сдерживающие клапаны, и он, громко втянув в себя воздух, выдернул шашку из ножен и кинулся на пехотинцев.
– С-суки! – закричал он. – Предатели! Вы нас предали! Предали!
Лицо у Лукова задергалось, поползло в сторону, глаза налились кровью.
– Нельзя, Луков! – наперерез взбесившемуся казаку кинулся Белов, вцепился в руку, сжимающую шашку, попробовал вывернуть ее, но Луков был мужиком дюжим, и тогда Белов ударил его кулаком, будто молотом, по голове – у Лукова только зубы лязгнули.
– С-суки! – продолжал реветь Луков.
– Они-то тут при чем? Это генералов надо долбать, Луков, а не пехтуру. Окопались у нас в штабах немцы, что хотят, то и делают… Разные Ранненкампфы, Орановские и прочие… Гадят нам, гадят, гадят… А пехтура тут ни при чем!
Луков ничего не слышал, продолжал бушевать, спасибо, на помощь Белову подоспел Никифоров, вдвоем они посадили его на землю и отняли шашку. Лишившись шашки, Луков словно враз сломался, опустил голову, плечи у него затряслись. Из его горла выпросталось, смолкло, возникло вновь тоненькое задавленное сипение – страшное, незнакомое, которого мужчина должен был бы стыдиться, но Луков не стыдился.
Потянулись фронтовые будни, похожие друг на друга. Семенов занялся тем, что хорошо умел делать, – носился с казачьими разъездами по немецким тылам и сеял там страх.
Под началом генерала Крымова на Северном фронте находилось две дивизии – Уссурийская конная, куда входили и забайкальцы, и Четвертая Донская казачья. Идея более крупных рейдов по вражеским тылам витала в воздухе давно, увлекала и казаков и штабистов. Увлекся ею и генерал.
Вскоре на его счету было уже пять глубоких рейдов. Ужас при виде казаков охватывал немцев, докатывался до самого Берлина. Короткое слово «казакен» жестким ветром неслось по хуторам и небольшим, очень уютным германским городкам, заставляло бюргеров прятаться в подвалы.
Один из самых лихих рейдов совершили обе дивизии сразу – с прорывом фронта в районе неприметного, но очень гадкого местечка Тришки – оно было укреплено слишком уж хорошо, ни обойти его, ни в лоб взять.
Задача перед казаками была поставлена простая: когда в лоб на Тришки пойдет наша пехота, ударить по этому зловредному, пропитанному кровью местечку с тыла.
После полуторачасового жестого боя над издырявленными крышами местечка поднялся белый флаг – немцы сдались.
Семенов со своей сотней получил задание прорваться дальше и перерезать в немецком тылу Таурогенское шоссе. Пусть там наберется побольше «воды» – людей, повозок, грузовиков, а потом этот «котелок» накрыть поплотнее крышкой и под днищем разжечь жаркий огонь, все и сварятся. Подъесаул Семенов не удержался, азартно потер руки – такие задания ему нравились.
Сотня его была усилена двумя десятками казаков – получился довольно внушительный отряд. Сметая все на своем пути, он пронесся по нескольким городкам, хуторам и местечкам, рубя выскакивающих к конникам немецких солдат, гикая дико и взбивая до небес серую снежную пыль.
– Казакен, – неслось по хуторам впереди отряда, – казакен!
И захлопывались кованые железные двери погребов, которые невозможно было взять гранатой, скрывая в своей темной глуби перепуганных бюргеров и их домочадцев; жизнь замирала не только на хуторах, где народу «раз-два, и обчелся», но даже в городах с населением в несколько десятков тысяч человек. Казаков боялись.
Однако перерезать Таурогенское шоссе сотне Семенова не удалось – слишком большие силы немцев перемещались по нему, перекрыть такую трассу можно было только силами дивизии. Молва о казаках неслась далеко впереди семеновской сотни, и немцы стали заранее готовиться ко всяким неожиданностям, казаков старались не подпустить даже к насыпи – начинали бить из пулеметов. Кроме того, немцы организовали здесь патрулирование, и четыре грузовика постоянно курсировали по Таурогенской дороге туда-сюда: несколько раз казачки пробовали выбраться на шоссе и всякий раз натыкались на грузовики и пулеметы.
Огонь немцы открывали сильный – мышь не проскочит. А казаки – не мышь… Приходилось откатываться от шоссе. И хотя сотню Семенова утяжелили несколькими пушками на конной тяге, но те не помогли летучему отряду – у немцев орудий было более чем достаточно.
Немцы, решив запереть отряд Семенова, бросили против него целый батальон – он-то и должен был загнать казаков в мешок, а заодно взять под усиленную охрану единственный мост через реку Венту.
Впрочем, в мешке этом оказался не только отряд Семенова – оказалась целая дивизия вместе с генералом Крымовым.
Тем не менее занять мост немецкий батальон не успел – его атаковали. Атаковали не только забайкальцы, но и уссурийцы, и приморские драгуны. Батальон отбил атаку, захлебнулась вторая атака, третья также не удалась – немцы выставили перед собой повозки, прикрылись ими и повели шквальный огонь из винтовок и пулеметов.
К той поре подтянулись застрявшие в сырых низинах проселочной дороги пушки, казаки поставили их на прямую наводку, и орудия дали по опрокинутым телегам и фурам несколько залпов. Земля задрожала под ногами – недаром артиллерию зовут «богом войны»: вверх полетели колеса от фур, доски, изломанные оглобли, измельченные в мусор деревянные станины повозок – любо-дорого было смотреть на работу артиллеристов.
Семенов стоял рядом с орудиями и наблюдал за стрельбой. Пушки после каждого удара подскакивали в воздух, затем вновь всаживались колесами в грязь, пушкари при выстрелах пригибались, ныряли вниз, словно хотели зарыться в холодную влажную землю; воняло прокисшей капустой, дымом, гнилью, кровью; в стороне безучастные битюги, ничего не слыша, что-то жевали. Битюги давно уже оглохли от стрельбы, но на всякий случай им в уши воткнули по пуку соломы.
После пятого залпа к Семенову подошел поручик-артиллерист, маленький, кривоногий, с красными от бессонницы глазами, и произнес просто:
– У меня все!
– По коням! – скомандовал подъесаул, кивнул благодарно поручику и бегом, увязая в грязи, побежал к Белову.
Через две минуты казацкая лава уже неслась на немецкий батальон. Потемнело, предметы потеряли свои очертания, углы сгладились, небо заволокло тучами. Откуда-то из оврагов, стараясь стелиться пониже, приволокся холодный ветер, пробил до костей. Того гляди, снег с небес посыпется.
– Ы-ы-ы! – закричал кто-то исступленно, страшно.
Лава крик этот подхватила, и потащился он вместе с лошадьми над землей, протяжный, вышибающий дрожь на коже, дикий – Ы-ы-ы-ы! – так, наверное, кричали степняки-кочевники, идя в атаку на неприятеля.
Из-за перевернутых немецких фур ударил нестройный залп, но лаву он не остановил – слаб был, – лишь вызвал у казаков злость. Лошадь Семенова первой перенесла всадника через опрокинутую телегу, он изогнулся по-рыбьи и полоснул шашкой какого-то серолицего мальчишку в широкой, не по размеру шинели и разлапистым хомутом воротника, из которого тонким куриным стебельком вылезала немощная шея. На шее с трудом удерживалась крупная круглая голова. Жалко было, конечно, шашкой рубить куренка, но Семенов рубанул, поскольку тот держал в руках винтовку и азартно палил по казакам.
Голова с открытым ртом и хлопающими глазами, брызгаясь кровью, покатилась в сторону.
– Ы-ы-ы! – взревел кто-то рядом с Семеновым, командир сотни на рев не оглянулся, настиг толстого немца в блестящей парадной каске, рубанул его по спине, а когда немец остановился и с надсаженным щенячьим криком развернулся, рубанул его по шее.
На войне жалости быть не может. Не должно быть. Хотя бесследно не проходит ничто – и тот серолицый мальчишка еще возникнет в памяти, и этот толстый немец с жалобным детским криком. Семенов почувствовал, что у него неожиданно остановилось сердце, а в рот словно комок какой влетел; сотник вскинулся в седле, выпрямился по-сусличьи, грузным столбом, рассек впустую шашкой воздух, потом со свистом рассек еще раз – он будто вытирал о воздух клинок, как тряпку, – и в следующий миг вновь бросил коня вперед.
Под шашку попал унтер с худым, посеченным оспой лицом – видно, из породы вечных больных. Отбивая удар Семенова, унтер вскинул винтовку, лезвие шашки резануло по стальному стволу, взбило сеево искр, унтер ловко повел винтовкой в сторону, затем отбил второй удар шашки.
– Пся крев![24] – прорычал Семенов, наполняясь злостью, сделал шашкой обманное движение, потом скользнул вниз, к стремени, и ткнул унтера острием в живот.
Тот побледнел и, выронив винтовку, осел на землю.
Четвертая атака заняла не более семи минут. Немецкий батальон был разгромлен. И артиллеристы поработали хорошо, и казаки от них не отстали, порубили около четырехсот человек, не взяв в плен ни одного немца. Да и куда их девать, пленных-то? Казаки сами могут в любую минуту угодить в плен.
– Хотя это… – Семенов вытер шашку о шинель убитого немца и с сомнением покачал головой, – плен – это вряд ли. Чему не бывать, тому не бывать.
В своей сотне он был уверен – никто из его казаков в плен живым не сдастся.
Так оно и было. Если забайкалец и попадал в плен, то, как правило, полуживой, находясь без сознания.
Вскоре казачья дивизия, в которой служил Семенов, была переброшена на Карпаты.
На фронте появились агитаторы, которые призывали солдат:
– Штыки в землю, славяне! Хватит воевать, по ту сторону окопов сидят такие же, как и мы, люди – мясные, костяные, также умеют плакать и ощущать боль. Они такие же, как и мы… Даешь революцию!
Слово «революция» стало звучать все чаще и чаще, у Семенова оно ассоциировалось со словом «переворот», а от этого слова у сотника всякий раз начинали нервно дергаться усы – все эти восстания и перевороты он не одобрял.
В Великую войну российская армия вошла обученной, одетой и оснащенной, с отличными командирами – и хорошо воевала! Но потом последовала всеобщая мобилизация, и на фронт широким потоком потекла сырая масса – более двенадцати миллионов человек – которая ничего не умела делать.
Транспортные нити мигом оказались забиты пробками, экономика прогнулась, тылы разрослись, армию начали снабжать гнилью, от которой отворачивались даже собаки.
Появились дезертиры.
Вскоре беглецов стало так много, что с фронта пришлось снять целую казачью дивизию – ту, в которой служил Семенов, – и бросить ее в тыл, на перехват дезертирских потоков.
Больше всего дезертиров появлялось на узловых станциях – они стремились уехать на восток, домой, прилипали к вагонам – не отодрать. Иногда дезертиры разбирали рельсы, чтобы остановить поезд, и высылали вперед человека с плакатом: «Стой! Дорога повреждена!»
Кроме перехвата беглецов казакам поручили охранять Бессарабскую железную дорогу. Порою в день на одной только узловой станции казаки снимали с эшелонов более тысячи дезертиров.
Дезертиров поспешно судили – почти без разбирательства, да оно военно-полевым трибуналам и не нужно было – и под конвоем отправляли обратно на фронт. Случалось, кого-нибудь для острастки ставили к стенке, чтобы другим неповадно было, но это происходило редко, в основном беглецов снова ждали окопы – пусть уж лучше там, а не в тылу, на рельсах железнодорожной станции Узловая, какой-нибудь пустоголовый солдатик получит свою долю раскаленного свинца.
Когда приходил приказ поставить какого-нибудь бородатого бедолагу к стенке, Семенов недовольно морщился – не любил это дело, старался свою сотню оградить от «расстрельного исполнения», что удавалось, к сожалению, не всегда.
Особенно запомнился один дезертир – тщедушный, с впалой грудью чахоточника, донашивающего последнюю смену своей тяжелой одежды, измазанного паровозной сажей, с лицом старичка, которому все в этой жизни осточертело, и большегубым слюнявым ртом рабочего подростка, любящего сладкое. Когда его поставили под дула винтовок, он неверяще глядел подбитыми глазами на шеренгу солдат, приготовившихся отправить его на тот свет, и восклицал жалобно:
– Мама! Мама! Мама!
Так ему эти негромкие надорванные вскрики и загнали пятью пулями назад, в горло.
Напряженность на фронте спала, пошли братания, в окопах верховодили уже не полковые командиры, а рядовые солдаты, которым не светили даже унтерские лычки. Один такой солдат по фамилии Собачкин взял в руки красный флаг и попер прямиком в германские траншеи договариваться о мировой революции, которую они сделают сообща… Семенов, узнав об этом случае, даже кусок уса себе откусил.
Свои последние недели доживал 1916 год.
Зима в Бессарабии[25] была малоснежная, теплая, с частым солнцем, неузнаваемо преображающим невысокое бледное небо, с дождями, мамалыгой и виноградом, что смуглые кареглазые молдаванки дешево продавали казакам. Было много вина, но Семенов старался его не пить – русская водка все-таки лучше молдавской кислушки, от которой пучит живот, – и сотне своей запрещал.
А вот в соседнем полку даже лошадей поили вином, и однажды вдребезги пьяная и потому буйная лошадь в пыль раскатала глиняную бессарабскую мазанку. Пришлось приморцам скидываться хозяину на новое жилье: по кругу пустили папаху, доверху набили ее деньгами и вручили вислоносому, вислоусому бессарабу с влажными глазами-маслинами:
– Держи, паря! Сам виноват – слишком крепкое вино поставил нам, вот лошадь и развезло.
Бессараб поклонился казакам до земли:
– Мунцумеск, братья! Теперь у меня будет новая каса, – поблагодарил, значит, приморцев и о своих планах на будущее рассказал.
Казаки одобрительно захлопали в ладони:
– Ставь еще бочку вина! Мы тебе сейчас вторую папаху денег соберем. Кстати, что такое мунцумеск будет?
– Спасибо.
Казаки одобрили и это:
– Хор-рошо звучит!
Казакам было весело, а у Семенова от этого веселья, от испуганных физиономий дезертиров, которым не было числа – ведь несметь невозможно пересчитать – от черного сверка железнодорожных путей болели зубы, так болели, что хоть физиономию полотенцем перепоясывай, а где-то глубоко внутри, в закоулках, под самым сердцем все чаще и чаще возникало странное сосущее чувство – ему тоже хотелось бежать.
Но не домой, на реку Онон, к голосистым раскосым гуранкам, способным поднять мертвого из могилы, а туда, где еще теплилась драка, где не было этого слюнявого братания, после которого хотелось взяться за пулемет, туда, где армия еще считалась армией, не была разъедена бациллами и ржавью, имела жесткую воинскую структуру.
Такая армия сохранилась у России в Персии, на тамошнем фронте, эта армия славно воевала, до нее еще не успели добраться разные солдатские, рабочие, крестьянские и прочие агитаторы и депутаты, она еще сражалась, теснила немцев и их союзников, разбиралась с ними так, что от противника только пух с перьями летели. Как знал Семенов, там, в Персии, дрались и конные забайкальские полки.
Семенов остро завидовал им – делом занимаются люди, ратным делом, к которому их призвали Отчизна с царем-батюшкой, а не сопливятся, не сюсюкают, не пускают слюни влюбленно, как на Западном фронте их далекие однополчане, распивающие с немцами чаи.
Хоть и жалко было расставаться со своей сотней, с которой столько путей-дорог пройдено и столько соли съедено, а Семенов, помаявшись некоторое время, решил с нею расстаться – подал рапорт о переводе его на Персидский фронт, в Третий Верхнеудинский казачий полк.
Полк этот входил в Третью Забайкальскую отдельную казачью бригаду, которой командовал генерал-майор Дмитрий Фролович Семенов, троюродный брат подъесаула[26].
Полком командовал также знакомый человек – Прокопий Петрович Оглоблин, георгиевский кавалер, бывший сослуживец Семенова по Первому Нерчинскому полку, ныне носивший на своих плечах полковничьи погоны.
– Кругом свои! – обрадовался Семенов, когда узнал, кто воюет на Персидском фронте.
Вскоре пришло решение о переводе, и Семенов, собрав свою сотню, низко поклонился ей:
– Буназо, как говорят здешние жители-бессарабы…
Слово «буназо» было единственным, которое есаул выучил в Молдавии, да и то он все перепутал: хотел сказать «до свидания», а «буназо» – это «здравствуйте».
– Буназо, – эхом откликнулись казаки, хорошо, едва ли не на всю жизнь запомнившие правило: их командир не может ошибаться.
Эх, если бы на этом месте приостановить биографию Семенова – он национальным героем России стал бы, его, как многих храбрых русских солдат, поминали бы в веках, но нет, жизнь колесом покатилась дальше, а вместе с нею и безоглядный рубака Григорий Семенов.
В январе 1917 года он прибыл в Персию, в местечко Гюльпашан.
Персия потрясла его. Во-первых, здесь царило самое настоящее лето, было тепло и светло, на тонких гибких ветках призывно распускалась, трепетала под ветром зелень и благоухали цветы, но не они удивили подъесаула Семенова. Второе, что буквально потрясло его, – это бабочки.
Бабочек была тьма, самых разных, словно все они слетели сюда на тепло, на запахи лета, которое лишь по недоразумению называется зимой и приходится на этот недобрый месяц – январь. Особенно много было огромных ярких полубабочек-полумотылей, которых Семенов видел на Амуре, – махаонов. Бабочки эти считались у тамошних казаков драгоценными, поимка одной такой красавицы считалась едва ли не воинской удачей, а здесь их было все равно, что на Ононе грязи – хоть лопатой пришлепывай да собирай в фуражку.
Кстати, о фуражках. Семенов, едва в окно вагона ворвался теплый, припахивающий чем-то соленым ветер, стянул с головы папаху и сунул ее в сумку, откуда достал полевую казачью фуражку с офицерской кокардой. Сбрызнул фуражку водой, чтобы мятая ткань расправилась побыстрее – ткань высохнет, сделается гладкой, будто из-под утюга, – нутро набил газетами и повесил на крюк. Через несколько часов фуражка выглядела как новенькая, Семенов натянул ее на голову, глянул в длинное узкое зеркало, привинченное к стенке вагона, улыбнулся довольно – сам себе понравился.
Пока Семенов трясся на мягкой, обитой залоснившейся тканью полке вагона, он от корки до корки изучил брошюру, которую получил в штабе генерала Крымова «для ознакомительных целей», когда выписывал себе проездные документы. В брошюру было напихано множество всяких сведений – начиная от описания того, как становилась на ноги Персидская империя домусульманского периода и откуда взялись воинственные тюрки Альптечин и Себуктегин, Торгул-бек и Низам-Ольмольк, до рассказов о войнах Аги-Мохаммеда, сумевшего подмять под себя огромные территории, в том числе и Грузию. Ага-Мохаммед удивил Семенова своей жестокостью, жаждой проливать кровь – недаром про турок рассказывают разные страшные истории, о них есть что рассказать: он захватил город, в котором оборонялся его лютый противник Лютф-Али-хан – человек еще совсем юный, приказал бросить под ноги солдатам двадцать тысяч женщин, мужчин же, способных держать в руках оружие, – избить и ослепить. Аге-Мохаммеду было доставлено семь тысяч глаз. Глаза, выковырнутые из черепов, он принимал лично – поштучно и на вес.
– Во гнида! – не удержавшись, вслух прокомментировал прочитанное Семенов.
За окном тянулась зеленая земля, и ничто не напоминало о мрачной истории этих мест. Пели птицы, светило солнце. И летали бабочки.
Такого количества бабочек, как в полку, куда прибыл Семенов, он еще не видел – бабочки тут лепились даже к потным конским задам.
– Невидаль! – восхитился Семенов.
Наряду с обилием бабочек его удивило и другое: казаки в эту летнюю теплынь ходили в лохматых, с длинными скрутками-висюльками шерсти папахах. К чему в такую жару ходить в папахах, ведь самое удобное дело – фуражка? Семенов решил, что при первом же удобном случае спросит об этом у командира полка.
– Насчет папах – история простая, – сказал ему Оглоблин. – Из штаба фронта пришел приказ – перейти на летнюю форму одежды, казаки на легкое обмундирование перешли без возражений, а вот насчет папах – словно что-то заколодило: не сняли. Я к ним: «Содрать немедленно с голов эти бараньи курдюки! Ведь в фуражке и голова дышит, и живется легче – мозги не плавятся…» Они мне в ответ: «Это в папахе голова дышит, а в фуражке просто запекается, как тыква. Разрешите, господин полковник, носить папахи!» Пришлось посылать рапорт к главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу, чтобы тот разрешил. Великий князь хоть и посчитал это казачьим чудачеством, но смилостивился и разрешил.
Удивляли и незнакомые названия. Зенгян, Хурем-Абад, Хамадан, Хунсар, Султан-Абад, Боразджун, Вакиль-Абад, Джувейн Кух – не названия, а строчки из воинственной, сопровождаемой барабанным боем песни.
Городок Гюльчашан, в котором квартировал полк, был небольшой, ухоженный, хорошо прогретый солнцем, с красными черепичными крышами и белыми стенками узкоглазых турецких мазанок – окна в здешних домах были маленькие, как щели для стрельбы. «Для того чтобы жара в дом не проникала, – понял Семенов, – летом здесь, говорят, такая жара стоит, что стекла в окнах плавятся».
Семенов больше любил холод, но тут вон какая вещь – люби не люби, а если грянет пятидесятиградусная жара и надо будет пойти в атаку на янычар[27], то расплавишься до костей, но в атаку пойдешь. Приказ есть приказ, военная судьба есть военная судьба.
Выстроив третью сотню на земляном плацу, загороженном от суховеев тутовыми деревьями, Оглоблин представил ей нового командира.
– Прошу любить и жаловать, – сказал он просто. – Для тех, кому это неведомо, хочу сообщить: за боевые успехи на германском фронте Григорий Михайлович Семенов награжден не только офицерским «Георгием», но и золотым оружием.
Сотня неожиданно грянула «Ура!». Словно ее в честь некоего праздника угостили водкой. Семенов, не ожидавший такого приема, растрогался, на глазах даже слезы выступили, выползли из-под век, мелкие, горячие и – в этом сотник признался себе с неверием и смущением – приятные.
Командовал Семенов сотней недолго – вскоре полковник Оглоблин засобирался в отпуск. Вызвал к себе подъесаула:
– Григорий Михайлович, полк мне оставить больше не на кого – только на вас. Принимайте!
Так Семенов неожиданно для себя стал командиром полка.
Военные действия на этом участке фронта застопорились, дракой, к которой так стремился Семенов, уже не пахло, и он приуныл: может, напрасно покинул Бессарабию? Вдруг там начнется большое наступление? Но нет, и на тех участках фронта было тихо.
Изменения – и довольно бурные – происходили в других местах, в частности в российской столице. Слухи о возможном отречении Николая Второго приносились и сюда, в персидскую глушь, одинаково оживленно обсуждались и среди рядовых казаков, и среди офицеров, и надо заметить, ни одобрения, ни порицания не вызывали.
В полку все чаще и чаще стали появляться агитаторы-революционеры. Иногда среди них попадались очень симпатичные личности, умеющие толково говорить. Одного из них Семенов, цепко ухватив двумя пальцами за нос, выволок из казармы на улицу, но на большее не решился, хотя и была мысль набить этому дураку физиономию и охолостить рот на пару зубов, но он ограничился тем, что сказал: «Больше не появляйся здесь, вонючка! Понял?» – и отпустил агитатора с миром.
В конце концов, что, Семенову больше всех надо, что ли? Пусть с агитаторами борются те, кто сидит повыше, в штабе.
Однако когда в полк пришло телеграфное сообщение об отречении государя от власти, Семенов ахнул: надо же, агитаторы свое дело сделали! Внутри у него шевельнулось что-то неспокойное и одновременно недовольное: что же теперь будет? Власть перешла к великому князю Михаилу…[28]
Следом пришло известие об отречении Михаила – он отказывался вступить на престол без изъявления на то народной воли… Вот тут-то внутри у Семенова возник противный холодок: как же страна будет жить без самодержца, по каким законам? По бесовским?
Семенов почесал пальцами затылок и пошел к казакам – понял, что сейчас надо быть с ними, иначе разные приезжие агитаторы посадят полк на лошадей и уведут его в пески, подальше от зоны боевых действий.
Один из офицеров заявил Семенову:
– Григорий Михайлович, а вы, похоже, заискиваете перед революционными солдатами.
– Кто вам это сказал?
– Никто. Я сам вижу – вы с ними «сюсю» да «мусю»…
Семенов сжал зубы, но сдержался, хоть у него очень зачесался один кулак; если бы зачесались оба, сдержать себя не смог бы.
«Сюсю» да «мусю» дали свои результаты. Когда в полк пришел приказ № 1, упраздняющий в армии дисциплину, казаки отказались подчиниться ему.
– Не-е, это вы, господа-товарышши, перемудрили, – заявили они чинам из солдатского комитета, явившимся к ним, – какая же армия может быть без дисциплины и командиров? Нам тогда немцы на сапогах каблуки пооткусывают. Не-е, дуйте-ка вы отсюда, господа-товарышши, колбаской, пока мы шашки из ножен не повынимали…
И «господа-товарышши» спешно ретировались из полка. В следующий раз их также развернули на сто восемьдесят градусов – они явились с требованием немедленно образовать полковой комитет казачьих депутатов, призванный заменить офицеров.
– Молодцы, мужики! – похвалил подчиненных Семенов. – Орлы! – Голос у него был угрюмым, севшим. – Дай бог вам здоровья и воинской удачи!
Семенову было от чего быть угрюмым: на глазах рушилось то, во что он свято верил.
Обстановка накалялась.
Семенов ждал возвращения Оглоблина: все-таки Прокопий Петрович командовал полком дольше его, в людях своих разбирался лучше, надо полагать, ему были ведомы некие пружины, о которых Семенов знал понаслышке – возможно, у него есть другие способы держать полк в узде… Хотя одно Семенов знал твердо – сдавать полк разным басурманам-агитаторам нельзя.
Одно плохо, что не ведется никаких военных действий – немцы, так же как и русские, пребывают в состоянии тихого смятения, – иначе ни полку, ни бригаде не избежать позора… А с другой стороны, может, оно и лучше было бы: полк бы протрезвел, дрался бы лучше прежнего. М-да, с полком-то понятно, а вот с бригадой… Ее что, в бой поведет солдатский комитет – два унтера, которые войну видели лишь из седла собственной лошади, и трое рядовых, не способных разглядеть что-либо дальше штыка своей винтовки…
Базарить, плевать в суп командиру, отворачиваться с наглой мордой от офицеров вместо того, чтобы отдавать честь (эта форма приветствия была отменена едва ли не в первую очередь), требовать, чтобы им платили такое же жалованье, как командующему корпусом – это они умеют, а вот провести грамотную атаку двух взводов или одной сотни – тут дохлый номер, голова, оказывается, растет не из того места. Тьфу!
К Семенову несколько раз наведывались различные делегации, состоявшие из крикливых унтеров, и требовали, чтобы он незамедлительно провел собрание для избрания полкового комитета и передал ему власть…
Семенов в ответ только насмешливо шевелил усами:
– Вот приедет из отпуска настоящий командир полка Прокопий Петрович Оглоблин, он и изберет комитет. А я – командир временный, я обязан сдать полк в том виде, в каком принял.
– У нас – самая свободная армия в мире, – базарили делегаты.
– Это у вас, – вполне резонно отвечал Семенов, – но не у нас.
Так никаких революционных нововведений в Третьем Верхнеудинском полку Семенов и не допустил, держался до последнего, пока наконец не прибыл Оглоблин, здорово задержавшийся в дороге. Железнодорожный транспорт начал работать с перебоями, поезда застревали на станциях, порядка было все меньше и меньше. Семенов сдал Оглоблину полк и проговорил мрачно:
– Не нравится мне, что происходит…
– Мне тоже не нравится. Но делать нечего. Если мы воспротивимся революционным преобразованиям, нас убьют. На Западном фронте свои уже бьют своих, солдаты ставят к стенке командиров.
– Вот тебе и самая свободная армия в мире. – Семенов присвистнул.
Оглоблин печально повесил голову.
– Это я слышал по дороге много раз. В одном месте мне даже предложили снять погоны.
– Где это было?
– В революционном Харькове.
– Тьфу! – привычно отплюнулся Семенов.
В апреле Семенову пришло письмо из полка, в составе которого он воевал на Западном фронте – Первого Нерчинского. Офицеров в этом полку осталось с гулькин нос – кого-то выбили, кто-то под шумок «растаял» в дымке пространства, чтобы через некоторое время объявиться в отеческом доме, – и Семенов, который считал, что Россию может отрезвить только хорошая война, стал просить о немедленном своем возвращении в Бессарабию.
Вскоре было получено «добро» на обратный перевод. Однако картина, которую Семенов увидел на Западном фронте, была еще хуже, чем в Персии.
В мае на Западный фронт прибыл военный министр. Это был человек совершенно штатский, в темном тонком плаще и шляпе с захватанными краями, с тросточкой, черенком которой он почесывал себе нос – явление среди людей, носивших погоны, дикое, иного слова не подберешь. Никогда еще в России не было таких военных министров.
Первый Нерчинский полк, в котором Семенов получил под свое начало пятую сотню, был собран в пешем строю на станции Раздольная, под Кишиневом. Казаки, видя военного министра, почесывающего тростью нос, стыдливо отводили глаза в сторону. Семенов, стоя во главе своей сотни, тоже стыдливо отводил глаза в сторону: тянуться в струнку перед таким военачальником было все равно, что вытягиваться перед поваром.
– Такие вот шпаки[29] в канторской одежде и разлагают армию, – процедил он сквозь сжатые зубы, – а потом хотят заставить ее воевать и одерживать победы…
Именно на этом земляном плацу, под завывающую речь военного министра у Семенова и родилась мысль о создании «туземных» добровольческих частей – из народов Восточной Сибири. Это ведь – верные люди, хорошие воины, всякие революционные идеи для них все равно, что пустой ветер: пронесся – и нет его.
– Как фамилия военного министра? – спросил он у бывшего командира сотни Жуковского, получившего повышение и ставшего войсковым старшиной.
– Керенский![30]
Несколько дней Семенов, пыхтя от натуги и сдабривая тяжелую работу крупными глотками роскошного бессарабского спотыкача, вишневой водки, корпел над бумагой – излагал свои соображения по поводу создания боевых частей из числа инородцев и «использования кочевников Восточной Сибири для образования из них частей “естественной” (природной) иррегулярной конницы, кладя в основу формирования их принципы исторической конницы времен Чингисхана, внеся в них необходимые коррективы, в соответствии с духом усовершенствованной современной техники». Он торопился – войсковой старшина Жуковский собирался отбыть в Петроград, и Семенов рассчитывал отправить с ним свои соображения. Адресовал он их штатскому недотепе, «кантору», устроившему смотр Первому Нерчинскому полку в Раздольной, – Керенскому.
Отправить по почте бумагу, с таким трудом написанную, означало потерять ее навсегда: она пропадет где-нибудь на перегоне между двумя станциями либо будет съедена мышами в канцелярии какого-нибудь третьестепенного чиновника. Чиновники – тыловые крысы – представляли для России опасность не меньшую, чем наступающие полки кайзера.
Всякая бумага бывает действенной, когда к ней «приделаны» ноги, в противном же случае максимум, на что она годится – быть надетой на гвоздь в солдатском сортире. Ноги войскового старшины Жуковского были как нельзя кстати: человек напористый, въедливый, злой, много раз награжденный орденами, а значит – с авторитетом, он любого чиновника запросто мог перекусить зубами. Тем более хорошо известно, как фронтовики относятся к тыловым крысам – любителям французских круассанов и теплых сливок с шоколадом, которые надлежит подавать непременно в постель.
Жуковский уехал в Петроград и, надо отдать ему должное, сумел побывать там во многих начальственных кабинетах. В результате Семенов был вызван телеграммой на берега Невы, в российскую столицу.
Эта телеграмма сыграла в жизни Семенова поворотную роль.
Одновременно из Читы пришло сообщение о том, что Забайкальское казачье войско собирается на свой круг[31]. Требовался делегат от Первого Нерчинского полка. Им стал Григорий Семенов.
Одно совпало с другим. Надлежало ехать в Петроград, а оттуда – в Читу.
В Петрограде Семенов, ни на секунду не сомневаясь в том, что поступает правильно, первым делом явился в приемную военного министра…
Жуковского в городе уже не было, войсковой старшина отбыл в полк – они разминулись по дороге, поэтому Семенову теперь предстояло действовать самостоятельно.
Помощник военного министра князь Туманов отнесся к фронтовику благожелательно.
– Поезжайте на Мойку, двадцать, – сказал он, – найдите там полковника Муравьева[32]. Ваша докладная отправлена к нему.
Набережную темной замызганной речушки, окованной гранитом, но тем не менее по-деревенски припахивающей плесенью, Семенов нашел не сразу.
«Тут когда-то Пушкин бывал, – теснилась у него в голове тусклая мысль, – то ли жил он здесь, то ли учился, то ли был убит… В общем, что-то было. Но где же ты есть, набережная реки Мойки?»
В незнакомом шумном городе Семенов ориентировался слабо. Здесь было полно людей в солдатской одежде, он поглядывал на них неодобрительно. «С фронта, стервецы, утекли. Сюда бы моих орлов с шашками, я бы живо научил вас маму-родину любить». А вот женскую роту, с лихим топотом промаршировавшую по Невскому проспекту, он встретил с одобрением, даже языком поцокал:
– Патриотки! Сознательные! Знают, что Россия в опасности.
Несколько бородатых окопников с винтовками с откровенным интересом разглядывали тугие икры маршировавших женщин, обтянутые нитяными чулками нежного персикового цвета, и завистливо ахали:
– Вот попасть бы в эту воинскую часть на пару дней – ох и намолотили бы мы тогда супостатов!
– Приходи, кума, кусаться – зубами щелкать научу!
– Харраши мандридапупки!
Отдельно от окопников стоял прапорщик в мятых погонах, на которых химическим карандашом была нарисована маленькая звездочка, держа на плече увесистую, с толстым стволом «люську» – английский пулемет «льюис» – он также с завистливым интересом рассматривал марширующий женский строй. Случайно перехватив взгляд Семенова, прапорщик неожиданно сделал брезгливое лицо и отвернулся. Тем не менее Семенов подошел именно к нему:
– Скажите, милейший, как мне отыскать Мойку, двадцать?
Прапорщик небрежно ткнул рукой под ноги:
– По этой набережной до поворота. Там – направо.
Семенов кивнул офицеру-окопнику и двинулся дальше. В конце концов он нашел нужный дом – внушительное серое здание с широким входом и тусклыми, давно не мытыми окнами.
Около дверей толпились матросы – на фронте матросы особо не утруждали себя атаками на окопы противника, но зато паек свой, морской, получали исправно. Высококалорийный морской паек пожирнее будет, чем сухомятная еда, выдаваемая казакам семеновской сотни.
Семенов взял пальцами за рукав одного из моряков:
– Скажи-ка, гвардеец, что тут за учреждение располагается?
– Всероссийский революционный комитет по формированию Добровольческой армии[33].
Вот так, ни много ни мало. Туземные полки, которыми в последнее время грезил Семенов, вполне могли быть частью этой армии.
– А кто командует всем этим?
– Полковник Муравьев.
Семенов отметил, что привычного добавления к ответу «ваше благородие» не последовало, губы у него печально дрогнули. А ведь с уничтожением такой простой вещи, как это вежливое обращение, уничтожается нечто великое, то, из чего сколочен остов армии, – дисциплина. Если Господь будет благосклонен и Семенов станет командовать какой-нибудь крупной войсковой частью, он это обращение введет в действие в приказном порядке.
Полковник Муравьев оказался энергичным человеком в лаковых немецких сапогах, так называемых вытяжных – вытянутых в виде изящных бутылок. Через двадцать минут он принял Семенова.
– Вы верите в надежность туземных частей? – спросил он первым делом, ногтем поправил щегольские, ровно остриженные усы.
– Верю, – твердо ответил Семенов.
Они проговорили не менее двух часов. После этого Семенов стал ходить в дом двадцать на Мойке как на работу – являлся туда каждое утро в девять часов.
В Петрограде Семенов пробыл больше месяца. Шестнадцатого июля он, как обычно, явился к Муравьеву на «утренний болтологический сеанс». Полковник, увидев его, встал, придал своему лицу торжественно-официальное выражение.
– Я предлагаю вам, Григорий Михайлович, торжественно вступить в должность помощника председателя комитета, – сказал он. – С правами помощника военного министра.
Вот она, звездная минута будущего атамана. Семенов даже услышал, что внутри у него что-то приятно екнуло, по телу разлилось тепло, усы, не удержавшись, задергались, рот расплылся в невольной улыбке.
Любопытный это был момент, очень любопытный. Интересно, что было бы, прими Семенов предложение полковника? Сам Муравьев через некоторое время стал, между прочим, главнокомандующим Красной армией, неплохо воевал, а потом, словно спохватившись, перешел на сторону белых, но оказался там генералом без войска, один как перст…
Вполне возможно, Семенов тоже стал бы большим человеком у «краснюков», как он потом называл красных, командовал бы войсками, рубил головы белякам и зачитывался творениями великого Ленина. Вот ведь какие фортеля может выкидывать жизнь, какие фиги, иль маслины, засовывать в сладкую гурьевскую кашу вместо изюма.
Однако Семенов, поразмышляв немного, отказался от лестного предложения полковника Муравьева.
– Это не по мне, – сказал он, – я не смогу сидеть в тиши кабинетов. Находясь в Сибири, я принесу вам больше пользы, чем здесь.
Говорил он искренне, и Муравьев поверил, покивал меленько, по-птичьи, и огорченно махнул рукой:
– Ладно!
Он выдал Семенову командировочный мандат, из которого следовало, что есаул Семенов Григорий Михайлович является комиссаром по образованию Добровольческой армии в Иркутском и Приамурском военных округах. На следующий день опять-таки не без помощи всесильного полковника Муравьева в кармане есаула оказалась еще одна бумага, более высокая, подписанная Верховным главнокомандующим: Семенов получал права военного комиссара ни много ни мало – всего Дальнего Востока. Вместе с полосой отчуждения КВЖД – Китайско-Восточной железной дороги[34]. Одновременно его назначили командиром Монголо-Бурятского конного полка, местом формирования которого была станция Березовка, недалеко от Верхнеудинска.
На фронт Семенов больше не вернулся.
Часть вторая
В Сибири Семенов не был три года – ни разу не отлучался с фронта. В Питере, на вокзале, забрался в уютный вагон трансконтинентального экспресса, пахнущий чистотой и душистым хвойным настоем, которым проводник – плечистый дядя с седыми усами – каждые три часа увлажнял ковровую дорожку, – уснул, а проснувшись, увидел за окном вагона такие чистые, такие зеленые, прибранные рощицы, что Петроград, оставшийся уже в прошлом, разом стал мниться ему пыльной заплеванной пепельницей.
Семенов приник к окну и часа два глядел в него не отрываясь, засекая все, что попадалось на глаза, всякую мелочь, на которую раньше мог обратить внимание только под пистолетным дулом, и слушая, как в груди растревоженно колотится сердце – он ехал на Родину, домой.
Редкие письма, которые приходили на фронт, шерстила военная цензура, делала это придирчиво, вымарывая не только то, что нужно было вымарать; письма эти производили странное впечатление неживых, будто были состряпаны неким бездушным деревянным человеком, иногда из них вообще ничего нельзя было понять.
Если в Петрограде было голодно – бабы в магазинах дрались за ржавую селедку, от запаха свежего хлеба люди стонали, на рынках продавали пирожки с собачьим ливером, то здесь, едва поезд подходил к станции, на перрон вываливались лоточники, миллион лоточников – и чего только на этих лотках не было! Что такое голод, в России, в отличие от Питера, не знали. Семенов записал на память на листке бумаги: «Печеная в духовке утка стоит 30 коп., жареный поросенок – 50 коп.». Мало ли, вдруг эти пустячные сведения понадобятся когда-нибудь для большого дела…
На седьмой день Семенов прибыл в Иркутск. Здесь надлежало сделать остановку и отметиться в штабе командующего войсками Иркутского военного округа генерал-майора Самарина. А затем спешно – вот-вот должен был открыться войсковой круг – перемещаться в Читу.
В Иркутске Семенов невольно обратил внимание на помощника командующего полковника Краковецкого – очень ему полковник не понравился: лощеный, с презрительным взглядом серых выпуклых глаз, он всегда словно смотрел сквозь человека, с которым разговаривал.
«На фронт бы тебя, в штыковую атаку на германцев – живо бы золотую пыльцу с рыла растерял», – неприязненно и устало подумал Семенов и постарался выплеснуть полковника из головы – к чему там лишний мусор? Однако сутолока нескольких дней, проведенных в Иркутске, почему-то едва ли не каждый час упрямо подсовывала ему всякие сведения о Краковецком. Эсер, в армии был арестован и лишен офицерского чина, сослан в Сибирь. После отречения государя получил на плечи сразу полковничьи погоны.
– Свежеиспеченный калач! – Узнав об этом, Семенов выругался. Такие «хлебобулочные изделия» не были по душе никому, и прежде всего – солдатам-окопникам. На фронте это изделие продержалось бы недолго – застрелили бы свои.
Пятого августа Семенов выехал в Читу, на заседание войскового круга. Когда в пути поезд неожиданно замедлил ход и есаул увидел, как под колеса вагона тихо подкатывается мелкая, очень чистая, чище хрусталя, волна, он невольно схватился рукою за горло – что-то там возникло такое… Ни продохнуть, ни проглотить. Семенов махнул рукой расстроенно и едва ли не бегом кинулся в вагон-ресторан: горькую соль, натекшую в горло, надо было немедленно смыть чем-нибудь крепким. Свободных столиков не было, лишь за одним столом, у окна, имелось свободное место. Семенов занял его, не спрашивая разрешения у человека, сидящего напротив, – а вдруг на этом месте уже сидит какая-нибудь столичная фифа в юбке с кринолином? Есаулу было на это наплевать. Уже потом, хватив водки и закусив ее тремя ломтями сочного омуля, он виновато посмотрел на соседа.
– Пустое, – махнул тот рукой и спросил сочувственно: – Расстроены чем-то?
– Есть немного… Расстроен.
Сосед все понял и произнес:
– Я тоже, когда не вижу долго Байкала, хожу будто чумной. Места себе не нахожу. Выпейте еще немного.
– Это можно, – смурным, севшим голосом проговорил Семенов, ухватился за пузатый тяжелый графин, налил себе водки, вопросительно глянул на соседа.
– Мне не надо, – сказал тот, – у меня есть, – показал на высокую граненую стопку. Предложил: – Выпейте за священное море, чтобы не укачало…
Те, кто живет на Байкале, никогда не позволят себе назвать его озером – только морем: «Славное море, священный Байкал» – в этом определении сокрыты и робость, и уважение, и гордость, и любовь. Словом, все. Ведь Байкал и кормит и поит здешний люд.
– Когда я был на фронте, Байкал мне снился, – признался Семенов, хотя на фронте во время тревожных снов видятся обычно близкие люди да родной дом, а Семенов во сне Байкал видел. Он видел. И естественно, как и все казаки – родственников: отца, подпоясанного офицерским ремнем, царственную свою бабку, которой побаивался, тихую, кажущуюся забитой мать. Видел табуны лошадей и залитую жидким белесым солнцем монгольскую степь.
Сосед потянулся через столик к Семенову со стопкой. Чокнулись. Выпили. Семенов вновь заел водку омулем, сосед его ограничился долькой свежего душистого огурца с нежной, темной, почти черной кожицей.
– Извините, – запоздало спохватился Семенов. – Я давно не ел омуля, поэтому и накинулся на него, будто с голодухи. На фронте с рыбой вообще было туго. Гранаты тратить на нее – жалко. Если только снаряд какой-нибудь шальной в реку грохнется… Но во время артиллерийских обстрелов было не до рыбы. – Есаул, ощутив, как у него расстроенно задергались усы, прикрыл их ладонью. Предложил: – Давайте еще выпьем.
– Давайте, – готовно отозвался сосед.
Небо расчистилось, из-за белесой мутной облачной гряды, уходящей к далекому горизонту, выплыло солнце – большое, круглое, арбузно-красное, окрасило воду в яркий багрянец, заставило запеть души у всех, кто сидел в ресторане поезда, но тут же все цвета погасли – на солнце словно опустился гигантский черный нож гильотины: сибирский экспресс втянул свое длинное тело в тоннель. К этому времени поспешно подскочивший к столику официант в форменной белой куртке зажег керосиновую лампу.
– Сейчас тоннели пойдут один за другим, – сообщил он, – без собственного света не обойтись.
– Не бойся, милейший, – успокоил его Семенов, – мы темноты не боимся и стопку мимо уха не пронесем. – Почти наугад наполнил свою стопку, поднял ее, обращаясь к соседу: – За наше славное и священное… Вы из здешних?
Сосед церемонно поклонялся Семенову:
– Член Российской Государственной Думы[35] от Забайкальской области Сергей Афанасьевич Таскин.
Таскин также направлялся в Читу, на войсковой круг.
Семенов не удержался, азартно потер руки:
– Хорошо иметь знакомого члена Государственной Думы!
Эту свою фразу он вспомнил на следующий день, когда войсковой круг начал свою работу – Таскина избрали председателем съезда.
Фронтовики здорово отличались от невоевавших станичников – усталостью, угрюмым видом, серыми лицами и повальной недоброжелательностью ко всем, кто не воевал.
– Вы, станичники, вообще должны спороть лампасы с шароваров, – заявили фронтовики.
– Это почему же?
– Да потому, что вы теперь не казаки.
Это был, по заявлению одного из фронтовиков – чубатого, с двумя Георгиями на гимнастерке, старшего урядника – «тонкий намек на толстые обстоятельства»: предыдущий войсковой круг – под нажимом агитаторов, к казакам имеющим примерно такое же отношение, как к исполнителям персидских танцев, а родная станица Семенова – к столице Португалии, отменил привилегии, данные когда-то казакам Государем[36] всея Руси. Поэтому фронтовики намеревались поставить этот вопрос вновь и с предыдущим решением круга обойтись так же, как агитаторы, носящие красные тряпицы на пиджаках, обошлись с казачьими привилегиями.
Главной из привилегий была казачья вольница. Казак, дослужившийся до первого офицерского чина, получал личное дворянство; если он окончательно выбивался в люди и становился полковником, то автоматически получал потомственное дворянство; его дети, даже не родившиеся, уже считались дворянами.
У казаков существовало самоуправление, к которому с уважением относились российские государи, были свои земли, которые они кровью своей и потом, рубясь в различных сечах, присоединили к России. И так далее. А в остальном казаки – такие же, как и все, люди-человеки, обычные русские граждане, что любят Родину, давшую им жизнь.
На цареву службу казаки всегда выходили в собственном обмундировании, при собственном оружии, на собственном коне… Это что, тоже привилегия?
Семенов не удержался и выступил на казачьем круге.
После него из ложи гостей на трибуну стремительно вынесся некто Пумпянский – человек, известный не только в Чите, но и в Иркутске, и в Алексеевске, и даже в Хабаровске. Приподнявшись коршуном над трибуной, он лихо рубанул кулаком воздух.
– Казаки, самым позорным явлением в истории России была и есть опричнина. Крови опричники пролили столько, что корабли могут в ней плавать, – море! Ныне многие сравнивают вас с опричниками. Снимите с себя это позорное пятно, смойте его, откажитесь от привилегий, за которые так громко ратовал предыдущий оратор, и будьте как все!
Семенов поморщился недовольно, проговорил тихо, в себя:
– Еще один болтун!
Пумпянский оказался главным оппонентом Семенова – никто из инородцев не выступал так велеречиво и умело, как он. Пумпянскому хлопали.
Дебаты продолжались три дня.
На третий день, когда Пумпянский увлекся собственным выступлением, Семенов взял с председательского стола графин, наполнил водой стакан, стоявший рядом, подошел к трибуне с обманчиво-рассеянным видом и протянул стакан оратору. Тот взял стакан, споткнулся на полуслове, словно в нем перестал работать некий движок, и непонимающе глянул на Семенова.
– Прекратите революционную трескотню, а свой горячий пыл залейте холодной водой, – сказал ему Семенов.
Пумпянский неожиданно покорно поднес стакан ко рту и стал пить. Зал захохотал. Услышав хохот, Пумпянский закашлялся. Говорить он больше не смог – у него сел голос. Произошло это стремительно, иногда такое случается даже с очень опытными ораторами. Дискуссия закончилась победой Семенова.
Заседания казачьего круга затянулись. Завершились они лишь во второй половине сентября 1917 года.
Вскоре к власти в России пришли большевики. Набрать в свой полк Семенов успел не более пятидесяти человек – причем в полк начали записываться не только агинцы-буряты и баргинцы-монголы, но и гураны – полукровки, в жилах которых текла и русская, и бурятская, и монгольская кровь, – и русские. Дальше все застопорилось: в штабе округа до сих пор не был подписан приказ о формировании монголо-бурятских частей.
Семенов торопился – понимал, что в воздухе все сильнее начинает пахнуть порохом, поехал в Иркутск к генералу Самарину. Тот прямо при есауле отдал распоряжение немедленно отпечатать на машинке приказ…
Прошло три дня. Пора возвращаться в Читу, но приказа так и не было, и Семенов вновь отправился к Самарину.
Генерал выглядел плохо, у него нервно тряслась голова, руки дрожали, под глазами вздулись темные мешки.
– Извините, есаул, – сказал он, – я не спал всю ночь.
– Ваше превосходительство, я прибыл за приказом о формировании монголо-бурятских частей, – напомнил Семенов.
– Такого приказа не будет, – сказал Самарин и опустил голову. – Увы!
– Почему? – Семенов не мог скрыть удивления.
– Я под арестом. Вся власть перешла к председателю местного совдепа.
Семенов собрал все бумаги, полученные в Петрограде, и незамедлительно явился к председателю местного совдепа – небольшому тощему мужичонке в рубчиковом мятом пиджаке – по виду, рабочему депо. Тот молча выслушал доводы Семенова и согласился подписать приказ.
– Только вот, – сказал он, – я вынужден буду связаться с Петроградом, они должны будут подтвердить ваши полномочия.
– Валяйте, – сказал Семенов небрежно. Он понял: власть в Петрограде сменилась, Муравьева нет, и ему надо спешно покидать Иркутск. Через несколько часов может быть уже поздно. Чутье на опасность – звериное, острое, безошибочное – у него выработал фронт, Семенов научился ощущать опасность загодя, когда она еще не родилась…
Семенов поспешил на вокзал. Уезжал он не один – взял с собою пятерых иркутских казаков, решивших вступить в «туземный» полк.
Отбыл есаул вовремя. В Верхнеудинске, на станции, его уже встречали дружинники – человек пятьдесят, не меньше, темной нестройной толпой высыпали на перрон – оказывается, начальник станции получил телеграмму о немедленном аресте есаула Семенова и вознамерился выполнить приказ. Едва Семенов спрыгнул с подножки вагона на серый деревянный настил перрона, как к нему поспешил станционный комендант. Небрежно прилепив пухлую чиновничью ладошку к козырьку железнодорожной фуражки и покосившись на красную повязку, обтягивающую рукав его пальто – этакий символ власти, он поинтересовался:
– Господин есаул, ваша фамилия, случайно, не Семенов?
– Случайно нет.
– А как, позвольте полюбопытствовать?
– Голубовский. – Семенов небрежно козырнул в ответ и неторопливым прогулочным шагом, в сопровождении пятерых казаков двинулся вдоль перрона.
Комендант, напряженно наморщив лоб, поразмышлял несколько секунд, потом кинулся вслед, ухватил за рукав одного из казаков:
– Скажи, милейший, фамилия есаула действительно Голубовский?
– Так точно, Голубовский, – без запинки ответил тот и двинулся дальше.
Комендант снова застыл на несколько мгновений, потом, подозвав двух конвоиров с винтовками, совершил очередной бросок к Семенову.
– Позвольте ваши документики, господин есаул, – неожиданно зычным, хорошо поставленным голосом потребовал он.
Есаул придержал шаг, развернулся – комендант, пыхтя, на всех парах несся к нему, не замечая угрожающе-спокойного взгляда, обращенного к нему, – напрасно он был так невнимателен… Едва комендант приблизился к Семенову, как тот, резко пригнувшись, двинул несчастного служаку кулаком в подбородок.
Удар был короткий, быстрый, почти невидимый, внутри у коменданта что-то мокро чавкнуло, будто сырой тряпкой шлепнули по столу, фуражка колесом покатилась по перрону. Враз ослабевшее тело опрокинулось прямо на конвоиров, но те не удержали начальника, и он шлепнулся на перрон.
– Вот мои документики, – спокойно произнес Семенов. – Предъявить еще какое-нибудь удостоверение?
Комендант, лежа на перроне, сплюнул кровь, натекшую из разбитой губы в рот, покрутил головой, не веря, что его можно вот так, при всем честном народе, отправить пахать истоптанный тысячью ног грязный настил. Снова сплюнул кровь, взвизгнул громко, отдавая приказ в изумлении застывшим в нескольких шагах онемевшим конвоирам, которые никогда еще не видели, чтобы с начальством так обращались:
– Арестовать его!
Пока конвоиры раздумывали, как быть, на взвизг коменданта, спотыкаясь, мешая друг другу, устремились дружинники – целая орава: почувствовали кровь…
– Кровянки вам захотелось, – недобро пробормотал Семенов, – кровянки… Лучше бы в окопы отправились, немаков малость пощекотали, отогнали бы их на свою территорию. Там возбуждаться надо, а не тут… Ну-ну, – Семенов усмехнулся, повернулся к казакам, сопровождавшим его, и молча повел головой в сторону.
Те все поняли без слов и выдернули из ножен шашки.
Дружинники все одновременно, буквально единым движением, затормозили, некоторые – с готовностью вытянутыми в беге руками – как намеревались схватить супостата, так и застыли, лица их сделались нерешительными… Как же брать супостата, ежели его охраняют желтолампасники с саблями наголо, но комендант вновь подогнал их резким вскриком:
– Арестовать его!
И дружинники пошли на казаков.
Семенов выдернул из кобуры револьвер:
– Наза-ад!
– Арестовать его!
Через минуту дружинники уже бежали к темному, с сырым от мокрети верхом зданию станции, блажили испуганно, двое из них зажимали руками раны, оставшиеся после тычков казачьими шашками – дело дошло и до этого.
Недалеко от себя Семенов увидел дежурного по станции – меланхоличного старичка в фуражке с красным верхом, махнул ему револьвером:
– Отправляйте немедленно поезд!
Старичок спокойно и деловито, будто и не было никаких стычек, щелкнул крышкой часов:
– Рано еще!
– Отправляйте немедленно поезд! – Семенов направил на старичка револьвер.
Тот вздохнул:
– Ладно, пусть начальство оторвет мне голову, но грех на душу я все-таки возьму! – Старичок дунул в свисток и поднял над головой разрешающий жезл.
Паровоз дал гудок, вхолостую проскреб колесами по стали рельсов, выпустил длинный горячий клуб пара, снова проскреб колесами по рельсам – колеса провернулись беспрепятственно, будто были намазаны жиром – и в следующее мгновение сдернул состав с места.
Семенов прыгнул в вагон, за ним последовали казаки.
Вечером сибирский экспресс прибыл в Читу.
Обстановка в Чите была более спокойная, чем в Иркутске, и Семенов вздохнул освобожденно – здесь ему некого было бояться. На следующий после приезда день он собрал своих сторонников, угостил их чаем, колбасой, поставил монопольку[37], призвал:
– Все на борьбу с Советами!
Наметил есаул Семенов и новую географическую точку для своей дальнейшей дислокации: станция Даурия – место глухое, припограничное, хорошо защищенное, да и навозом там не пахнет. Для Читы запах навоза – родовой. Город стоит на песках, всякий, даже самый малый ветерок вышелушивает городские улицы насквозь, выдувает песок, обнажает корни деревьев, отчего сосны валятся на крыши домов, дожди тоже вымывают песок… И вот некая мозговитая голова придумала способ борьбы с потерями почвы – навоз.
Смешанный с песком навоз – это вполне плодородная штука, позволяющая давать урожаи не меньше, чем в Воронежской губернии; березовый либо еловый росток, опущенные в такую почву, очень быстро превращались в деревца. Дело, конечно, благое, но вот амбре… Запахом конюшни пропахли все местные дамы, даже самые знатные.
В Даурии этого запаха, слава богу, нет.
И все же пока не сформирован штаб, из Читы уезжать нельзя. Плюс ко всему надо было получить, а точнее, пробить для будущего монголо-бурятского формирования кое-какие деньги. Нужно было заслать своего «казачка» и в местный совдеп.
Как-то вечером к Семенову пожаловал младший урядник Бурдуковский, которого Семенов знал давно и ценил.
– Есть у меня, ваше высокоблагородие, один человек… Может быть, и никакого «казачка» засылать не придется, – сказал он.
– Кто?
– Член местного совдепа.
– Как его фамилия?
Бурдуковский нагнулся к есаулу и произнес шепотом:
– Замкин. Очень надежный гражданин – любит, когда в кармане у него гремят серебряные монеты. Такие люди – самые надежные.
– Ну что ж… Надо повидаться, посмотреть, что это за гусь – товарищ Замкин, жареный он или нет?
– Он – «полу-полу», полужареный-полупеченый, он – и нашим, и вашим…
– Значит, тем более надо повидаться.
После знакомства с Замкиным Семенов решил, что никаких «казачков» в Читинский совдеп не будет, пусть поработает Замкин, и выдал ему первый аванс – полрулона керенок. Замкин от керенок отказался:
– Лучше бы твердой деньгой, господин хороший.
Семенов достал из кармана золотую монетку – николаевскую десятирублевку[38].
– Это годится. – Замкин проворно смахнул десятирублевку к себе в ладонь.
С тех пор Замкин стал аккуратно поставлять Семенову совдеповские новости. Однажды вечером он явился к Семенову встревоженный, стряхнул с папахи снег, повертел ее в руках и снова нахлобучил на голову.
– Беда, – сообщил он. – Сегодня председатель совдепа разговаривал по телефону с Иркутском… или, может быть, даже с Петроградом, я точно не засек. Вас велено арестовать.
– Как арестовать?
– Обычно. Руки за спину, на запястья – веревку, и три штыка под лопатки.
– Они что, очумели?
– Видать, да. Иначе я бы к вам не пришел.
Семенов машинально порылся в накладном кармане френча – он сшил себе новый френч, по последней моде, роскошный, из тонкого мышастого сукна, – извлек оттуда золотую десятирублевку, звонко хлопнул ею о стол, потом достал вторую и также звонко хлопнул о поверхность стола. Замкин ловко смахнул монеты в руку. Очень большой мастак оказался по части продать какой-нибудь секретик. Или купить, а потом перепродать.
– Как же это они собираются сделать? – спросил Семенов. – Я ведь просто так не дамся…
– Соберут пленарное заседание совдепа, проголосуют «за», потом пригласят на заседание вас и арестуют.
– Эх как простенько все получается, без затей, – Семенов не удержался, мотнул головой, – и хитренько в ту же пору. Хмы! Когда же состоится заседание?
– Завтра в четыре часа дня.
– Что и требовалось доказать. – Семенов возбужденно потер руки, глянул на часы – времени у него более чем достаточно.
К десяти часам вечера Семенов уже знал, кто из казаков будет делегирован на эту совдеповскую толкучку, и каждого из них поименно пригласил завтра к себе на обед. Следом каждому из них было сообщено, якобы от имени совдепа – занимался этим младший урядник Бурдуковский, – что заседание совета депутатов переносится на послезавтра, на утро. Семенову очень важно было отделить казаков от совдепа…
На следующий дань Семенов заказал большой обед в кавказской шашлычной, расположенной неподалеку, отправил туда казаков, а сам вместе с верным Бурдуковским поспешил в атаманский дом, где шло заседание. Председательствовал на нем человек, воспоминания о котором вызвали у Семенова изжогу, – Пумпянский.
Войдя в зал, Семенов весело потер руки:
– Ба-ба-ба, сколько знакомых лиц! – и рявкнул так, что на окнах колыхнулись занавески: – Вы арестованы! Все до единого!
Зал замер – многие знали, что шутки с Семеновым плохи, мужик он крутой: и шашкой рубануть может, и из револьвера пульнуть прямо в физиономию… Из фронтовиков. А фронтовики – они все «нервенные».
– Командира конвойной сотни – ко мне! Пусть принимает арестованных! – повернувшись к Бурдуковскому, прорявкал Семенов прежним громовым голосом, затем перевел острый секущий взгляд на председателя и укоризненно покачал головой: – Ай-ай-ай, господин Пупянский…
– Не господин, а гражданин, и не Пупянский, а Пумпянский, – мрачно поправил тот.
– Все равно. Вы знаете, господин Пупянский, казаки возмущены вашими действиями против меня и не прислали на заседание ни одного своего делегата. Вам это о чем-нибудь говорит?
Пумпянский обеспокоенно закрутил головой.
– Вы – интриган! – с пафосом воскликнул Семенов и угрожающе ткнул в Пумпянского пальцем.
– Да я… – вскинулся он в председательском кресле.
– Сидеть! – рявкнул Семенов. – Объясняться будете потом, когда приговор станут приводить в исполнение! – Повернулся к людям, сидящим в зале: – Если кто-нибудь вздумает покинуть свое место без моего разрешения, казаки, стоящие у входа, будут стрелять без предупреждения. Ясно?
Пумпянский снова вскинулся в своем кресле.
– Сидеть! – вторично рявкнул на него Семенов. Прошел к столу председателя, положил кулаки на сукно рядом со стеклянным графином – непременным атрибутом всех говорливых заседаний – и глянул Пумпянскому в глаза: – Ну и что вы хотите со мной сделать? Рассказывайте!
У Пумпянского дрожали губы, он прикладывал к ним ладонь, пытаясь унять дрожь, но это не помогало. Пумпянский не ответил – он не мог говорить.
– Значит, так, мое условие такое. – Семенов повернулся к залу. – Арестовывать вас я пока повременю. Сейчас – немедленно расходитесь по домам. Через два дня соберемся на заседание снова. При моем участии… – Он рассмеялся. – На нем мы и решим, что со мною делать. Понятно?
Из зала, сразу из нескольких мест, донеслось робкое: «Понятно».
– А теперь по домам – разойдись! – скомандовал Семенов.
Подобные штуки Григорий Михайлович Семенов потом проделывал не раз – он оказался великим мастером по этой части. И почти всегда – за редким исключением – выигрывал с-хватки.
Пока собравшиеся, опасливо косясь на крутого есаула, покидали атаманский дом, Семенов подозвал к себе Бурдуковского и приказал ему:
– Срочно собирай вещи! Через два часа мы должны покинуть Читу.
Бурдуковский помчался выполнять приказание, а Семенов, поигрывая плеткой, пошел в шашлычную к казакам: уж коли пригласил их на обед, то надо угостить станичников так, чтобы обед этот остался у них в памяти до конца дней…
Напоил Семенов земляков знатно, половина из них не могла держаться на ногах, ползала по шашлычной на четвереньках – всех напоил и накормил, сам же прыгнул в пролетку, подогнанную Бурдуковским, и понесся на станцию – надо было успеть к маньчжурскому экспрессу.
Вместе с Семеновым и Бурдуковским Читу покинул и Замкин – совдеповец боялся, что его раскроют и тогда ему не поздоровится.
Вышел Семенов из поезда в Даурии – небольшой, неожиданно оказавшейся шумной станции. Здесь была власть казаков и никакими солдатскими комитетами да советами не пахло. Хотя совдеп все-таки имелся, но он влачил жалкое существование.
На следующий день в Даурии появился войсковой старшина барон Унгерн[39]. За ним – хорунжий Мадиевский, подхорунжий Швалов и другие. Семеновцы стали собираться в кулак. Есаул не замедлил выступить перед ним с речью.
– Все, игры кончились, – сказал он. – Мы вступаем на путь вооруженной борьбы с большевиками. Они нас предали – заключили с немцами договор, которой унижает нас. Брест-Литовским называется… Как комиссар Временного правительства я отказываюсь подчиняться этой власти. У меня все!
Собравшиеся поддержали Семенова, ни один не выступил против. А младший урядник Бурдуковский, покраснев – горячая кровь у него была размешана холодом, – вскочил с места и взметнул над головой кулаки:
– Все на борьбу с большевиками!
В Даурии нашелся свой Замкин. По фамилии Березовский. Член совдепа не только местного, но и совдепа Читинского. Кроме того, в Даурии он занимал довольно приметную должность коменданта станции. Семенов пригласил его к себе на чай с баранками и кедровой настойкой и после десяти минут сидения за столом понял, что гость – «человек никудышный, крайне вздорный и бестолковый, но с повышенным самомнением…». Это болезненное самолюбие в свое время сослужило Березовскому плохую службу – он попал под суд, угодил в дисциплинарный батальон; после революции, изобразив из себя рьяного борца с царизмом, благополучно избавился от всех ярлыков и дисциплинарных «хвостов»…
– Я предлагаю вам перейти ко мне на службу, – сказал ему Семенов после второй стопки великолепного горького напитка, пахнущего сухими орехами и давленой тонкокожей скорлупой, глянул на Березовского в упор. У того, бедного, на лбу выступил мелкий блесткий пот.
Березовский молчал. Только кадык у него на шее дернулся вверх, потом шлепнулся вниз. Семенов, услышав влажный звук, понимающе улыбнулся.
– Как военный комиссар Временного правительства[40] я через несколько дней произведу вас в прапорщики, – произнес Семенов торжественно, – иначе что же такое получается: вы занимаете такую приметную должность, командуете людьми, а на погонах у вас не то чтобы звездочек – даже лычек нет… Непорядок.
По неожиданно повлажневшим и потеплевшим глазам Березовского Семенов видел – тот клюет.
– Чем я могу вас отблагодарить? – сглотнув слюну, спросил гость хриплым шепотом.
– Чита вам доверяет?
– Вполне.
– Будете передавать в Читу, в совдеп только ту информацию, которой буду снабжать вас я. Все остальное – задерживать и класть мне на стол. Больше ничего не надо.
«Пользуясь полным доверием Читинского совдепа, он своей тенденциозной информацией спутал все расчеты Читы, – написал впоследствии Семенов об этом человеке, – и удержал ее от активных действий против меня в такой момент, когда мою деятельность можно было легко пресечь без всяких усилий».
Ставку Семенов решил сделать на генерал-лейтенанта Дмитрия Леонидовича Хорвата[41] – управляющего КВЖД. Денег у Хорвата было много, а вот собственных боеспособных частей – ни одной. Хотя времена наступали смутные и железную дорогу надо было защищать. Поэтому Семенов собрался поехать к Хорвату с предложением сформировать отдельную казачью бригаду. Для совместных нужд, как говорится.
Для начала Семенов отправил к нему поручика Жевченко с письмами, и тот вскоре по железнодорожной связи сообщил неутешительное:
– Генерал Хорват не собирается бороться с большевиками. Собственные воинские части ему не нужны.
– Как же он в таком разе собирается защищать железную дорогу?
– Хорват ведет переговоры с китайскими властями. Предлагает им ввести свои войска в полосу отчуждения КВЖД.
Это было неприятное известие.
В это время Иркутский совдеп, согласовав вопрос со Смольным, назначил нового управляющего железной дорогой – большевика Аркуса. Он обитал в одном из поселков КВЖД, постоянно менял квартиры и собирался ехать в Иркутск за инструкциями и соответственно – за мандатом. Семенов, узнав об этом, усмехнулся, расправил усы и подкрутил на них колечки.
Попытка смены власти на КВЖД не удалась, как потом отметил Семенов, «исключительно благодаря моему своевременному вмешательству, которое повлекло за собой окончательный мой разрыв с советской властью».
Когда поезд, на котором Аркус следовал в Иркутск, остановился на станции Даурия, в вагон, где располагался новый управляющий КВЖД, ворвалась группа казаков и выволокла новоиспеченного «генерала» на перрон. Семенов не собирался его долго держать в кутузке – ну, неделю-две, не больше: ему важно было сбить с него начальственную спесь, а если Аркус заявит, что в Иркутск не поедет – и вообще отпустить его, и сделать это незамедлительно, посадить на поезд, уходящий в глубину Китая, и помахать вслед белым платочком.
Любой нормальный человек на месте Аркуса поспешил бы принять эти условия и бегом бы устремился в поезд, уходящий на восток, но только не Аркус. Он повел себя иначе. Презрительно смерил Семенова с головы до ног и проговорил сквозь зубы, сплевывая слова, будто подсолнуховую скорлупу:
– Я вас не знаю и знать не хочу.
– Ить ты! – Семенов усмехнулся и вновь подкрутил пальцами колечки на усах.
– Вы пойдете под суд, и вместе с вами – те лица, которые незаконно произвели мой арест.
– Ить ты! – вторично усмехнулся Семенов. – Произвели! Незаконно! – Повернулся к казакам, которые привели Аркуса. – Ну-ка, станичники, перетряхните вещички этого господина. Вдруг найдется что-нибудь интересное.
Интересное нашлось. Из багажа Аркуса были извлечены бумаги, одна – по поводу Семенова, другая – Хорвата, согласованные с китайскими властями, где черным по белому было написано: есаула Семенова Г.М. следует немедленно арестовать, генерал-лейтенанта Хорвата Д.Л. с должности сместить.
Семенов повертел бумаги в руках, весело оскалил зубы и подошел к Аркусу:
– Арестовать меня, значит, вздумали?
Аркус презрительно сжал глаза в щелки, разом становясь похожим на китайца, мотнул головой. Жест был непонятным: то ли он подтверждал возможность ареста Семенова, то опровергал его, а через мгновение есаул обнаружил, что в него летит плевок.
Еле-еле Семенов от этого плевка увернулся и не замедлил ответить – в нем мигом вскипела злость, и есаул коротко, без замаха, очень умело ударил Аркуса кулаком в лицо.
– Хватит разбираться с этим сукиным сыном! – просипел он неожиданно сдавленным голосом, позвал своего верного урядника: – Бурдуковский!
Бурдуковский подскочил к есаулу, козырнул лихо:
– Ваше высокоблагородие!
– Что у нас с военно-полевым судом? Он существует?
Этого Бурдуковский знать, естественно, не мог; не отрывая ладони от папахи, он виновато приподнял одно плечо.
– По-моему, нет.
– Отрядить трех человек в военно-полевой суд, – приказал Семенов. – Немедленно!
Этот суд из двух солдат и одного офицера собрался на станции Даурия через десять минут. Заседание проходило в кабинете Березовского. Было оно недолгим: суд на одном дыхании, едва войдя в кабинет коменданта станции, вынес вердикт: смертная казнь. Приговор был окончательным, обжалованию не подлежал и в исполнение должен быть приведен немедленно.
Аркус, не ожидавший такого поворота, побледнел, лицо его сделалось потным, он знакомо мотнул головой – не верил, что его могут расстрелять.
– Напрасно, голубчик, не веришь. – Семенов усмехнулся и приказал верному Бурдуковскому: – Решение военно-полевого суда – к немедленному исполнению!
Двое казаков подхватили Аркуса под локотки и поволокли за станционный сарай. Аркус пробовал что-то кричать, но мороз, ветер, густой дым, валивший из станционной трубы – там только что в печь засыпали полцентнера угля, – заталкивали слова ему обратно в глотку. И Аркус, поняв, что все кончено, что он проиграл свою партию окончательно, заплакал.
Через несколько минут за сараем грохнули два выстрела, один за другим. Несостоявшегося управляющего КВЖД не стало.
Семенову было понятно: промедление смерти подобно, к Хорвату надо ехать сегодня же. Но помешали спешные дела, и выехал есаул лишь на следующий день, через сутки, в девять часов утра восемнадцатого декабря 1917 года, вместе с урядниками Бурдуковским и Батуриным прибыл на станцию Маньчжурия.
Жизнь тут была много веселее, чем на станции Даурия, – здесь имелось несколько трактиров и лавка колониальных товаров. Из российских на полках лежали спички, произведенные еще до Великой войны на станции Седанка, что под Владивостоком, – видно, закуплены были спички в количестве сверхизбыточном, раз их до сих пор не сумели распродать, поскольку ныне фабрика в Седанке, ставшая японской, спички не выпускала; были еще и бабьи ленты, которыми можно и одежду украшать, и волосы подвязывать, все остальное – иностранное: слабенькое японское пойло саке, которое – тьфу! – надо употреблять горячим, твердые американские галеты, напоминающие прессованную фанеру, такие они были невкусные, австралийская ветчина в железных банках, похожих на традиционные чайные коробки, украшенные ярким рисунком, и жесткая, как железо, вяленая страусятина.
Есаул, увидев страусятину, лишь изумленно покачал головой:
– Ну и ну! – Спросил у лавочника: – Сам-то пробовал?
– Пробовал, – неохотно ответил тот и испуганно покосился на дверь, словно оттуда должен был выползти злой Змей Горыныч, – мясо и мясо, не отличается от коровьего, только зубы надо иметь хорошие.
– Зубы всегда надо иметь хорошие. А чего сидишь такой невеселый? Заболел, что ли? Или плохо позавтракал? А?
Лавочник неопределенно махнул рукой:
– Вот именно, «а», господин генерал.
– Да не генерал я. – Семенов поморщился.
– Все равно – большой человек. А быть невеселым есть отчего, извините великодушно. Сегодня обещают прийти посланцы из сов-депа. Слышали о таком?
– Слышал. И видел. И в Чите, и в Иркутске. Даже близко соприкасался.
– Вот и мы с хозяином соприкоснулись.
– И что же?
– Лавку нашу сегодня собираются экс… экс… тьфу! – отплюнулся лавочник, выдернул из-под весов клочок бумажки, на котором было записано трудное слово и прочитал по слогам: – Экс-про-при-и-ро-вать. Без стакана водки не выговоришь. Неприличное слово.
– Действительно неприличное, – согласился Семенов и, купив страусиного мяса и галет, вместе со спутниками двинулся в паспортный пункт.
Под ногами остро, будто стеклянное крошево, скрипел снег. На ветках деревьев сидели голодные, по-собачьи нахохлившиеся вороны. А вот собак не было видно. Семенов удивился этому.
– Здесь, в зоне отчуждения, полно корейцев, – пояснил Бурдуковский. – Для них собачатина – все равно, что для нас парная телятина, такое же желанное блюдо. Делают они из собачатины мясо «хе» и наедаются так, что потом на ноги подняться не могут.
– Эге! – продолжал удивляться есаул. – А я-то думаю: где собаки?
В паспортном пункте сидели два офицера.
Увидев есаула – человека, старшего по званию, – хмурый военный чиновник представился:
– Куликов!
Его коллега, молодой, румяный, с двумя серебряными значками на гимнастерке – один был университетский, второй – об окончании школы прапорщиков – также не замедлил представиться:
– Прапорщик Кюнст!
Семенов положил на стол военного чиновника свой паспорт, рядом – бумаги Бурдуковского и Батурина, взял стул и, повернув его спинкой вперед, сел, как на коня.
– Направляемся к господину Хорвату, – пояснил он, глянул в окно, неожиданно заметил там китайского солдата и поинтересовался: – Расскажите-ка, господин хороший, что тут у вас происходит? Китайцы почему-то разгуливают в зоне отчуждения, как у себя дома.
На лице военного чиновника появилась грустная улыбка, он сбил с левого погона какую-то соринку и также глянул в окно.
– Вчера сюда пришла китайская пехотная бригада. При полной выкладке. Будут разоружать наших.
– Как разоружать? – Семенов привстал на стуле, будто в стременах. – Какое право имеют эти тыквенные головы разоружать наших солдат?
– Господин есаул, революционные преобразования докатились из России и сюда, на КВЖД. Никому ни до чего нет дела. Власть бездействует, железнодорожная рота и ополченческая дружина, составляющие гарнизон города, полностью деморализованы, на всех заборах, как воробьи, сидят и горланят агитаторы, в городе – грабежи, убийства, ночью за порог дома выйти нельзя… А-а! – Лицо военного чиновника исказилось, он отвернулся в сторону, расстроенный. – В общем, китайцы решили взять власть в свои руки, разоружить гарнизон и навести в городе порядок.
– Китайцы… Чтобы они разоружали русских? – негодующе воскликнул Семенов. – Этого еще не хватало! – Словно о чем-то вспомнив, он достал из кармана кителя мандат, полученный им в Петрограде, положил на стол перед военным чиновником.
Тот медленно зашевелил губами:
– Воен-ный комис-сар Дальне-го Востока. – Краска прилила к его лицу, и Куликов поспешно вскочил с места.
– Сядьте! – сказал ему Семенов. – Пригласите-ка лучше ко мне сюда, в здание станции, начальника китайского гарнизона, командира бригады, начальника дипломатического бюро Цицикарской провинции с драгоманом[42], городского голову и начальника милиции.
Военный чиновник лихо щелкнул каблуками, перевел взгляд на прапорщика:
– Кюнст, выполняйте приказание!
Кюнст вскочил с обрадованным видом, как и его начальник, щелкнул каблуками и, сдернув со старой рогатой вешалки шинель, исчез.
– М-да, и вас, оказывается, тоже разложили большевики, – удрученно протянул Семенов, пригладил ладонью усы.
В разговоре он не сразу обнаружил, что сзади, в самом темном углу, у весело потрескивающей поленьями печки сидит еще один человек и неотрывно глядит на огонь. Поручик с седыми висками словно погрузился в этот огонь целиком, стал частью его и на людей, заходивших в паспортный пункт, не обращал внимания.
Печать беды лежала на твердом, изрезанном морщинами лице этого человека – хорошо знакомая Семенову по фронту. Люди с такой меткой обязательно погибали в ближайшем бою. Семенову сделалось душно, и он повел головой в сторону, пытаясь освободить себе горло. Это не помогло, Семенов расстегнул на воротнике кителя крючок.
– Что-то случилось, поручик? – спросил он.
Вместо поручика ответил военный чиновник:
– Случилось. В нашем здании, на втором этаже, заседает революционный трибунал – солдаты судят поручика Егорова…
– Вас, значит? – Семенов ткнул пальцем в сидящего у огня офицера.
– Так точно, – ответил военный чиновник.
– И за что, простите великодушно… судят?
– Ни за что! – У Куликова от возмущения даже задергалась одна бровь. – За то, что отказался выполнять приказания разложенцев и дезертиров.
– Понятно, – тихо и очень отчетливо произнес Семенов, потискал рукою воздух, словно разминал застоявшиеся пальцы, выкрикнул зычно, будто в атаке: – Бурдуковский!
Урядник словно из воздуха возник, только что не было его, отирался на перроне станции – и вот он, уже стоит посреди комнаты.
– Я!
– Встань у дверей с винтовкой и никого сюда не впускай. Если явятся господа-товарищи за поручиком Егоровым, – гони их в шею. Не послушаются – можешь врезать прикладом по зубам. Понял?
– Так точно!
– Действуй! – Семенов повернулся к поручику: – Не бойтесь никого и ничего. И тем более – самозванного революционного суда.
Через двадцать минут на лестнице послышался топот, дверь в приемной с треском распахнулась, раздались возбужденные голоса. Бурдуковский, державший винтовку у ноги, напрягся. Семенов со скучающим видом отвернулся к окну – в окно была видна колониальная лавка. Ее деревянная дверь, на манер сундука окованная рисунчатыми полосками меди, открылась, и на улицу вывалился шустрый старичок. В руке он держал новенький кожаный баул ядовитого оранжевого цвета. Похоже, это был хозяин лавки, в которой Семенов купил два фунта вяленого страусиного мяса. За хозяином торопливо потрусил тонконогий рыжеголовый паренек в треухе, сброшенном с головы на спину, – треух держался на матерчатых завязках, затянутых спереди в узелок.
Из приемной послышались крики.