Верная Богу, Царю и Отечеству. Книга 2
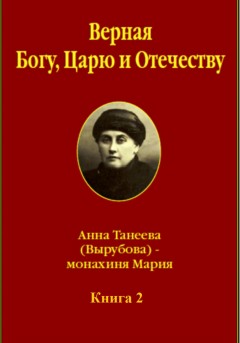
Верная Богу, Царю и Отечеству
Анна Александровна Танеева (Вырубова) – монахиня Мария
Книга 2
Архивные материалы и исторические зарисовки к духовному портрету блаженной памяти монахини Марии, в миру Анны Александровны Танеевой (Вырубовой)
Автор-составитель – Юрий Рассулин
Схиархимандрит Херувим (Дегтярь) благословил подготовку документальных материалов для 1-ой части книги «Верная Богу, Царю и Отечеству» («Воспоминания»), а также написание 2-ой части («Книга 2»). Он же предложил название книги: «Верная Богу, Царю и Отечеству».
Не умру, но жив буду, и повем дела Господня
(Пс. 117, ст. 17)
Избави мя от клеветы человеския, и сохраню заповеди Твоя
(Пс. 118, ст. 134)
Вступление. ОСКОЛОК ЗАТОНУВШЕГО КОРАБЛЯ
Судьбы верных сынов и дочерей России, как прекрасные, благоуханные цветы, вплетены в сияющий венец русской славы. И каждому, кто любит Россию и бережно хранит в своей памяти заветные страницы русской истории, небезразличны имена тех, кто хотя бы маленькую частицу себя, своей судьбы, своего личного благополучия положил на алтарь служения Отечеству, внёс пускай и небольшую лепту в многокрасочную и многогранную, необъемлемую и восхитительную сокровищницу русского духа.
Память об этих людях, как о наших славных родных, священна и должна быть вечно хранима в народе, а дела их с благодарностью восприниматься потомками и вызывать в русском сердце трогательное, благоговейное чувство сыновней любви. Разговор о них – не праздное занятие, но есть то, что помогает нам жить и выжить сегодня, сохраниться как народ, память о них призвана укрепить наш дух, утвердить веру в конечную победу и торжество русской правды, которая есть и ими воспринималась не иначе как правда Божия, как Божие откровение о России – о Руси Святой. Именно в том, что русская правда есть правда Божия, берёт своё начало наша уверенность, что всё не зря, не зря принесены пред Богом чистые жертвы верных сынов России – не за что другое, но за святые русские идеалы – за Веру, Царя и Отечество. В этом залог русской победы!
Среди множества славных, известных и неизвестных, сокрытых до времени имён достойное место принадлежит имени замечательной русской женщины, человека необыкновенной судьбы. Анна Александровна, урождённая Танеева, а в замужестве Вырубова, – ближайшая подруга, сотаинница и сподвижница последней русской Императрицы, святой Царицы-великомученицы, Государыни Александры Феодоровны. Об Анне Танеевой пойдёт речь в этой книге. Её жизненный путь Божиим Промыслом оказался так тесно переплетён с судьбой святых Венценосных Страдальцев, что разделить их невозможно, несмотря на то, что вторую, большую часть своей жизни Анна Александровна провела вне непосредственного общения со своими Царственными друзьями, так как их уже не было в живых, а сама Анна Александровна находилась в изгнании, за пределами горячо любимой Родины. Но несомненно, что духовная связь их не прерывалась. Недаром в момент последнего на земле расставания, перед тем, как их насильно разлучили, «Императрица сквозь рыдания сказала, указывая на небо: «Там и в Боге мы всегда вместе»». 1
Этим благословением-напутствием и жила Анна Александровна все последующие годы, когда буря революционных событий, потрясших Россию, сокрушивших самые основы России исторической, выплеснула прошедшую через столькие испытания и лишения русскую женщину в тихую и безмятежную гавань, каковой оказалась Финляндия – страна, приютившая многих русских изгнанников-страдальцев. Все они оказались перед лицом страшной действительности: прежнее безвозвратно погибло, рухнул старый, добрый мир царской России, так чудно воспетый Иваном Шмелёвым, завершилась целая историческая эпоха русского самодержавия, попраны священные идеалы, потерян смысл бытия для русского человека, всё обесценено, извращено, убито. Казалось, иссякает и сам русский дух. Одно лишь осознание масштабов и значения катастрофы могло раздавить, парализовать, заставить разувериться и в жизни, и в людях.
Таков фон, на котором неожиданно прозяб и расцвёл благоуханный цветок веры в Бога, верности святым русским идеалам, твёрдости и мужества в отстаивании их. Все эти замечательные свойства, скреплённые нелицемерной, поистине евангельской любовью к ближнему и особенно к своим дорогим Венценосным Друзьям, гармонично и естественно составили душу одного человека – русской женщины, больной физически и всеми отверженной. После пережитых ею страданий: ада революционных застенок, гонений, разрушающей и уничижающей клеветы, допросов, издевательств, в прямом смысле слова оплеваний и заушений, – её дух, казалось бы, навсегда должен быть подавлен, угнетён. Ведь там, в России, ей никто не верил. Несмотря на абсурдность всех обвинений, отсутствие каких бы то ни было улик, общественное мнение упорно обвиняло её в самых страшных, отвратительных грехах и преступлениях. Казалось бы, человек, прошедший через все это, уже никак не сможет проявить себя, что-то доказать, как-то оправдаться. Но не таковою оказалась Анна Александровна Танеева. Испытания только очистили её душу, освободили от лишнего, позволили проступить самому основному, раскрыть глубину и величие русского духа, сокрытого в немощном сосуде, каковым была больная женщина, оказавшаяся в столь тяжких обстоятельствах.
Среди хаоса мыслей, смятения душ, забвенья святынь Анна Александровна Танеева всем строем своей души, всем опытом своей жизни, мировоззрением явилась отпечатком, символом и хранителем прежней русской жизни в её подлинной, коренной основе. По меткому выражению валаамского старца схиигумена Иоанна (Алексеева), она была «осколком затонувшего корабля». Т.е. осколком русского мира, мира глубокой веры в Бога и преданности идеалам царской самодержавной России.2
Обстоятельства жизни Анны Танеевой: знакомство с Государыней Александрой Феодоровной, поступление на службу Её Императорскому Величеству, эпизоды совместного их пребывания на императорской яхте «Штандарт», на отдыхе в Ливадии, за границей, в поездках по святым местам, а также события, сопутствовавшие Японской и Германской войнам, началу революции и т. д. подробно изложены Анной Александровной в её воспоминаниях. Нет нужды заново повторять её повествование.
Однако хочется остановиться на некоторых наиболее существенных, с нашей точки зрения, сторонах её жизни для того, чтобы освободить образ Анны Александровны от злонамеренных искажений, клеветнических вымыслов, тщетных, но настойчивых попыток очернить её как ближайшую подругу и сподвижницу Государыни. За плотной вереницей событий, участником или свидетелем которых явилась Анна Александровна, за калейдоскопом лиц, окружавших Царскую Семью и её саму, за обилием описаний, воспоминаний, мнений, зачастую противоречивых в оценках её жизни и характера, постараемся увидеть главное – тот самый евангельский плод, по которому узнаем и душу, и сердце человека, то главное, что лежит в основе человеческой личности и что, быть может, единственно дорого и для Бога, и для людей, и для истории.
Этот главный плод её жизни можно выразить двумя словами, которые обозначают качества души, так редко встречаемые среди современных людей и которых так не хватало подданным Государя накануне революционной катастрофы. Слова эти – верность и любовь. Мы имеем в виду любовь в высоком, евангельском смысле этого слова, а верность – не просто идеалам, допустим, «своим» или «партийным», но идеалам Истины, которые для русского человека неразрывно связаны с исповеданием триединства Веры Православной, Царя Самодержавного и Русского Отечества. (Пусть это не покажется преувеличением тем, кто увидит в наших словах недопустимую вольность. Действительно, Триедин только Господь Бог. Но для русской души одно без другого всё же не существует. И хотя понятия разные, но суть одна. Если русский, значит православный и царский слуга, и наоборот. Лучшего слова, чем триединство здесь не подберёшь).
Глава 1. Родовые корни. Воспитание. Свойства характера
Анна Александровна Танеева родилась 16/29 июля 1884 года в аристократической семье придворного статс-секретаря и главноуправляющего Его Императорского Величества канцелярией, обер-гофмейстера Александра Сергеевича Танеева – человека высокообразованного, музыкально-одаренного, замечательного композитора, горячо любившего своего Государя и до конца своих дней преданного Ему. Всю свою жизнь он служил Царю честно и безупречно.
Помимо Анны в семье Танеевых было ещё двое младших детей: Сергей и Александра (Аля), вышедшая впоследствии замуж за камер-юнкера Александра Эриковича Пистолькорс. И брата, и сестру Анна Александровна нежно любила.
Особого внимания заслуживают родовые корни Анны Александровны. В связи с обширностью материала, родословная роспись предков Анны Александровны Танеевой вынесена в отдельное «Приложение». Здесь же немного подробнее коснёмся самых близких родственников – отца и матери.
Рассказывая о своём отце, Анна Александровна пишет, что «тот же самый пост занимали его дед и отец при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III». Уточним, что речь идет соответственно о прадеде Анны Танеевой – действительном тайном советнике Александре Сергеевиче Танееве и о её деде – Сергее Александровиче Танееве, также имевшем чин вымышленного тайного советника. Оба занимали должность главноуправляющего 1-м отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярией. Дед Анны Танеевой был женат на Анне Васильевне Бибиковой.3
О той атмосфере благоговейного почитания и беззаветной любви к Государю, которая царила в семье Танеевых, можно судить по одному эпизоду, рассказанному Анной Александровной в своих воспоминаниях. Она пишет, что ее отец был единственным из всех министров, кто понял и по достоинству оценил самоотверженный поступок Царя по принятию на себя верховного командования армией в 1915 году, понял «его желание спасти Россию и армию от грозившей опасности, и написал Государю сочувственное письмо. Государь ему ответил чудным письмом, которое можно назвать историческим. В этом письме Государь изливает свою наболевшую душу, пишет, что далее так продолжаться не может, объясняет, что именно побудило его сделать этот шаг, и заканчивает словами: «Управление делами Государства, конечно, оставляю за собой». Подпись гласила: «Глубоко вас уважающий и любящий Николай»».4
Анна Александровна посвятила своему отцу удивительно трогательные, проникновенные строки, исполненные любви и благодарности. «25-го января 1918 г. скоропостижно скончался мой возлюбленный, дорогой отец, благороднейший, бесконечно добрый и честный человек. Как глубоко уважали и любили его Государь и Государыня, свидетельствуют письма ко мне Государыни после его смерти. Невзирая на всю долголетнюю свою службу – всей душой преданный их Величествам – он умер, не оставив после себя ничего, кроме светлой памяти бескорыстного человека и глубокой благодарности в сердцах тех многочисленных бедных, которым он помогал. Я говорила, что отец мой был композитором и музыкантом, и часто, когда его спрашивали о его звании, он отвечал: «Я прежде всего «свободный художник» Петербургской консерватории, а потом уже все остальное». На его похоронах хор Архангельского вызвался петь литургию его сочинения, отличавшуюся кристально чистой музыкой, – как кристально чиста была и его душа».5
Любовь к музыке Александр Сергеевич привил и своим детям. Его дочь Аня прекрасно пела и играла на рояле, что послужило одним из поводов для сближения ее с Императрицей, которая часто посвящала досуг музыке. Государыня находила удовольствие играть с Анной в четыре руки на рояле. Кроме того, замечательный голос Государыни, «чудное контральто», как свидетельствует Анна Александровна, сочетался с высоким сопрано молодой фрейлины, почему Александра Федоровна любила петь с нею дуэтом.
Символично, что и домик в Царском Селе, где поселилась Анна Танеева и где так часто ее навещали Царская Чета и Царские Дети, был связан с музыкальными традициями Царского Села, поскольку ранее принадлежал композитору, преподавателю музыки и пения Царскосельского лицея барону Людвигу Вильгельму Тепперу де Фергюсону (или просто Вильгельму Петровичу, как называли его лицеисты, которые часто бывали у своего учителя, а среди них и молодой Александр Пушкин).6
Надо отметить, что музыкальные дарования в роду Танеевых особенно ярко проявились у двоюродного брата Анны Александровны – Сергея Ивановича Танеева – знаменитого композитора и музыканта, педагога и ученого, лучшего ученика и близкого друга П.И. Чайковского, ученика Н.Г. Рубинштейна, возглавлявшего Московскую консерваторию, преподававшего в ней и воспитавшего целую плеяду музыкальных знаменитостей, среди которых имена С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, А.Т. Гречанинова, С.М. Ляпунова и многих других.7
В воспоминаниях Анны Александровны гораздо меньше внимания уделено её матери – Надежде Илларионовне, урождённой Толстой. Это объясняется единственно тем, что в момент написания воспоминаний дорогая мама Анны Александровны находилась рядом. Тогда как горестное чувство недавней невосполнимой утраты горячо любимого отца всё ещё было сильно, острой болью бередило сердце и дочери, и матери.
По линии матери в родословной Анны Александровны Танеевой переплелись многие знаменитые дворянские роды: Кутайсовы, Бибиковы, Толстые. В числе родственников – Голицыны, Хитрово. Среди них можно встретить, героев войны 1812 года, дипломатов, придворных, людей необыкновенной судьбы. Рассказ о них мог бы составить отдельную книгу.
Анна Александровна кратко останавливается на своем происхождении и родстве, поведав о том, что наиболее знаменитым среди ее родственников является фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов, который приходился прадедом её родному деду по материнской линии – И. Н. Толстому. Это родство шло по линии старшей дочери Михаила Илларионовича – Прасковьи Михайловны. Таким образом, сама Анна Танеева доводится пра-пра-правнучкой знаменитому полководцу.8
Дед А. А. Танеевой, Илларион Николаевич Толстой (1832 – 1904), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, флигель-адъютант Государя Императора Александра II, являлся владельцем родового поместья вокруг села Рождествено что под Москвой. Здесь семья Танеевых проводила шесть месяцев в году. И хотя Анна Александровна лишь вскользь упоминает об этом, это обстоятельство является немаловажным в ее судьбе.
Подмосковное село Рождествено расположено в удивительно красивом уголке нашей Родины на левом берегу реки Истры, которая немного далее впадает в Москва-реку. Поймы сливающихся рек формируют живописный ландшафт. Мягкий рельеф местности с плавным чередованием возвышенностей и низин покрыт ковром, изящно сотканным из лесов, луговин и искусно расчерченным линиями убегающих в разные стороны дорог. И повсюду – вкрапления сел и деревень, вольно раскинувшихся по лицу матушки-земли, с непременными силуэтами храмов и колоколен, своими маковками, устремленными ввысь и как бы соединяющими Божий мир с его Творцом. Милый, уютный, такой привычный русскому взору и такой родной русскому сердцу пейзаж.
Но неумолимое время наложило свой отпечаток и на этот уголок русской земли: дачные поселки с нелепыми коттеджами, бесконечные глухие заборы, правительственные санатории и закрытые дома отдыха на месте барских усадеб. Да и население сильно разбавлено инородцами, активно скупающими элитные дачные участки. Тем не менее лик земли русской все еще прекрасен, картина былой красоты и величия торжественно проступает сквозь уродливые шрамы, нанесенные ей беспощадной «цивилизацией».
Земля эта замечательна не только своей природой. Помимо Рождествено здесь расположены знакомые многим москвичам села Павшино, Нахабино, Аносино (где располагался, а ныне возрожден из руин Борисо-Глебский женский Аносин монастырь), Павловская слобода, Николо-Урюпино, Ильинское, Усово, Петровское (Петрово-Дальнее), Архангельское. Все вместе они формируют историко-географическое пространство, описание которого уходит в глубь московской старины. К этой земле вплотную примыкают пределы Звенигорода, где находится монастырь преп. Саввы Сторожевского, а далее вверх по Истре бывшее село Воскресенское (нынешний поселок Истра) и монастырь Новый Иерусалим. Каждое из этих мест связано с историей дворянских родов бывших владельцев поместных усадеб, а Новый Иерусалим – с именем Патриарха Никона, олицетворяющего один из наиболее драматичных периодов в истории Русской Церкви и Русского государства.
Земли вокруг села Рождествено Император Павел I при восшествии своем на Престол пожаловал вместе с графским достоинством Ивану Павловичу Кутайсову, уроженцу города Кутаиса и турку по происхождению. Отроком он был взят в плен русскими войсками во время турецкой кампании, но был замечен Великим князем Павлом Петровичем, который с ним подружился, затем его окрестил и приблизил к себе.9
Граф Иван Павлович Кутайсов женился на дочери Санкт-Петербургского бургомистра Анне Петровне Резвой, «очень доброй и почтенной женщине, которая умерла гораздо спустя своего мужа, дожив до преклонных лет».10 Ее отец Пётр Терентьевич Резвой, до назначения бургомистром (в 1774) являлся подрядчиком Дворцового ведомства и поставлял ко Двору Императрицы Елизаветы Петровны живых стерлядей.11
Выйдя в отставку, граф Иван Павлович Кутайсов поселился в селе Рождествено, в усадьбе, которую он отстроил на современный по тому времени манер, и разбил великолепный сад. При нем была возведена новая каменная церковь Рождества Христова в классическом стиле.
У четы Кутайсовых было четверо детей. Второй сын Александр, герой войны 1812 года, генерал-майор, в 28 лет командовал артиллерией в Бородинском сражении и был убит в бою. Младшая дочь Надежда вышла замуж за князя Александра Федоровича Голицына. А их дочь Александра, бабушка Анны Танеевой, соединила свою судьбу с Илларионом Николаевичем Толстым. Отсюда следует, что «друг Павла I», как назвала в своих воспоминаниях Ивана Павловича Кутайсова Анна Танеева, доводится ей прапрадедом.
Судьба имения Рождествено в советское время печальна. На территории барской усадьбы разместился санаторий Верховного Совета. Разрушена планировка парка, от которого сохранился лишь один грот. Барский дом перестроен и стал одним из больничных корпусов, который ничем не выделяется среди прочих, вновь возведенных санаторных построек. Пространство вокруг санатория, который ныне носит название «Дом отдыха «Снегири», застроено типовыми пятиэтажками и полностью обезличено.
На этом фоне удивительна судьба Рождественской церкви. Ее не миновала участь всего барского имения. В 1937 году церковь была закрыта. Настоятель отец Александр Стогов и его брат-учитель репрессированы. В помещении храма хранили удобрения (селитру), через алтарь въезжали машины. Склеп, где покоились останки владельцев села Рождествено и строителей каменной Рождественской Церкви, графа Ивана Павловича Кутайсова и его жены графини Анны Петровны, был вскрыт и осквернен. Черепами погребенных мальчишки играли в футбол. Одно время советские власти хотели восстановить храм, замечательный памятник классической архитектуры. Однако трижды приезжавшие комиссии выносили один и тот же приговор – восстановлению не подлежит.
Но милосердный Господь призрел на сей запустевший и обнищавший духом уголок Русской земли. Произошло чудо. Усилиями назначенного на приход в 1996 году священника Александра Елатомцева и его прихожан храм был восстановлен из руин, возрождена приходская жизнь. Вновь в селе Рождествено, как некогда, зазвучали колокола. Останки графа Ивана Павловича Кутайсова и его жены Анны Петровны с честью перезахоронены и вновь почитаемы русскими людьми. Установлен памятный обелиск молодому артиллерийскому генералу Александру Ивановичу Кутайсову – герою войны 1812 года. Обретают новую силу древние традиции церковноприходской школы, основание которым положили славные предки Анны Александровны Танеевой. И хотя, как всегда в наше время, прихожанам церкви Рождества Христова и их молодому настоятелю по-прежнему приходится преодолевать неимоверные трудности на их подвижническом пути, Божье определение о селе Рождествено невозможно изменить. Ручеек жизни подлинной, жизни духовной потек и, даст Бог, соединившись с такими же ручейками, пробивающимися отовсюду, превратится в реку, которая оросит и напитает иссохшуюся почву русской жизни в здешних местах. Местах, славных героическим прошлым, освященных подвигом труда и молитвы прежних поколений русских людей, принесших жертвенный плод веры, любви и созидания во славу Бога, Царя и Отечества.
По соседству с Рождествено находится село Ильинское, которое некогда входило в состав вотчинных владений Московских Государей, так называемых «дворцовых вотчин». В XVI-XVII веках село являлось центром «государевой конюшенной волости», где «на обширных заливных лугах, которые тянулись вниз по течению реки в сторону Павшино, паслись бесчисленные табуны лошадей, потребные для государева войска». В 1634 году это Дворцовое село было пожаловано боярину Василию Ивановичу Стрешневу, верой и правдой служившему первому из рода Романовых Царю Михаилу, который, кстати, был женат на дальней родственнице В.И. Стрешнева – Евдокии Лукьяновне Стрешневой. Родному брату Царицы, Семену Лукьяновичу Стрешневу, перешло Ильинское после смерти Василия Ивановича. Стрешневы владели имением вплоть до конца XVIII века.12
Но уже в первой половине XIX века хозяином имения оказался дальний родственник матери Анны Александровны Танеевой – герой войны 1812 года, граф Алексей Иванович Остерман-Толстой (доводившийся племянником последнему владельцу из рода Стрешневых, которого, как и первого владельца, звали Василий Иванович).13 В чине генерал-лейтенанта А. И. Остерман-Толстой участвовал в Бородинском сражении и отличился на батарее Раевского.14
Затем имение перешло к его племяннику князю Леониду Михайловичу Голицыну, который был женат на Анне Матвеевне, урождённой Толстой, внучке генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова и родной тётке Иллариона Николаевича Толстого (деда Анны Александровны). В 1864 году после смерти мужа Анна Матвеевна продала имение Ильинское Государю Императору Александру II, который приобрёл его для своей супруги Государыни Императрицы Марии Александровны. Пребывание Государыни в здешних местах благотворно действовало на её слабое здоровье. Александр III, унаследовавший имение после смерти обоих родителей, подарил его своему брату Сергею.15
Таким образом соседями семьи Танеевых оказались Великий князь Сергей Александрович и его супруга Великая княгиня Елизавета Феодоровна. С Ильинским и его хозяевами связаны самые теплые детские воспоминания Анны Александровны. Любовь Миллер в своей книге о преподобномученице Великой княгине Елизавете Феодоровне изобразила чудную атмосферу, которая царила в имении Ильинском. Необыкновенное милосердие к простому народу отличало хозяев имения, которых очень любили крестьяне окрестных сел и деревень за их доброту, радушие и щедрость. Ярмарки, развлечения, чаепития и угощения для простых людей были не редким и радостным событием в их жизни.16
Милостивое отношение к крестьянам являлось укоренившейся традицией в здешних местах. Тон был задан самим Императором Александром II, о чем можно судить по детским впечатлениям священника Михаила Фивейского от приезда Государя с Семьей в родное для о. Михаила село Никольское (Николо-Урюпино). О. Михаил вспоминает, насколько прост был Государь в обращении с крестьянами, добродушно и ласково разговаривал со всеми, шутил. Он пишет, что народ пускали в барский сад беспрепятственно, а когда Государь с Государыней гуляли по дорожкам сада, народ располагался по окраинам и приветствовал Царскую чету. Причем мальчишки и девчонки, как и он сам, встречали Царя без всяких приготовлений, т.е. босиком, без фуражки и без пояса.
Из слов, сказанных Анной Александровной о своем отце как о бескорыстном человеке, всю жизнь помогавшем беднякам, следует то, что и семья Танеевых не уступала соседям в добром отношении к простому народу, а подобного рода события: праздничные гуляния для жителей села с непременным барским угощением, происходили и в жизни села Рождествено. На допросе в Чрезвычайной Следственной Комиссии Анна Александровна рассказала, как любили ее родители принимать в доме простых странников, как кормили их, как слушали их неторопливые рассказы. При таком отношении к простолюдину между жителями села и владельцами усадьбы не могло быть вражды и неприязни, скорее – взаимопонимание, уважение и всяческая помощь сельчанам со стороны господ. Иного и предположить невозможно, зная, каким добрым и ласковым оказалось сердце дочери Александра Сергеевича Танеева по отношению к простым людям.
Свидетельством того, что попечение о нуждах простого народа составляло одну из важных сторон жизни владельцев села Рождествено, служит то обстоятельство, что дедом Анны Александровны, Илларионом Толстым, при храме Рождества Христова была устроена земская школа для крестьянских детей. Для школы было построено отдельное здание, от которого ныне остались лишь разрушенные стены. В школе преподавал священник Василий Стогов, а затем его сыновья: отец Александр (последний настоятель Рождественской церкви) и учитель Владимир Васильевич Стогов. Отцу Василию помогал священник по фамилии Руднев. Все это говорит о том, что вопросу образования крестьян со стороны господ уделялось особенное внимание.
Добрые отношения с жителями села Рождествено продолжались даже после того, как Анна Александровна в силу возложенных на нее обязанностей уже не могла, как прежде, подолгу бывать в своем родном селе. Но она не забывала его и его жителей и стремилась, как могла, одарить их своей лаской и заботой, передать им при случае привет. О том свидетельствуют сохранившиеся телеграммы, посланные Анной Вырубовой накануне революции в Рождествено скорее всего своей бабушке, Александре Александровне Толстой, сельскому священнику и отдельно сельским детям в ответ на поздравления сельчан по случаю ее именин. Вот эти телеграммы:
«Снигири Московско-Виндавской Рождествено
Толстой
Обнимаю горячо благодарю всех здоровы
Аня Вырубова».
«4 февраля 1917 г.
Ц. С. Дв.
Снигири Московско-Виндавской Рождествено в школу
Горячо благодарю всех детей
Вырубова».
«Ц. С. Дв.
Снигири Московско-Виндавской Свяшенику Рудневу
Горячо благодарю как занятия школе сердечный привет
Вырубова». 17
Общение с простым народом в деревне, яркий положительный пример своих родителей и своих соседей как нельзя лучше способствовали воспитанию таких замечательных качеств подлинно русского характера, какие мы находим у Анны Танеевой. По своему характеру и манерам она была воплощением доброты и простоты подлинной, свойственной скорее людям простого сословия и редко встречаемой в среде высокопоставленных аристократов.
Чтобы лучше понять необыкновенные свойства её души, полнее представить её нравственный облик, обратимся к свидетельствам людей, хорошо знавших её и занимавших самостоятельную, непредвзятую позицию в отношении Царской семьи и по отношению к ней самой, что было тогда редкостью, так как большинство представителей высшего аристократического общества, к которому принадлежала А. А. Танеева, повторим, за редким исключением, находились во власти той атмосферы, которую можно было бы охарактеризовать, как атмосферу разнузданной клеветы и жесточайшей травли Престола, а также всех тех, кто был искренне предан ему.
Ее открытость и доверчивость отражались уже во внешнем ее облике, который так передан Юлией Ден. «Она была невысокого роста, с простодушным детским лицом, большими обворожительными глазами; ее можно было принять за школьницу…».18
В. Н. Воейков в своих воспоминаниях пишет, что «Анна Александровна Вырубова была полная красивая шатенка с большими голубыми глазами и прекрасным цветом лица. Характер ее был веселый, с виду беззаботный. Молодых офицеров, которых она встречала у нас в доме, забавляла ее простая непринужденная манера держать себя; флирты ее с молодежью были не чем иным как невинным развлечением; а умение рассказывать про себя всевозможные смешные вещи с самым наивным видом сильно оживляло всякое общество, в котором она появлялась».19
Это описание дополняют впечатления С. В. Маркова: «Во время приезда Царской Семьи в 1909 году [в Ялту] я впервые увидел в гостиной своей матери А.А. Вырубову, личного друга Государыни. Насколько я помню, она по первому же взгляду произвела на меня очень хорошее впечатление своей подкупающей ласковостью и добротой. Она очень мило отнеслась к нам, детям, и мы всегда были рады ее приезду.
Внешне она была очень красивой женщиной, невысокого роста золотистой блондинкой с великолепным цветом лица и поразительно красивыми васильковыми синими глазами, сразу располагавшими к себе».20
Живая непосредственность, доступность, бесхитростность были всего лишь внешним выражением той внутренней отзывчивости, чуткости, всегдашней готовности помочь всем и каждому даже в самом незначительном и малозначащем деле, чем отличалась всю свою жизнь Анна Александровна Танеева.
Сохранилось письмо, в некоторой степени помогающее раскрыть природные свойства характера Анны Танеевой и доказывающее, насколько она, в силу своей простоты и доверчивости, помноженных на некоторую эмоциональность и чувствительность, была неискушенным, неопытным человеком и на первых порах своей службы при Государыне легко попадала впросак, наверное, в самых простых, безобидных ситуациях. Можно предположить, что такое свойство характера легко делало ее объектом насмешек, а подчас вызывало ироничное или раздражительное отношение со стороны представителей светского общества, хотя сама Анна Александровна, как видно из письма, горячо переживала за допущенную оплошность, обвиняя во всем только себя, свою неопытность и «глупость». Письмо адресовано ее родственнице графине Наталье Федоровне Карловой:
«Моя дорогая Тётя Наташа.
Очень, очень Вас благодарю за доброе письмо, не могу Вам сказать, как меня трогает Ваше участье ко мне. Я более чем в отчаянии – всем сердцем разделяю все, что Вы говорите, и не знаю, как мне выйти из глупого положения, – я по своей неопытности и глупости обещала пойти в этот театр вести М-м Ден, муж которой уехал и просил меня пойти с ней, и Сережа нас [неразборчиво], если бы Вы написали мне утром, напомни бы мне, я как бы нибудь устроилась.
Теперь же, в последнюю минуту, не знаю, как мне быть – совсем потеряла [может быть, потерялась?], я все время уже сегодня мучалась, но мои родители как-то ничего не говорили. И я так и довела до последней минуты, что мне делать? Прямо в отчаяньи. Постараюсь все как-нибудь устроить – а если не удастся, то прям не знаю, что делать.
Обнимаю Вас всей душою. Могу ли я у Вас обедать в пятницу?
Горячо любящая Вас Аня». 21
К сожалению, нередко окружавшие ее люди не могли или не хотели понять доброе расположение ее души, отсутствия каких бы то ни было признаков чопорности или кокетства, самолюбования или желания произвести впечатление. Почему-то им было легче превратно истолковывать свойства ее характера как недалекость, глупость. Такое отношение к ней можно встретить во многих воспоминаниях, написанных даже знающими ее людьми в лучшем случае в уничижительном, пренебрежительном и презрительном тоне по отношению к ней, а в худшем – исполненных всякой зависти и убийственной клеветы. Как в советской России, так и со стороны определенного круга лиц в среде русской эмиграции делались попытки исказить облик Анны Вырубовой, представить ее как женщину ограниченную, порочную.
Но чем больше узнаешь о ее жизни, чем больше знакомишься с внутренним миром ее души, кругом ее интересов, стремишься понять мотивы ее поступков, поведения, тем яснее и отчетливее, вопреки всем гнусным и злобным «словесам лукавствия», перед нами предстает дивный, чудный образ красивой, благородной русской женщины с чистой, по-детски открытой душой, которую Господь наделил замечательными качествами любви, преданности, верности, терпения, трогательной заботы и чуткости к страждущим и нуждающимся в её помощи.
С другой стороны, при всей внешней чувствительности, уязвимости и мягкости перед нами раскрывается натура зрелая, которая со временем закалилась в искушениях, приобрела так недостававший ей поначалу житейский, а затем и духовный опыт. Когда же дело коснулось сокровенных идеалов, она проявила мужество и твердость в такой степени, что в атмосфере враждебной неприязни, обмана и угроз смогла твердо и бескомпромиссно хранить верность святым идеалам и своим дорогим близким людям.
Эти свойства характера появились не вдруг, и, конечно, были заложены и укоренены в ее душе с детства, они могли развиться и окрепнуть только благодаря живому примеру, которым была так богата жизнь в семье Танеевых.
Глава 2. Духовный мир
Рассказывая о том, что повлияло на становление характера Анны Танеевой, на её мировоззрение, отношение к жизни, к людям, что в конечном итоге определило её судьбу, укажем ещё на одно, быть может, самое главное основание, которое, несомненно, было заложено в её душе ещё в детские годы. Речь идёт о её духовном воспитании.
Жизнь семьи Танеевых была окрашена глубокой верой в Бога. Тому способствовало не только внутреннее расположение к духовной жизни, которое можно наблюдать у членов семьи Танеевых, но и многие внешние обстоятельства, щедро и обильно подаваемые Господом, чтобы напитать и насладить духовными впечатлениями жаждущие этих впечатлений и тянущиеся к вечной жизни души.
В этой связи следует упомянуть, что имение Рождествено соседствовало с селом Аносино, которое расположено на противоположном берегу реки Истры и где находится женская монашеская обитель – Борисо-Глебский Аносинский монастырь (Аносина пустынь). Между владельцами села Рождествено и насельницами Аносиной пустыни издавна сложились прочные дружеские отношения, основанные, конечно, не только на добром соседстве.
Эта связь установилась еще с прадедовских времен, еще с тех пор, когда супруга графа И. П. Кутайсова Анна Петровна (пра-прабабка Анны Танеевой) была очень дружна с вдовствующей княгиней Авдотьей (Евдокией) Николаевной Мещерской (урожденной Тютчевой) – владелицей села Аносино. Мещерская и Кутайсовы хотели породниться через женитьбу сына Кутайсовых Александра на дочери Авдотьи Николаевны Анастасии. Но молодой генерал-майор Александр Иванович Кутайсов погиб в Бородинском сражении, а Анастасия Мещерская была выдана за Семена Николаевича Озерова.
Выдав дочь замуж и сложив большинство своих забот по управлению имением на плечи своих новых родственников, вдова Авдотья Николаевна Мещерская, которая после смерти мужа тяготилась мирской жизнью и всей душой стремилась к иночеству, основала в селе Аносино женскую общину, которая в 1823 году по благословению высокопреосвященного Филарета (Дроздова), митрополита (в то время архиепископа) Московского, была преобразована в женский Борисо-Глебский Аносинский монастырь. Авдотья Николаевна приняла монашеский постриг с именем Евгении и явилась первой игуменьей вновь образованного монастыря. Игуменья Евгения ввела в монастыре общежитие по уставу преподобного Феодора Студита.22
С тех пор, к моменту рождения Ани Танеевой, сменилось уже три поколения, и неизвестно, насколько тесными были связи семьи Танеевых с насельницами Аносиной пустыни в её детстве. Но несомненно, что существование женской обители со строгим монастырским уставом не могло не наложить отпечаток на жизнь людей из прилегающих селений, не только крестьян, но и господ, и не могло не повлиять на формирование внутреннего мира ребенка, у которого уже с детства прививалась любовь к благочестивым традициям православных монастырей. Кто знает, может быть, детские впечатления как раз и послужили тем духовным основанием, которое со временем оформилось, окрепло, превратилось в осознанное желание отречься от жестоко мучавшего ее мира, указало страждущей душе верный путь ко спасению в монашестве.
По слову Григория Ефимовича Распутина, который любил повторять, что напраслины в мире не бывает, вовсе не случайно и то, что в детстве Ани дом Танеевых трижды посетил о. Иоанн Кронштадтский, что свидетельствует о той духовной любви, которую питали её родители к праведнику. Батюшка Иоанн исцелил 17-летнюю Анну от брюшного тифа, который протекал в крайне тяжелой форме (с воспалением легких, почек, мозга, отнятием языка и потерей слуха), причем накануне этого события угодник Божий Иоанн явился тяжко болящей девице Анне, когда она была в забытьи, утешил ее и пообещал, что скоро она поправится.
Эта духовная связь не прерывалась в течение всей жизни Анны Александровны. О. Иоанн в видении укрепил страждущую Анну в темнице, а затем чудесным образом спас её от неминуемой смерти.
Обойти молчанием дружбу Анны Александровны Танеевой (Вырубовой) с Григорием Ефимовичем Распутиным-Новым было бы ошибкой. Разговор о нём осложнён неоднозначностью отношения к личности этого человека. Но, как бы то ни было, разобраться в этом вопросе было бы крайне затруднительным, если не попытаться взглянуть на вещи глазами самой Анны Александровны. Поскольку и в собственных воспоминаниях она считает своим долгом подробно рассказать о сибирском крестьянине, предложив читателю при этом определенные выводы, то и любому, кто пожелал бы узнать или рассказать о ней более подробно, невозможно уклониться от рассмотрения хотя бы вкратце этой темы. Было бы естественным с нравственной точки зрения, опереться, прежде всего, на отношение к Григорию Распутину самого автора, как, впрочем, и её Венценосных Друзей – Святых Царственных Страстотерпцев. Было бы также разумным принять во внимание и историческую логику момента.
Итак, в 1907 г., произошло ещё одно знаковое событие, определившее судьбу молодой фрейлины Анны Танеевой. Он познакомилась с Божиим странником Григорием. Именно так, странником одухотворенным, Божьим человеком, воспринимала и называла Анна Александровна крестьянина Григория Ефимовича Распутина. Его появление в столице весьма символично, поскольку столичная жизнь накануне революции оказалась пропитанной душной атмосферой кутежей, пошлости и фальши, грязных интриг и лукавства, зачастую полного забвения и отрицания Бога. Всему этому, с точки зрения Анны Александровны, сибирский крестьянин смог противопоставить мировоззрение простого русского человека, наделенного от Бога ревностью подвижника, трезвостью духа, щедростью души и здоровой крестьянской смекалкой. К нему потянулись те, кто хотел вырваться из когтей нового содома, в который превратился Петербург, кто желал обрести путь ко спасению своей души и видел в старце Григории пример действенной, живой веры, способной творить чудеса. К их числу принадлежала и Анна Танеева. Вслед за отцом Иоанном, старец Григорий стал ее духовным наставником, к которому она питала искреннее чувство уважения и любви, пользовалась его духовными советами, обращалась к нему за молитвенной помощью. В наших словах нет преувеличения, а то, что они соответствуют исторической правде, которую трудно отвергнуть или игнорировать, подтверждают в частности воспоминания митрополита Вениамина Федченкова о том периоде времени, когда он лично хорошо знал старца Григория.
Невозможно отрицать того факта, что именно молитвы Григория Ефимовича сохранили ей жизнь после крушения железнодорожного состава, в котором Анна Александровна возвращалась из Царского Села. Она подробно пишет об этом в своих воспоминаниях. Все же кратко упредим ее рассказ, указав лишь на то, что после ужасной катастрофы, в которую она попала, врачи посчитали ее безнадежной и оставили умирать, и только появление вызванного старца Григория вдохнуло в нее жизнь. Пророческими оказались его слова: «Жить будет, но останется калекой», что и произошло в действительности. Реальность этого события подтверждена во многих воспоминаниях современников, в частности директора Департамента полиции и товарища Министра Внутренних дел С. П. Белецкого, который по роду службы был детально осведомлен о случившемся.
Об особой духовной настроенности Анны Танеевой (Вырубовой) свидетельствует и обширный круг духовных лиц, с кем поддерживала знакомство и общение Анна Александровна. Это митрополит Московский Макарий (Парвицкий), митрополит Петроградский Питирим (Окнов), епископ Михайловский, затем викарий Новгородский, в дальнейшем епископ Рязанский Исидор (Колоколов), архиепископ Тобольский Варнава (Накропин), архиепископ Тверской Серафим (Чичагов), епископ Челябинский Серафим (Александров), епископ Сумской Феодор (Лебедев), епископ Кронштадтский викарий Петроградской епархии Мелхиседек (Паевский), настоятель новгородского Юрьева монастыря архимандрит Никодим (Воскресенский), начальник пермского Серафимовского скита Белогорского Свято-Николаевского монастыря игумен Серафим (Кузнецов), старец-монах Октайского скита верхотурского Свято-Николаевского монастыря Макарий (Поликарпов), протоиерей Иоанн Восторгов (настоятель московского собора Покрова, известного как собор Василия Блаженного), протоиерей Александр Васильев (духовник Царской Семьи), игуменья Мария (Минск), игуменья Епифания (Вятка), архимандрит Григорий. Составить этот список позволили телеграммы из архива Анны Вырубовой.23
Эти отношения не могли сложиться вдруг. Скорее предположить обратное, что они формировались на протяжении всей её жизни, чему способствовали всегдашняя eе добрая расположенность и глубокое уважение, которое питала Анна Александровна к людям духовного сословия.
Следует отметить особо промышление Божие об Анне Танеевой, сопутствовавшее глубокой вере этой женщины. Достаточно внимательно прочитать её воспоминания, где можно найти немало тому примеров. Приведём лишь один из них, свидетельствующий, что над рабой Божией Анной был распростёрт Покров Матери Божией. Единственной иконой, разрешённой арестантке Вырубовой иметь в камере Петропавловской крепости, был образок Божией Матери «Могилёвская». Перед чудотворной иконой Могилёвской Божией Матери она горячо молилась в Братском мужском монастыре, ещё будучи вместе с Царской Семьей в Ставке в Могилеве. Анна Александровна пишет: «Сотни раз в день и во время страшных ночей я прижимала её к груди… И первое приветствие по освобождении из крепости была та же икона, присланная из Могилёва монахами, вероятно, узнавшими о моём заключении».24
Находясь в заточении, испытывая невероятные страдания, какие только может испытывать искалеченный, больной человек, находясь в полной зависимости от своих лютых, безжалостных врагов, она не переставала уповать на Бога, молила Его об освобождении. При этом она обещала посвятить остаток своих дней служению Богу и ближним. Господь не посрамил возложенного на Него упования, и чудесным образом Анна Танеева была освобождена не без помощи её небесного покровителя – святого угодника Божьего, батюшки Иоанна Кронштадтского.
То духовное начало, которое было заложено в детстве и всё более и более крепло в течение всей последующей жизни под влиянием перенесённых невзгод и испытаний, особенно ярко проступило в годы эмиграции, когда Анна, исполняя данный ею пред Богом обет, посвятила свою жизнь сугубому служению Богу в монашеском чине.
Рассказ о духовном мире Анны Танеевой был бы неполным, если не раскрыть ту сторону её души, в которой ярко проступило особенное, освященное Богом свойство русского духа – святая любовь к Божиему Помазаннику – Царю.
Преданность Помазаннику Божьему всегда отличала национальный, коренной тип русского человека. Это то свойство русской души, которое вошло в плоть и кровь наших предков, и которое Анна Александровна впитала с молоком матери. Вне этого чувства как бы и теряется смысл бытия Русской нации. Любовь к своему Царю всегда воспринималась русским человеком, как жертвенное служение Царю, как Самому Богу – не щадя живота своего.
Примерами такого служения изобилует история Земли Русской. Вспомним атамана Ермака Тимофеевича. Не ради личной славы отправился он на покорение Сибири, но желая послужить до смерти своему Царю Иоанну Грозному, а чрез то угодить и Богу, делом вымолить у Него прощение за свои прежние неправды перед Богом, Царем и Русской Землей. Ярким свидетельством подобного рода служит подвиг русского героя, крестьянина Ивана Сусанина, который предпочел подвергнуться смертельной опасности, нежели допустить хоть малейшую угрозу благополучию своего Царя и ценою своей жизни спас молодого Государя от гибели.
Эти всем известные примеры торжества русского духа не являются пустыми символами или единичными эпизодами, но являются яркими проявлениями той духовной основы, которая вдохновляла миллионы русских людей на жизнь и созидание, а русских воинов – на подвиг смерти за Бога, Царя и Отечество. Именно этими дорогими и священными словами из уст своего командира – контр-адмирала Всеволода Фёдоровича Руднева были напутствованы и благословлены на подвиг моряки крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» перед боем с японской эскадрой: «Мы не сдадим ни крейсер, ни самих себя, сражаясь до последней капли крови. Помолимся Богу перед походом и с твердой верой в милосердие Божие пойдем смело в бой за Веру, Царя и Отечество. Ура!».25
Подобными примерами изобилует история Государства Российского. Чистая, искренняя любовь к Государю Императору Николаю II и Государыне Императрице Александре Феодоровне, не только как к близким людям, но, прежде всего, как к Самодержцам Российским, вслед за глубокой верой в Бога, составляла самую светлую сторону её души.
Быть другом Семьи Государя Императора Николая II – особенный путь в жизни, который Господь Сердцеведец определил рабе Своей Анне. Анна Александровна радостно и безропотно пронесла этот крест через всю свою жизнь, возложив ее добровольно на алтарь служения русским Самодержцам.
По горячему велению своего сердца избрав сей тернистый путь, Анна Танеева, сама того не осознавая, обрекла себя на великие скорби. Но ни о чём другом она и не помышляла, как только быть рядом с Государыней Императрицей Александрой Феодоровной, которой была очарована ещё ребенком, впервые увидев свою Императрицу в доме Великой княгини Елизаветы Феодоровны в Ильинском.
Пророческими оказались слова Григория Ефимовича Распутина-Нового, сказанные им молодой фрейлине Анне Танеевой при первом их знакомстве. В ответ на её просьбу помолиться о том, чтобы всю жизнь положить на служение Их Величествам, Григорий Ефимович ответил: «Так и будет».
Народная мудрость гласит: близ Царя – близ чести и смерти. Вот и Анне Танеевой пришлось испить горькую чашу, уготованную верным слугам Царёвым в лютую для Русской Земли годину испытаний. Все они в той или иной мере разделили судьбу своих Венценосцев, уготованных на заклание вековечными врагами Веры Христовой и самодержавного оплота Православия – Святой Руси. Нет сомнений, что верная Анна последовала бы за Царской Семьей в ссылку и заточение, если бы не благой Промысл Божий, явленный в обстоятельстве насильственного их разлучения по распоряжению Керенского.
И всё же Анна Александровна вполне разделила со святыми Царственными Мучениками их скорбный путь, их голгофу, но совершенно особым образом. Не случайным является тот символический факт, что среди Царских слуг, разделивших мученическую кончину Царской Семьи в подвале Ипатьевского дома, оказалась девушка Анна Демидова, даже внешне чем-то напоминавшая Анну Вырубову, что послужило поводом для ошибочной информации, проскользнувшей в одном из донесений тех лет, о гибели вместе с Царской Семьей Анны Вырубовой. Однако, ей выпал иной жребий. Господь призвал её к иному служению. Она должна была возвестить потомкам правду о Святой Царской Семье, что и было воспринято и исполнено ею как послушание, как Божие благословение.
Святое чувство долга и любви к оклеветанной, преданной, умученной Царской Семье и ко всему обманутому, заблудшему и страждущему Русскому Народу побудило Анну Александровну взяться за перо. И всё, что она знала о событиях, только что произошедших в России, обо всём том, свидетельницей чему она явилась, что случилось на её глазах с Царской Семьей, с ней самой – непосредственной участницей тех событий, всю правду об этом донесла она до жаждущего правды русского человека. Так появился плод её души, её духа – книга воспоминаний «Страницы из моей жизни».
Несмотря на своё аристократическое происхождение, Анна Александровна по природе была человеком простым, мягким и вовсе не обладала качествами героя. Однако, будучи человеком не только русским по крови, но и воспитанным в лучших русских традициях, православным, верным Престолу и преданным семье Помазанника Божия, осенённая глубокой верой в Бога и водимая особым о ней Промыслом Божиим, она смогла пройти через все тяжелейшие испытания, выпавшие на её долю, перенести физическую боль, нравственные страдания, унижения и поношения от людей и страшную, разрушительную клевету, которая, казалось бы, неминуемо должна была сломить её волю, подавить её как личность, наконец, ожесточить, заставить хоть в чём-то поступиться правдой, допустить эту ложь на страницы своих воспоминаний.
Но этого не произошло и, благодаря особым качествах своей души, она выстояла, не изменила любви и верности своим венценосным друзьям. Она не предала их, не исказила правды о них в угоду обстоятельствам и человеческой злобе, вынесла эту правду на своих немощных плечах, также как воин ценою жизни выносит боевое знамя с поля боя, не оставив его на поругание врагам и, тем самым, продолжила традиции своих славных предков.
Глава 3. Сближение с Императрицей. Дворцовые интриги
Первое испытание Анны Танеевой было связано с несением дворцовых обязанностей как фрейлины Её Величества. Во Дворце, где окружение Их Величеств составляла придворная знать, определяющим в поведении и отношении друг ко другу являлся дворцовый этикет, где так мало места оставалось для простых, добрых человеческих отношений. Суждения о человеке составлялись по внешним впечатлениям: умению держать себя в обществе, следованию принятым правилам, приятной наружности и светским манерам.
Государыня, недостаточно хорошо разбиравшаяся в тонкостях придворного этикета, допускавшая ошибки в разговоре по-французски, была принята петербургским светом настороженно и неприветливо. Чувство одиночества и непонятости усиливала свойственная молодой Императрице застенчивость. И только в кругу своей семьи она находила полное понимание, внимание и любовь. Отсутствие доверительных, дружеских отношений с людьми из дворцового окружения огорчало и тяготило Государыню, которая испытывала недостаток в простом человеческом общении. Поэтому таким естественным и понятным становится неожиданное внимание с ее стороны к новой фрейлине Анне Танеевой, в которой Государыня почувствовала родную душу, она всем сердцем привязалась к ней, по достоинству оценив ее простоту и искренность, веселый нрав и непритворную любовь к ней, что так ей недоставало.
Но, кроме всего прочего, было и ещё что-то особенное и очень важное, что способствовало их сближению и затем переросло в прочную дружбу, выдержавшую испытание и временем, и превратностями судьбы. Это то, что можно назвать близостью духа, духовным родством, основанным на глубокой вере в Бога, которая со временем все более возрастала и упрочилась в результате перенесенных обеими женщинами жизненных невзгод и испытаний. Общность духовная определяла и единство мировоззрения, совпадение жизненных взглядов и интересов, которые находились в сфере служения ближним, бескорыстного отношения к людям, всегдашней готовности оказать помощь нуждающемуся.
Замечательно эту сторону их отношений раскрыл князь Николай Давыдович Жевахов в своих воспоминаниях: «Общие страдания, общая вера в Бога, общая любовь к страждущим создали почву для тех дружеских отношений, какие возникли между Императрицею и А. А. Вырубовою. Жизнь А. А. Вырубовой была поистине жизнью мученицы, и нужно знать хотя бы одну страницу этой жизни, чтобы понять психологию ее глубокой веры в Бога и то, почему только в общении с Богом А. А. Вырубова находила смысл и содержание своей глубоко несчастной жизни… И когда Императрица ознакомилась с духовный обликом А. А. Вырубовой, когда узнала, с каким мужеством она переносила свои страдания, скрывая их даже от родителей, когда увидела ее одинокую борьбу с человеческой злобой и пороком, то между нею и А. А. Вырубовой возникла та духовная связь, которая становилась тем большей, чем больше А. А. Вырубова выделялась на общем фоне самодовольной, чопорной, ни во что не веровавшей знати. Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не знающая ни хитрости, ни лукавства, поражающая своею чрезвычайною искренностью, кротостью и смирением, нигде и ни в чем не подозревающая умысла, считая себя обязанной идти навстречу каждой просьбе, А. А. Вырубова, подобно Императрице, делила свое время между Церковью и подвигами любви к ближнему, далекая от мысли, что может сделаться жертвою обмана и злобы дурных людей».26
Сближение молодой, неопытной фрейлины Анны Танеевой с Императрицей было причиной возникновения недоброжелательства и зависти в придворных кругах, а знакомство с Григорием Распутиным только усилило эти чувства и повлекло за собой появление недобрых пересудов, которые со временем переросли в откровенную клевету и нескрываемую ненависть. Однако всё это было лишь поводом, внешней стороной искусственно раздуваемой кампании травли. Истинные причины такого отношения, о которых в дальнейшем будет рассказано более подробно, крылись гораздо глубже.
По поводу отношения к Анне Александровне, и не только со стороны придворных кругов, Дворцовый комендант В. Н. Воейков пишет следующее: «В великосветском обществе существовало убеждение, что ко Двору могут быть приближаемы только носители некоторых фамилий, а остальные, хотя бы и принадлежали к родовитому дворянству, права этого не имеют… Когда Государыня пожелала приблизить к себе А. А. Танееву, пошли бесконечные толки, подкладкой которых, конечно, была зависть.
Отношения Её Величества к А. А. Танеевой постепенно перешли в дружбу, и она стала к Царской Семье гораздо ближе штатных фрейлин, которые ей этого никогда не могли простить. Так как положение А. А. Танеевой не было предусмотрено придворными штатами, её приближение к Царице дало повод открыто возмущаться нарушением этикета. Императрица этого взгляда не разделяла, находя себя вправе приближать кого хотела, и на все предложения дать А. А. Танеевой официальное положение при Дворе, отвечала: «Оно у неё есть – она моя подруга». Придворные интриги против А. А. Танеевой не достигали вначале цели, так как по свойству Своего характера Императрица всегда поддерживала тех, кто терпел от завистников из-за благорасположения к ним Царской Четы. Черта эта, конечно, встречается очень редко у великих мира сего; но к сожалению, ею часто злоупотребляли люди, совершенно не заслуживавшие внимания Царицы. Дружба Императрицы с А. А. Танеевой постепенно крепла; а её неудачное замужество с моим троюродным братом – А. В. Вырубовым – ещё более содействовало их сближению.
Великая Княгиня Анастасия Николаевна, раньше считавшаяся подругой Императрицы, была очень недовольна тем, что ей пришлось уступить свое место А. А. Вырубовой. Ещё в бытность мою командиром полка, она, однажды, в присутствии Великого Князя Николая Николаевича, обратилась ко мне с требованием не принимать в моем доме А. А. Вырубову, мотивируя это требование якобы вредным влиянием её на Императрицу. Исполнить желание Великой Княгини я не счёл для себя возможным, находя, что, поступив так с подругой Государыни, был бы не корректен по отношению к Самой Императрице».27
Интересную параллель проводит Ф. В. Винберг, сравнивая положение Анны Вырубовой с ролью французской Принцессы де-Ламбаль при Дворе Короля Людовика XVI: «У Государыни Императрицы Александры Феодоровны также был близкий, преданный друг в лице Анны Александровны Вырубовой, во многом напоминающей своей судьбой судьбу Принцессы де-Ламбаль, за тем исключением, что, слава Богу, судьба Анны Александровны не стала столь трагической [Принцесса де-Ламбаль была растерзана революционной толпой, после того, как ей была обещана свобода в обмен за щедрый выкуп].
Как и Французской Королеве, нашей Императрице многие не могли простить Её вольного выбора Себе друга и исключительную близость, в которой Её Величество замкнула свою интимную жизнь именно этой дружбой.
«Почему она, а не я, не моя дочь, сестра, жена, тетка…». Вот те завистливые, холопством проникнутые чувства, которые вызвали сплетни и злые инсинуации вокруг имени А. А. Вырубовой, бывшей искренно преданным и благодарным другом своей Царицы. Государыня, избравши её доверенным, близким человеком, подчинялась вполне понятному влечению: такой человек необходим и в палатах Царей, и в любой хижине; ибо пусто и неприветливо бывает душе человеческой не иметь искреннего друга, которому можно было бы поверить и радости, и горести, и надежды, и заботы, и тревоги своей внутренней жизни.
Анна Александровна именно и была таким другом и этого положения своего всегда неукоснительно держалась. В этой дружбе было много не только внешнего, но и внутреннего сходства с дружбой Королевы Марии-Антуанеты и Принцессы де-Ламбаль. И последствия были сходственны.
На этой дружбе клевета построила сложные изобретения лжи и хитросплетенной фантазии. Все, что говорилось о дружбе Королевы, говорилось и о дружбе Императрицы… Как будто бы не хватило воображения, на подлости совершая подготовку новой революции, хотя бы выдумать новую подлость…».28
Как следует из приведённых цитат, и генерал В. Н. Воейков и Ф. В. Винберг были единодушны в оценке роли А. А. Вырубовой, как ближайшей подруги Государыни, несправедливо и жестоко оклеветанной. Их мнение полностью соответствует характеристике, данной Анне Александровне следователем Рудневым. Несомненно, что такую же позицию в отношении Анны Вырубовой занимал и генерал А. И. Спиридович, на воспоминания которого мы будем опираться в дальнейшем. Всё же ради исторической справедливости, необходимо заметить, что все эти люди проявили полное единомыслие ещё в одном вопросе – вопросе, касающемся взаимоотношений Анны Вырубовой с Григорием Ефимовичем Распутиным-Новым. Они считали, что Анна Александровна, как, впрочем, и Государыня Александра Феодоровна, не просто заблуждались относительно Распутина, но были подвержены «могучему гипнотическому воздействию проходимца» (слова Ф. В. Винберга). Одновременно все они подчеркивали, что это увлечение со стороны Царицы и её подруги носило чисто духовный характер.
В связи с этим нельзя не отметить, что утверждения этих несомненно достойных людей по адресу Распутина совершенно голословны, а внимательное изучение фактов, которые в изобилии приводит, в частности, генерал Спиридович, подводит к совершенно противоположному заключению. А именно тому, что отношение к Григорию Распутину и со стороны Анны Вырубовой, и со стороны членов Царской Семьи вовсе не было случайным или ошибочным. Сам Ф. В. Винберг, характеризуя Анну Вырубову и её дружбу с «сибирским мужиком», приходит к выводу, что «в делах веры и чувства надо быть сугубо осторожным в суждениях о людях и в осуждении их».
Знакомство Царя и Царицы с Григорием Ефимовичем Распутиным ставилось в вину Анне Вырубовой, и по этому поводу злые языки стали распускать нелепые сплетни. Особую роль в этом отношении, как отмечает Анна Александровна, играла фрейлина Софья Ивановна Тютчева, которая была воспитательницей у Великих княжон. «Она была не дурной человек, но весьма ограниченная. Двоюродным братом её был известный епископ Владимир Путята (который сейчас в такой дружбе с большевиками и ведёт кампанию против Патриарха Тихона). Этот епископ и все иже с ним имели огромное влияние на Тютчеву». Многое понатворила фрейлина Тютчева, но за более подробной информацией отсылаем читателя к книге «Страницы моей жизни».29
О неприязненной атмосфере, сложившейся в придворных кругах вокруг Анны Вырубовой, свидетельствуют не только её воспоминания, но и некоторые архивные документы. Сохранилось письмо Анны Александровны к княжне Оболенской, по всей видимости, недоброжелательно относившейся к Анне Александровне. Вновь находим подтверждение этому в воспоминаниях Анны Танеевой, которая, рассказывая об активной деятельности фрейлины Тютчевой «по спасению России», упоминает следующее: «Она [фрейлина Тютчева] повлияла на фрейлину княжну Оболенскую, которая ушла от Государыни несмотря на то, что служила много лет и была ей предана».
Отсюда легко сделать вывод, что княжна Оболенская быстро поддалась соблазну превратно истолковать поступки близкой к Государыне, молодой обаятельной фрейлины, извратить мотивы её поведения. Это побудило Анну Александровну написать княжне ответ, который исполнен боли и обиды за допущенную по отношению к ней несправедливость. Этот ответ вновь обнаруживает человека недостаточно искушённого и неопытного, не умеющего хладнокровно сносить уколы недоброжелателей, больно ранящие нежную душу. Вот текст этого письма:
«Многоуважаемая княжна.
Вы меня страшно оскорбили Вашим письмом, – никакого Вашего разговора с Её Вел[ичеством] я не подслушивала, как Вы пишете. Ожидала Её Величество по Её приказанию на балконе, рассматривала фотографии, ходила взад и вперед, ни от кого не пряталась, знала, что вы у Её Вел[ичества] по делу о [неразборчиво] и никогда не имею привычки интересоваться чужими делами. Письмом этим Вы оскорбили меня и Мама [видимо, Надежду Илларионовну – мать Анны Александровны, прим. Ю.Р.].
А. Вырубова.
Ответила бы Вам раньше, гуляла. Какие низкие мысли! Я удивляюсь, т.к. верила в Вас».30
Постепенно Анна Вырубова оказалась объектом насмешек, грязных сплетен, оскорбительных выпадов со стороны некоторых представителей аристократической знати. Но и в целом отношение к ней даже людей вполне порядочных было предвзятым. Это, как уже было сказано, связано с именем Григория Распутина, горячей почитательницей которого была и Анна Вырубова. Всех, кто так или иначе поддерживал знакомство с Григорием Ефимовичем или пользовался его уважительным отношением, стали презрительно величать «распутинским кружком». Ему и Анне Вырубовой стали приписывать могущественное влияние при Дворе. В дальнейшем болезненно расстроенным светским обществом оба они стали восприниматься как «тёмные силы, опутавшие Трон». Как тут не вспомнить слова революционной песенки о «вихрях враждебных» и «темных силах», которые «веют» и «злобно гнетут».
Вследствие всего этого Анна Александровна постепенно стала для всех источником либо раздражения, либо беспокойства, либо страха. Все эти пересуды, мелкие, но болезненные уколы придворных являлись лишь прелюдией, настоящие испытания для несчастной женщины только начинались.
Обзор всего того, что относится к действию «тёмных сил», читатель может найти в книге Любови Миллер, которая так и называется «Тёмные силы».31 К сожалению, и сама автор той книги, явно подпевая сочинителям революционных куплетов, встала на точку зрения слепцов, рьяно впрягшись в одну упряжку с расстригой Илиодором Труфановым в отчаянной его попытке оскорбить и опорочить Помазанников Божиих. По поводу этой книги остаётся только одно – вновь с негодованием произнести: да заградятся уста нечестивых, вольно или невольно воздвигающих хулу на преданных слуг Русского Царя.
Мы далеки от мысли, что в мотивах написания Любовью Миллер её книги была злонамеренность, хотя бы потому, что она является автором другой книги о преподобномученице Елизавете Феодоровне, написанной с любовью и к ней, и к Царской Семье. Сама Любовь Миллер признаётся, что побудительным мотивом для написания книги «Тёмные силы» явилось известие о том, что в России растёт почитание Григория Распутина. Это её возмутило настолько, что подвигло взять на себя труд написания столь объёмной книги с разоблачением роли «тёмных сил», т. е. Распутина и Вырубовой. Любовь Миллер упорствует в своём мнении и отстаивает его в интервью, данном не где-нибудь, а на святом месте – там, где пролилась кровь Святых Царственных Мучеников. К сожалению, ей верят, и она не одинока в своём заблуждении. Всё это побудило нас предпринять более глубокий анализ причин, приведших к той ситуации, когда лучших слуг Русского Царя, к которым по праву принадлежит Анна Александровна Танеева (Вырубова), смешивают с грязью.
Глава 4. Атака на Русский Престол
В целях сохранения целостности и последовательности изложения позволим себе ещё раз сделать акцент на хорошо известных исторических фактах, рискуя при этом несколько утомить читателя, тем не менее, рассчитываем на его благосклонность и терпение.
Итак, воспользовавшись неудачами, постигшими русскую армию на фронтах Германской войны, антирусскими, промасонскими силами была предпринята дерзкая, отчаянная попытка усилить атаку на Русский Престол с целью отстранения Николая II от власти с последующим проведением либерально-демократических реформ в соответствии с масонскими программами. Цель была одна – фактическое разрушение самодержавного принципа правления, т. е. сокрушение коренных основ русской православной государственности. Основное усилие было направлено на дискредитацию, прежде всего, самого носителя Царской власти – Помазанника Божьего Государя Императора Николая II и его благоверной супруги Государыни Императрицы Александры Феодоровны с тем, чтобы затем извратить и саму идею Царской власти с последующей заменой её на любую удобную в масонском понимании форму правления. Несомненно, что план был детально разработан, распределены роли, намечены жертвы. Последовала команда, и … Страшный механизм грязной, безобразной клеветы со всей силой остервенелой ненависти обрушился на Помазанника Божьего, Царственных членов его Семьи и его преданных слуг. Хорошо рассчитанный и выверенный, сокрушительный удар наносился в самые уязвимые, болевые точки, затрагивающие интимные, внутренние струны чистых, благородных душ наших последних Самодержцев, касающиеся их религиозных настроений и отношений с близкими друзьями.
Намеченными целями этой подлой атаки оказались наиболее преданные Царскому Престолу, наиболее близкие по духу Государю и Государыне люди, разделявшие их убеждения и поддерживавшие их своей бескорыстной преданностью, чистой любовью, мудрым советом и горячей молитвой. Ими оказались, в первую очередь, Григорий Ефимович Распутин-Новый и Анна Александровна Танеева (Вырубова). В планах кромешников эти люди служили ключевыми фигурами. Участь их была предрешена. В новом разворачиваемом сражении этим бастионам царской твердыни предназначено было пасть первыми, пополнив своей гибелью списки защитников Самодержавия, павших от рук безжалостных убийц в первую русскую смуту 1904–1905 годов.
Логика врага была настолько же проста, насколько подла и безжалостна. Суть её заключалась вот в чём. Необходимо было создать определённое представление в обществе, определеённый фантом отвратительного, грязного до тошноты, уродливого и страшного мужика и его коварной, преступной сообщницы. Далее добиться того, чтобы в умах людей этот фантом был прочно закреплён и соединён с именами Распутина и Вырубовой. Они должны были служить и действовать подобно символу или клейму, одно только указание на которые должно было привести в действие определенные рефлексы отторжения, так, чтобы чувство отвращения и протеста подавляло всякое движение рассудка. И когда это произойдёт, достаточно навесить эти ярлыки на Царя и Царицу, т.е. соединить с ними имена Распутина и Вырубовой, чтобы вызвать чувство неприязни к ним, и неприятия всего того, что от них исходило, что служило проявлением их монаршей воли, тем самым, легко добившись от одурманенного народа неповиновения и протеста по отношению к своим Самодержцам. Таким образом, создавался антагонизм между Царём и его подданными. Исполнение этого сатанинского плана ставило русский народ на грань измены своему Царю. Из этого положения легко было подтолкнуть народ и к самой измене. Совершив же это, т.е. отвергшись, а затем и свергнув своего Царя, народ становился совершенно беспомощным, беззащитным, доступным для любых безнаказанных манипуляций и экспериментов. Главное, чтобы во всё это, во весь этот бред люди поверили.
И вот кампания грязной, разрушительной клеветы, проводимой через бульварную, продажную прессу, через слухи, распространяемые в аристократических салонах, в различного рода собраниях и обществах, к концу 1916 года, т.е. к началу февральского переворота, достигла своего апогея. Безумие, как пожар, охватило петербургские салоны, все взахлеб, с нескрываемым удовольствием обсуждали грязные сплетни, ловко фабрикуемые небылицы, в которых фигурировали имена Распутина, Вырубовой, Их Величеств и даже Царских Детей. Это превратилось в развлечение, какую-то манию, психопатический синдром, а многими воспринималось как забавная игра. К сожалению, эффект был достигнут и превзошёл всякие ожидания. В образ Григория Распутина было закачено столько грязи, что ни один добропорядочный человек с чистой совестью не мог не смутиться даже от мысленного прикосновения к этому «чудовищному нагромождению порока».
Именно это и произошло с Великой княгиней Елизаветой Феодоровной. Обладая нежной, целомудренной душой, как истинная христианка, гнушаясь всякого порока, даже мысленного прикосновения к нему, она без рассуждений отвергла всё, что, казалось, было проявлением той мерзости, которую приписывали несчастным друзьям Их Величеств. Ей, православной подвижнице, нёсшей высокий подвиг целомудрия, нежной и прекрасной женщине, не хватило сил преодолеть чувство отвращения и глубоко разобраться в этом вопросе, что и послужило причиной размолвки, произошедшей между двумя сёстрами. Можно ли обвинять в этом её, искренне переживавшую за всё происходящее, когда на карту ставились честь и достоинство её Венценосных родных? Несомненно, что сердце её было исполнено искренней скорби и нелицемерной любви, а горячая молитва её за Россию, за Русский Народ, за Помазанников Божиих не угасала. Её искренность и горячая вера дают нам основание предположить, хотя прямых доказательств этому пока не обретается, что уже при жизни Великой княгини произошло её прозрение и хотя бы внутреннее примирение с Другом своей горячо любимой сестры-Царицы, подобно тому, как это произошло со святителем Гермогеном Тобольским. Молитвами преподобномученицы Елизаветы и священномученика Гермогена Тобольского да помилует и умудрит Господь и нас, грешных.
Сделанные выводы слишком серьёзны и было бы неправильным оставить их без раскрытия, ограничившись одной лишь декларацией. Масштабы и значение произошедшего в России настолько велики, что невозможно не уделить хотя бы чуть большего внимания тем тайным пружинам, действие которых определило ход и направление русской истории. Из этих событий была соткана эпоха, тот мир, в котором жила Анна Александровна и её друзья, то, что не могло не касаться их, что волновало и наполняло их душу переживаниями и что, в конечном итоге, привело и их самих, и всю Россию к гибельной развязке.
Небольшой исторический экскурс позволит современному человеку понять, каким образом замечательные люди вдруг оказались объектом всеобщей неприязни. Конечно, произошла ошибка, но как, почему? Это уже напрямую касается Анны Танеевой. Мы не имеем возможности непосредственно видеть тех, о ком здесь идёт речь, разговаривать с ними. Даже если мы находимся во всеоружии знаний, документов, воспоминаний, ничто не заменит живого общения – глаза в глаза, душа в душу. Говорят, что понять – значит простить. В данном случае и Анна Александровна Танеева (Вырубова), и Григорий Ефимович Распутин-Новый в нашем прощении нуждаются гораздо менее, нежели мы сами, которые должны испросить прощения у них, незаслуженно и жестоко обиженных, безжалостно оклеветанных. Но это надо понять, чтобы поверить в правоту их мыслей, чувств, поступков, чтобы рассеялись сомнения. Даже не ради справедливости, но, чтобы восторжествовала любовь.
Говоря по совести, выполнять такую задачу мучительно трудно. Что хорошего копаться в человеческой низости, малодушии, подлости, наконец, глупости, всём том, что коротко и с невыразимой горечью было резюмировано Государем короткой записью в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман!»32.
Прежде чем перейти к рассмотрению фактов, следует найти ключ к их пониманию. Для этого воспользуемся идеями, высказанными генерал-майором Артемием Ивановичем Череп-Спиридовичем в его книге «Скрытая рука». Основное содержание книги в России стало доступно благодаря работе Л. Н. Кея «Мировой заговор», вышедшей отдельной брошюрой в 1975 году. 33
Литература по этому вопросу очень обширна. Преимущество выбранного источника состоит в том, что он, несмотря на некоторые неточности, упрощение и вольность в передаче исторических фактов, тем не менее, удачно сочетает краткость и логическую четкость изложения материала, а главное, подводит к пониманию той взаимосвязи, которая существовала между сменой министров, деятельностью политических лидеров, с одной стороны, и травлей Царской Семьи, Распутина, Вырубовой, с другой.
Начнём с того, что вспомним: на стене комнаты дома инженера Ипатьева, где были зверски убиты члены Царской Семьи и их слуги, неизвестным сделана кабалистическая надпись, которая гласила: «Здесь по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сём извещаются все народы»34.
Со стороны написавшего это было не только проявлением чувства самодовольной наглости. Эта надпись – серьёзное предупреждение, действительно извещение народам, констатация своего могущества.
Какими же тайными силами отдан приказ об убийстве Царской Семьи? Кто они? Кто на земле противостоит власти царской – той власти, в основе которой положены христианские законы, заповеди Божии, той власти, посредством которой поддерживается в мире Божественный миропорядок, когда духовное начало бытия рода человеческого поставляются выше материального? Очевидно, что Царской власти на земле противостоят силы противоположного характера, имеющие целью не созидание, а разрушение, не освобождение человека от греха, а порабощение греху, где материальное возносится до небес, ниспровергает духовное и попирает его. Где корысть, выгода, прибыль, обогащение любой ценой, как основа преуспеяния, силы, власти подменяет собой бескорыстное служение, не за страх, а за совесть. Вместо царствования надмирного начала полагается власть денег, вместо духовного сокровища – приоритет материального. Испокон века на земле сталкиваются эти два непримиримых начала, символом вражды коих является предательство Иудой Искариотским своего Божественного Учителя ради ковчежца с серебром. Так было всегда в падшем роде человеческом: зависть, алчность, подкуп, наконец, обогащение неправедное, главным инструментом которого является ростовщичество, деньги в рост, под процент – то, что противно христианскому бескорыстью, то, что составляет противоположность честному, взаимовыгодному торгу – коренной традиции русского купечества. Ободрать до нитки, обмануть, поставить человека на грань, в унизительное положение, закабалить, накинуть петлю на шею, но ради чего – ради наживы, ради власти и порабощения – вот принцип ростовщика всех времён и народов, купца не от Бога, а от сатаны. Ростовщичество копит капитал – основу для подкупа. Подкуп – орудие управления, контроля над властью.
Ростовщичество запрещено нравственным законом христианским, это грех. Но когда же грех ростовщичества начал царствовать в христианских странах? Тогда, когда христианские законы были попраны в эпоху европейских революций. Именно тогда возникли условия для стремительного усиления влияния банковского капитала не только в экономической сфере жизни государств, но и на мировой политической арене. Эпоха великих революционных потрясений ознаменовала собой начало финансового и политического могущества международного банкирского клана Ротшильдов.
Родоначальника фамильного клана банкиров Ротшильдов звали Амшел (Майер Амшель). Согласно информации Института «Ам аЗикарон»35: «Ротшильды – знаменитая фамилия раввинов и талмудистов, ведущая своё происхождение от рабби Моисея Ротшильда (родился около 1550 г.). Ротшильд (Rotshild) в переводе с немецкого языка означает «красный щит». «Красный щит» входил в число символов, которыми были обозначены дома во Франкфурте-на-Майне, в знаменитом еврейском квартале Юденгассе. Так же, как и многие другие франкфуртские семьи, Ротшильды приняли в качестве наследственной фамилии знак, висящий на фасаде их дома»36. Символично, красный цвет стал символом всех революций, начиная с французской.
Амшел Ротшильд получил образование в школе раввинов, мировоззрение и практику талмуда в отношении гоев (неевреев) передал своим сыновьям и дочерям.
Идеологической основой деятельности первых представителей клана Ротшильдов являлись идеи талмуда об избранности того народа, к которому они принадлежали, о великом его предназначении править миром и о полном подчинении всех прочих этнически не связанных с ними людей (гоев). При этом все гои рассматриваются талмудом как низшие твари, низведённые до уровня животных, в отношении которых годятся любые способы воздействия – от вероломного обмана до убийства. Именно одним из представителей Ротшильдов произнесены слова: «Цель оправдывает средства». Этот девиз стал руководством к действию в среде этих людей.
Суть талмудического учения, касательно экономической стороны жизни, изложил Преосвященный Алексий, епископ Саратовский и Царицынский: «Талмуд также даёт советы евреям и относительно тех средств, при помощи которых евреи могли бы достигнуть главной своей цели – окончательного материального подчинения себе гоев. Главные средства – это ростовщичество и обман. «Бог, – говорится в Талмуде, – повелел брать проценты с гоев и давать им деньги не иначе, как только за проценты, так что вместо того, чтобы оказывать им помощь, мы должны причинять им вред, если это нам полезно; но по отношению к евреям мы не должны так действовать». Знаменитый рабби Бахай говорит: «Жизнь гоя в твоих руках, о иудей, а тем более тебе принадлежит его золото». Благодаря этой доктрине о ростовщичестве, которое обязательно для евреев, как правило их религии, в их руках сосредоточивается громадное богатство»37.
По мнению А. И. Череп-Спиридовича, Амшел Ротшильд, получивший прозвище «король кредиторов и кредитор королей», сделался негласным министром финансов сначала Императора Фридриха Ландграве, а затем его сына Вильгельма I. В день смерти Амшела в сентябре 1812 года его пятеро сыновей унаследовали от отца огромное состояние в один миллион франков. Пять сыновей Майера Амшела превратили семью Ротшильдов в могущественный финансовый клан. «Именно они создали и возглавили в пяти самых крупных европейских странах – Германии, Австрии, Англии, Италии и Франции – банкирские дома, которые ещё при их жизни стали основными кредиторами монархов и правительств»38.
Общая цель потомков франкфуртского еврея Амшела состояла в том, чтобы, используя власть и силу денег, подчинить себе правительства всех христианских государств мира, с тем, чтобы в дальнейшем осуществить свой полный контроль над всем человечеством даже не в интересах «Богоизбранного» народа, а в интересах международной финансовой олигархии. Клану Ротшильдов, представители которого обладали исключительным талантом не только в области обычного ростовщичества, но и в сфере различного рода денежных услуг сомнительного характера, удалось подчинить европейские королевские династии Габсбургов (Австрия) и Гогенцоллернов (Пруссия).
В мыслях А. И. Череп-Спиридовича нет преувеличения. Как известно, кто платит, тот заказывает музыку – так уж повелось в европейской политике: деньги приводят к власти своих ставленников, деньги формируют политические цели и создают условия для их достижения. Тайные планы, в основе которых лежали идеи талмуда, имели своей целью разрушение христианских государств и уничтожение как можно большего количества христиан в жестоких и бессмысленных войнах. Благодаря их финансовой помощи произошла революция во Франции, закончившаяся свержением монархии и жестокой казнью короля Людовика XVI Бурбона, а также гонениями на Французскую церковь. Ради этого ими был возведён к власти и могуществу Наполеон. Ради этого Наполеон двинул свои войска в Россию. Ради этого была развязана американская война Северных и Южных штатов, от взаимного уничтожения которых избавило решительное вмешательство Русского Императора Александра II.
Во время французской революции Амшел Ротшильд финансировал Адама Вейсгаупта, основателя тайного общества «Иллюминати». Сеть ячеек этого общества покрыла всю Германию, а затем и Францию, куда Вейсгаупт двинулся со своими «головорезами» и где на деньги Ротшильда он занимался подкупом людей для объединения всех партий против французского монарха.
Цели иллюминатов изложены в секретном документе, который получил у историков название «Новый завет сатаны». Текст документа стал известен благодаря тому, что 20 июля 1785 года, курьер иллюминатов священник Якоб Ланц был поражен молнией в Регенсбурге. В его одежде был обнаружен вместе со списком иллюминатов документ, очень похожий на «Протоколы Сионских мудрецов»39.
Параллель между французской революцией и событиями в России в начале ХХ века прямая. Как образно формулирует мысль Череп-Спиридович, за реформы во Франции было заплачено 4 миллиона франков и 50 тысяч жизней, в то время как Людовик XVI то же самое предлагал своему народу совершенно бесплатно. Но, ведь, и Государь Николай II вовсе не отвергал реформы, готов был пойти на их осуществление в соответствии с потребностью времени, но не в ущерб незыблемости принципа самодержавности. Некоторая задержка в проведении реформ была вызвана исключительно войной, а также чувством громадной ответственности Императора перед народом, что побуждало его подходить к вопросу реформ со всей тщательностью. А это требовало времени и большого труда.
Но во имя «свободы, равенства и братства» во Франции в жертву была принесена свобода подлинная, а абсолютизм монархии сменился на абсолютизм ассамблеи – абсолютизм власти денег, которые приводили и приводят к управлению государством ставленников международной финансовой олигархии.
Череп-Спиридович, цитируя Эрнеста Ренана, пишет, что «убийство короля Людовика XVI было актом ужасного материализма [и богоборчества – сост.] самая бессовестная неблагодарность, низость, примитивное злодейство и забывчивость прошлого».
Постепенно все европейские монархии оказались в подчинении и международной финансовой олигархии, усилению которой положил начало Амшел Ротшилд. Все, кто становился на пути этой силы, рано или поздно уничтожались. Такая же участь постигла и Наполеона, когда он попытался избавиться от финансовой опеки своих кредиторов.
Но на пути планов международных кредиторов, рвавшихся к мировому господству, неприступной твердыней стояла русская православная монархия с Самодержцами дома Романовых во главе. После поражения Наполеона по инициативе Александра I три европейские монархии: Романовых, Габсбургов и Гогенцоллернов образовали «Священный Союз». Договор между ними был подписан 26-го сентября 1815 года Императором Александром I, Королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом III и Императором Австрии Францем I. В основание этого договора была положена верность христианским идеалам, а Господь Иисус Христос признан высшим руководителем «Священного Союза». Александр I, определяя эти принципы, сказал: «Суверены Европы должны полагаться не на силу своих армий, а на силу веры и религии». Согласно заключенному им договору, главы государств обещали управлять своими подданными в духе христианства и следовать исключительно принципам справедливости, любви и миролюбия.
Но деньги Ротшильдов делали своё дело. Они давно уже проникли во дворец Гогенцоллернов, занявших в конечном итоге предательскую позицию по отношению к Русскому Царю, которая закончилась объявлением Вильгельмом II войны России, а также подрывной деятельностью Германии, способствовавшей победе революции в России. Та же участь постигла и древнюю австрийскую династию Габсбургов, которая цементировала тринадцать различных народностей. Если бы не монархия, эти народы, как выразился Череп-Спиридович, просто вырезали бы друг друга. Однако и здесь Череп-Спиридович усматривает руку Ротшильдов, оказавших влияние на воспитание молодого принца Франца Иосифа. Когда в 1848 году восемнадцати лет он стал императором, мир был потрясен неожиданным и ничем не оправданным вероломством и жестокостью, проявленными Австрией при подавлении Венгерского восстания. Австрия была вынуждена прибегнуть к помощи Русского экспедиционного корпуса. При этом, слово, данное русскому Императору Николаю I о прощении венгерских генералов, не было исполнено. Франц Иосиф повесил их, как только русские войска оставили Австрию, которая в конечном итоге объединилась с Германией против России. Вот такие печальные подробности были известны русскому дипломату Череп-Спиридовичу.
Те же деньги Ротшильдов постепенно подталкивали народы ко всеобщей войне. Мир мог быть спасен Англо-Русским союзом. Но чтобы не допустить даже простой дружбы между этими государствами, были предприняты все возможные способы. Консерватизм английских лордов издавна охранял королевство Великобритании от проникновения любых влияний еврейского капитала на политику Англии. Неудача в этом деле постигла Натана Ротшильда и его сына Лионеля (Лайонел де Ротшильд), который был избран в парламент в 1847 г., но не допускался в палату до 1858 г. за отказ произнести установленную клятву: «По истинной вере христианина». По этому поводу генерал Череп-Спиридович в своей книге «Скрытая рука» выдвигает правдоподобную гипотезу о том, что Ротшильдами, с тем, чтобы обойти вероисповедальный барьер и проскользнуть в правительственную машину Британской Империи был изобретен «троянский конь» в лице Бенджамина (Вениамина) Дизраэли. Для этой цели, по мнению Череп-Спиридовича, его отцу, Исааку Дизраэли, было приказано крестить своего сына. Поддерживаемый Ротшильдами крещеный иудей Вениамин Дизраэли стал премьер-министром Англии и получил титул Лорда Биконсфилд. Титул был наградой за приобретение на деньги Ротшильдов Суэцкого канала и удачное противодействие России в Средиземноморье. При посредничестве английской и французской дипломатий был заключен Сан-Стефанский мирный договор между Османской Империей и Россией на условиях сохранения за Турцией Константинополя (Стамбула) с проливами Босфор и Дарданелы. Россия была соперницей в этом регионе, соответствующим образом формировалась политика Англии, дипломатическое и военное давление её на Россию было огромно. Не здесь ли берет начало ниточка заговора против Российского Престола, проявившегося на конечном этапе в предательской деятельности английского посла в России сэра Бьюкенена и отказом Короля Георга V дать убежище своему двоюродному брату Николаю, плененному революцией?
Время показало, что христианским принципам «Священного союза» осталась верна только Российская Империя. Но и она уже давно была под прицелом враждебных ей сил. А. И. Череп-Спиридович пишет: «Начиная с 1770 года, все время шёл беспрерывный поход Ротшильдов со всеми секретными масонскими и другими организациями с их мировой прессой и миллионами денег против Романовых».
Как считает Череп-Спиридович, при всяком удобном случае Ротшильды наносили ущерб русским царям не только в политической и финансовой сферах, но и физически. Первой их жертвой стал, как известно, Русский Император Павел I, который двинул свои войска против республиканской Франции, пытаясь потушить вспыхнувший в Европе очаг чумы «свободомыслия». В результате заговора царедворцев он был убит в покоях собственного дворца. В этот заговор пытались втянуть и молодого наследника престола Александра Павловича. Однако, Император Александр I, по вступлении своём в управление государством сурово расправился со всеми заговорщиками. Тем самым, перед всем миром раскрылся истинный облик православного самодержца, и все иллюзии тайных недругов России были рассеяны. Благородного и миролюбивого Императора Александра I в Европе называли «светлым ангелом», а русский народ не напрасно дал ему прозвище Благословенный.
В результате победы над Наполеоном Россия нанесла сокрушительный удар тайным планам тех, кто стоял за спиной некогда нищего корсиканца, кто снабдил его деньгами и привёл к власти, кто направил этого беспощадного честолюбца, возомнившего себя покорителем мира, на Россию. Но, к сожалению, многие из героев войны 1812 года, «молодые офицеры, которые после победы над Наполеоном сопровождали Александра I в Париж, были завлечены в масонские ложи и пропитаны красноречивыми фразами и ритуалом секретности. Возбуждение революционными действиями выросло до такой степени, что Царь в 1822 году запретил масонство в России, их ложи были закрыты»40.
Таким образом, попытки подчинить Александра I своему влиянию оказались безуспешными. Тогда, по мнению Череп-Спиридовича, его постигла участь своего отца, с тем различием, что он не был убит холодным оружием, но был отравлен. Генерал полагает, что слухи о его тайном уходе в Сибирь пущены всё из того же источника. С этим его мнением можно не согласиться. Русский народ верит, что благочестивый Государь, последовав своему глубокому внутреннему желанию, тайно покинул Престол и окончил свои дни в подвиге молитвы простым отшельником, передав бразды правления своему брату Николаю и предоставив ему возможность завершить начатый Александром I разгром тайных обществ в России.
Череп-Спиридович приводит слова французского посла графа Ля Ферроней, который так отозвался об Императоре Николае I: «Император соединяет в своём лице все лучшие качества настоящего рыцаря и самого благородного монарха с глубокими чувствами; и кроме того он одарён необыкновенной энергией. Он принц в полном смысле этого слова и один из наиболее уважаемых людей когда-либо известных». Но, как считает Череп-Спиридович, Император Николай I был отравлен доктором Мандт, подкупленным «скрытой рукой». Он умер в полном расцвете сил.
О его сыне и преемнике на Русском Престоле Императоре Александре II французский маршал Мармонт в своих мемуарах пишет следующее: «Образование, которое Николай дал своему сыну, просто удивительно. Он очаровательный принц, исключительной красоты, чьи лучшие качества без сомнения со временем в нём разовьются». Можно ли этому удивляться, когда знаменитый поэт Жуковский, напутствуя Царя Николая I, определил следующие принципы воспитания и образования его сына: «Уважать закон. Жить культурно и продвигать культуру. Быть верным своему слову. Уважать людей и любить свой народ. Верить в справедливость. Настоящая вера есть вера в Бога». Принцесса Метерних в своем дневнике писала, что Александр был очень красив, очарователен и занятен и что все удивлялись его такту, уму и скромности. А лорд Пальмерстон говорил о нём, когда он был в Лондоне, как о человеке в высшей степени гуманном и разумном.
Далее Череп-Спиридович, рассказывая о царствовании Александра II, раскрывает истинную причину гражданской войны в Америке. Он считает, что эта война была искусственно спровоцирована всё теми же Ротшильдами. Он приводит мнение германского министра Бисмарка, который знал правду и открыл её в 1876 году: «Разделение Соединенных Штатов на две федерации было решено задолго до гражданской войны высшей финансовой силой в Европе. Эти банкиры боялись, что если Соединенные Штаты сохранятся как единая нация, то они могут достигнуть экономической и финансовой независимости, а это не позволит осуществить финансового господства банкиров над миром».
Планам Ротшильдов по расчленению Соединенных Штатов не суждено было сбыться из-за вмешательства Русского Царя Александра II, который внимательно следил за развитием ситуации и в критический момент предупредил Францию и Англию, что их вмешательство против Севера будет рассматриваться как объявление войны против России. Одновременно Царь отправил свой Атлантический флот в Нью-Йорк, а Тихоокеанский отряд в Сан-Франциско с приказом сражаться с любым флотом или иной силой, которая атакует США. Фактически он передал свой флот в распоряжение президента Линкольна. Об этом мало кто знает в Америке и в остальном мире. Если бы этого не произошло, то войска пяти держав, высадившиеся в Мексике в 1863 году, обеспечили бы полную победу Южным Штатам и Соединенные Штаты были бы разорваны; Южные штаты вскоре были бы присоединены к Мексике, а Северные штаты к Канаде! Таким образом, планы Ротшильдов, были сорваны. Джеймс Ротшильд остался без Мексики и без Южных Штатов, а Лионель Ротшильд не смог захватить Север, как это было запланировано в 1857 году.
Спасение Соединенных Штатов взбесило Ротшильдов. Линкольн был убит в 1865 году. Вскоре наступила очередь Русского Царя, и дни его были сочтены. 6 июня Царь ехал с Наполеоном III в Булонском лесу, когда в него дважды выстрелил Антон Березовский (Антоний Иосиф Березовский, уроженец Житомирского уезда, сын бедного польского шляхтича, участник польского восстания 1863 года). Господь хранил Государя. 4 апреля 1866 года последовало покушение дворянина Саратовской губернии Дмитрия Каракозова. 5 февраля 1880 года попытку предпринял народоволец Халтурин. Наконец бомба террористов из группы Софьи Перовской достигла цели, и в 1881 году добрейший Царь-Освободитель, даровавший свободу русским крестьянам, был убит.41
Однако враги Самодержавия просчитались, думая запугать русских Самодержцев и поколебать незыблемость божественных принципов управления Державой Российской. Закон о престолонаследии, мудро принятый ещё Павлом I, обеспечивал строгую преемственность власти, когда будущий Самодержец с молоком матери впитывал дух верности русским традициям государственного управления. Александр III, сменив на Престоле своего державного отца, твёрдо встал у кормила власти, с одной стороны продолжил и укрепил реформы, начатые отцом, с другой, со всей решимостью принялся защищать и укреплять самодержавное начало. В царском манифесте при восшествии на Российский Престол непреклонно выражено это намерение Александра III: «Посреди великой нашей скорби глас Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».42
Но совершенно неожиданно 20 октября 1894 года в Ливадийском Дворце в полном расцвете сил после непродолжительной болезни скоропостижно скончался Царь-Миротворец Александр III … Россия поникла в скорбном молчании, а из русского сердца изошёл стон по безвременно ушедшему «величайшему человеку Земли Русской», как назвал своего любимого Царя валаамский монах Иувиан (Красноперов). Его слово выразило то, кем был Александр III для России и для всего мира: «Угасла жизнь нашего Царя-праведника и миротворца, Государя Императора Александра III, в истинном смысле оправдывавшего свое именование «Благочестивейшего» и при своей глубокой религиозности и по огромному влиянию бывшего вселенским проповедником веры и благочестия. Чрезвычайно чистый нравственный образ почившего Государя пленял все сердца, а его внешний облик: колоссальный рост, могучая фигура, добрые ласковые глаза, – приковывали к нему всеобщие симпатии. В нём Россия нашла как бы наглядный образ и воплощение своего величия, своей мощи, своей доброты и своей нравственной чистоты. Действительно, во дни царствования этого великого Государя Россия достигла такого величия, такой славы, что перед нею померкла вся слава мира сего: одно слово державного властителя православных миллионов заставляло подчиняться ему всё, что могло быть враждебным России. Это незабвенное в летописях мира царствование было истинным торжеством православного христианства, и повсеместно в России оно сказалось всеобщим подъемом святой веры и православия».43
Неожиданная смерть могучего Царя, обладавшего богатырским здоровьем, всем казалась невероятной и … загадочной.
На Русский Престол взошёл его сын, Царь-Самодержец Николай II Романов.
На этом закончим краткий исторический экскурс.
Что означает изложенные в нем факты? Они означают то, что, как говорил Григорий Ефимович Распутин, в мире напраслины не бывает. Т. е. нет ничего случайного, а всё есть закономерное действие различных сил, которыми управляет Промысел Божий. За фасадом внешних событий прослеживается вековечная борьба в мире двух начал: добра и зла. Эта расплывчатая, безликая формулировка достаточна для язычников. Христианское мировоззрение рассматривает политику, как арену борьбы Бога с дьяволом здесь, на земле, в человеческом роде. При этом Господь поставляет на эту брань Своих верных слуг, воинов Христовых, делателей на ниве Божьей, а дьявол действует через своих помощников – исполнителей и проводников его, дьявольской воли.
Как и во Франции XVIII столетия, в России действовали свои тайные общества, были люди, кто исполнял роль Вейсгаупта и его «головорезов», были свои робеспьеры, дантоны, мараты. Были и ротшильды, если и не они сами, то их ставленники в лице банкиров Варбургов, Якова Шиффа, Парвуса. Последний занимался распределением финансовых потоков в России. Подробно узнать о расстановке антирусских сил и об их подпитке через финансовые каналы интернациональными банковскими структурами можно, познакомившись с работами современного исследователя Михаила Назарова и прочитав опубликованную им книгу Энтони Саттона «Уолл-Стрит и большевицкая революция», где рассказывается о роли международного банковского капитала в русской революции.44 Все эти деньги, которые в зависимости от финансовых подразделений делились на американские, германские, английские и даже японские, работали для разрушения великой Российской Державы.
Но только ли деньги были причиной постепенного продвижения международной финансовой олигархии к своим целям мирового господства? Ведь деньгами покупались не только необходимые технические средства, материальные ценности, оружие и т. д. Деньги сами по себе – ничто. Деньгами покупаются и продаются души. Отступление от заповедей Божьих и продажность людей – вот причина.
Насколько удалось это в России и почему это стало возможно? Ответ один. То, что произошло с русским народом, можно образно назвать эпидемией духовной чумы. Значительная часть русских людей (а особенно и главным образом, высшие и образованные слои) оказались пораженными болезнетворной бациллой социальных идей, не совместимых с государственной жизнью православного русского народа. В результате жизнь русского государства оказалась парализованной, и никакие меры со стороны Верховной власти не смогли исправить это поражение народного организма. Народный иммунитет оказался ослабленным, защитные механизмы против чужеродного проникновения сработали неэффективно. Какие же это механизмы? Они просты и понятны русскому человеку. «Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!» – так поёт Церковь в дни Великого поста. Это и есть наше главное оружие! Всем деньгам врага, всем тайным обществам, жестокости и ужасу, который пытались посеять идейные, «пламенные» революционеры, бомбисты, террористы, профессиональные и циничные убийцы, Русский народ мог противопоставить только одно, главное и несокрушимое оружие – твёрдую веру в Бога, преданность и верность своему Самодержавному Царю, Помазаннику Божьему, и настоящую, истинную любовь и жалость к своему святому Отечеству и к своим православным собратьям.
Но на беду, этого не произошло. Повсеместно в среде народной можно было встретить забвение святоотеческой мудрости предков, исчезновение страха Божьего, увлечение западными порядками и обычаями, изменение понятия о Царе, как о личности священной, дарованной народу и венчанной на Царство Богом. Как выразил эту мысль первый Русский Царь Иоанн Васильевич Грозный, «не многомятежным человеческих хотением, а Божьим произволением и благословением» поставлялись Русские Цари на Престол Русского Государства.
На поверку же вышло, что отношение к Русскому Царю в русской среде было вполне западное: политический лидер, вождь, сильная личность, не более. О неприкосновенности священной царской особы вовсе не помышляли. Грозный глас Божий не звучал в сердцах тех, кто посягнул на Царя и на его верных слуг: «Не прикасайтеся помазанным Моим, и во пророцех Моих не лукавнуйте…».
Хотя источники разрушительных усилий хорошо известны, для полноты исторической картины проиллюстрируем наши выводы фрагментами масонской переписки, принадлежавшей хранительнице русского масонского архива за 1906 – 1957 гг. Е. Д. Кусковой, а также русской писательницы-эмигрантки Н. Н. Берберовой. Это поможет нам, с одной стороны, представить насколько глубоко последователям Вейсгаупта удалось проникнуть в русскую почву, а с другой, понять природу тех источников, которые идейно питали различные комитеты, общества, собрания и влияли на формирование «общественного» мнения в России. А это мнение, в свою очередь, не только передавалось с газетных страниц, но и звучало с трибуны Государственной Думы. Итак, Кускова:
«Цель масонства – политическая, работать в подполье на освобождение России.
Почему выбрана была такая форма? Чтобы захватить высшие и даже ПРИДВОРНЫЕ круги… Князьёв и графьёв было МНОГО. Вели они себя изумительно: на Конгрессах некоторых из них я видела. Были и военные – высокого ранга.
Движение это было ОГРОМНО. Везде были «свои» люди. Такие общества, как Вольно-Экономическое, Техническое, были захвачены целиком. В земствах то же самое.
До сих пор тайна ОГРОМНА. К февральской революции ложами была покрыта вся Россия».
Далее свидетельство Нины Берберовой:
«Посвящённых были сотни, настоящего числа их никто не знал, а вокруг них были полупосвящённые, те, которые не давали таинственной клятвы, но молча поддерживали первых… Сочувствовавшие, и молчавшие, и состоявшие где-то совсем близко, чтобы в нужную минуту ответить на перекличке. Этот «второй» слой был очень значителен. Он особенно разросся во время «прогрессивного блока»».
И вновь Кускова:
«Итак – кадры были готовы. В обеих столицах думцы, профессора, дипломаты, члены Военно-промышленного комитета, члены Земского и Городского союзов, адвокаты, военные, земцы, «общественники» поздравляли друг друга: их день наставал…».45
Процитированного достаточно, чтобы представить картину, и на этом остановимся. Для получения более подробной информации отсылаем к работам известных исследователей темы участия масонства в русской революции: М. Назаров, Л. Болотин, О. Платонов и другие.
Отметим лишь, что в приведённом Кусковой перечне нет и не могло быть простого народа – крестьянства, наиболее многочисленного, наиболее крепкого слоя хранителей спасительных и животворных начал народного бытия: веры в Бога, верности Православному Царю, хранителей патриархальных устоев, самобытных народных обычаев, воспитывающих народную душу, формирующих замечательный русский характер, неповторимый ни в каком ином народе, ни в какой иной земле мира. Но неорганизованное крестьянство, как и армия, состоявшая, как известно, в своей массе из тех же крестьян, не имея вождей, не могло противостоять заговору господ, предавших не только Царя, но и свой простодушный народ. Господа окончательно обманули его, завели в предательскую западню, лишили его спасительных идеалов, духовного оружия и мощи, а потому сделали Русский народ беззащитным и беспомощным перед теми, кто жаждал его избиения и истребления. Что и произошло вскоре. И сегодня, в начале XXI века, мы вынуждены констатировать, что русское крестьянство, как самобытный культурно-исторический слой православных земледельцев-пахарей, составлявших громадное, подавляющее большинство русского населения России, практически исчезло с лица русской земли. А вместе с исчезновением крестьянства постепенно угасает и русский дух, не имея почвы, не имея прочных корней в толще народной, в народном быту, обычаях, традициях, которые стремительно вымирают, забываются, теряют жизненную силу, уступая место в лучшем случае псевдорусскому духу, а в худшем – его антиподу, т.е. духу стяжания, наживы, приземлённости и пустоты – духу откровенно враждебному православию, каковой пропитывает, в сущности, всю западную культуру, всю ту зловонную пену, нахлынувшую на нашу землю в виде рока, дешёвых удовольствий, телевизора, моды и выше перечисленных ценностей жизни. Но это уже другая тема.
Глава 5. Русское общество накануне революции
Теперь приступим к изложению фактов, считая, что верный ключ к их пониманию найден. Будем надеяться, что сделанное нами отступление не покажется утомительным читателю, но поможет пролить свет на те события, беглый обзор которых представлен ниже. При составлении обзора основным источником служили мемуары начальника Дворцовой охраны, командира Отдельного корпуса жандармов, генерал-майора Александра Ивановича Спиридовича.46
Александру Ивановичу Спиридовичу можно быть благодарным за те неподдельные чувства любви и преданности к Государю Императору Николаю II, которые пронизывают каждый эпизод его царствования, отображенный в мемуарах. Отношение Спиридовича к Государыне Императрице Александре Феодоровне также окрашено чувствами глубокого уважения, понимания и жалости к ней, и как к Царице, и как к матери. В своих воспоминаниях Спиридович постоянно встает на защиту её доброго имени, опровергает все кривотолки и сплетни в её адрес. Все сказанное позволяет с доверием отнестись к тем фактам, которые в изобилии и очень подробно изложены в мемуарах Спиридовича, хотя к некоторым его оценкам и трактовкам следует отнестись критически.
Отношения Царской Семьи с семьёй дяди Государя Великого князя Николая Николаевича не складывались так, как хотелось бы Великому князю и его жене.
Им не удалось сколько-нибудь ощутимо занять положение при новом Государе Николае Александровиче и его Августейшей Супруге, соответствующее их непомерно развитому самомнению и честолюбивому желанию первенствовать. Они желали «указывать» и «влиять», «играть роль», видимо, забывая о своей роли первых помощников и слуг Государя. Недовольство усугубляло и то обстоятельство, что введенный ими же во Дворец Григорий Распутин оказался ближе к Царю и Царице, нежели к ним. У Царской Четы установились дружеские, теплые и доверительные отношения с простым мужиком, чья независимая позиция и близость к ним раздражали Великого князя и его окружение.
Это тем более задевало Великого князя, что казавшаяся замкнутой и недостаточно общительной Императрица ограничивала круг своего близкого общения семьей и немногими приближенными, среди которых главное значение приобрела новая подруга – молодая фрейлина Анна Танеева. В новых симпатиях, сложившихся у Царской Четы, как казалось окружению Великого князя Николая Николаевича, им было отведено слишком мало места, а предпочтение несправедливо было отдано другим, гораздо менее достойным в силу своего положения людям, что, конечно, ущемляло их самолюбие. Обычная человеческая зависть порождала и питала то недружелюбие, которое проступало по отношению к Государыне со стороны окружения Великого князя и сестер-черногорок.
Но вот грянула война. На должность Верховного главнокомандующего в начале войны был высочайше назначен Великий князь Николай Николаевич. Однако эйфория, вызванная первыми успехами в Галиции, вскоре рассеялась. Последовали военные неудачи, связанные с провалом наступления армий Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии, окружение и разгром армии генерала Самсонова в районе Мазурских болот. Обнаружились просчеты высшего военного руководства, принятие Ставкой ошибочных решений (август 1914 года). «Жестокая действительность разрушила все предположения и расчеты генерального штаба. На совещании 16 ноября (1914 г.) в Седлеце Великого князя с командующими фронтов выяснилось о некомплекте людей, офицеров, потере большого числа винтовок, недостатке снарядов. Предполагаемое в ноябре наступление Северо-Западного фронта пришлось прекратить и закрепиться на зимние квартиры».47
Сложившееся на фронте положение предоставило необыкновенный шанс для тех, кто ненавидел русское Самодержавие и лично Русского Царя, кто вынашивал планы его уничтожения. Спектр этих сил был широк: от представителей международного интернационала в лице большевиков до доморощенных искателей справедливости и борцов за свободу в лице представителей всех сословий. Эти последние составляли так называемые «слои общественности», которые формировали негативное по отношению к Царю «общественное мнение», выдвигали требования наперекор верховной власти, что в условиях военного времени можно расценить как прямой шантаж верховной царской власти, а тайное нежелание исполнять волю Государя – как скрытый саботаж. Кроме того, при одобрении, фактической поддержке «общественности» революционерами велась и откровенно подрывная деятельность в армии, среди рабочих и других слоев населения.
Среди лидеров оппозиции выделялись такие фигуры, как Гучков, князь Львов, Милюков, Керенский, Родзянко и прочие. Впрочем, все они, а также их деятельность хорошо известны.
Казалось бы, этим силам, действующим разлагающе на русский народ, русскую армию, мешающим Царю, следовало противопоставить решительное противодействие со стороны наиболее преданных, облеченных властью и силой царских слуг, чьим прямым долгом, смыслом служения и жизни являлась защита Русского Царя. И не только угроза царской жизни, но и любое посягательство на Богом учрежденное и благословленное самодержавное начало устроения Земли Русской должно было быть решительно пресечено.
Но этого не произошло. «Верные слуги» Помазанника Божьего избрали иной путь, путь иуды. Они неожиданно (впрочем, так ли уж неожиданно?) повели двойную игру и пошли на постыдное соглашательство с врагами русского Престола. Внешним побудительным мотивом для этого явились обычная человеческая низость и малодушие, когда свои собственные преступные просчёты попытались скрыть за магическим словом «предательство», чтобы, выгородив себя, нанести в угоду «общественности» удар по тем, кто был действительно предан Государю и добросовестно исполнял свой долг перед Царем и Отечеством.
Чтобы понять, какие приемы были использованы в этой подлой игре, будет уместно более подробно остановиться на трагической истории потомственного дворянина подполковника Сергея Николаевича Мясоедова. Через интригу, связанную с его именем, Ставкой, возглавляемой Великим князем Николаем Николаевичем, в союзе с «общественностью» был нанесен удар по военному министру Сухомлинову. Эта история поможет разобраться в тех механизмах, которые были использованы в травле Григория Распутина и Анны Вырубовой, а через них конечно же, Государыни Императрицы Александры Феодоровны.
«На второй день Пасхи, 21 марта [1915 г.], в газетах появилось официальное сообщение о раскрытом предательстве подполковника запаса армии Мясоедова и о его казни. Снова заговорили об измене повсюду. Все военные неудачи объяснялись теперь предательством. Неясно, подло намекали на причастность к измене военного министра Сухомлинова. У него были общие знакомые с Мясоедовым. Кто знал интриги Петрограда, понимали, что Мясоедовым валят Сухомлинова, а Сухомлиновым бьют по Трону.
История с Мясоедовым во всём её развитии за время войны была, пожалуй, главным фактором (после Распутина), подготовившим почву для революции. Испытанный на политической интриге Гучков не ошибся, выдумав грязную историю с целью внести раздор в ряды офицерства. Время потом рассеяло много клеветы, вылитой на представителей царского времени, и чем больше его пройдет, тем масштабнее будет выступать моральная грязь величайшего из политических интриганов господина Гучкова».48
Мясоедов осенью 1910 года был принят в корпус жандармов и отчислен в распоряжение Сухомлинова как Военного Министра. Этот момент совпал с разворачивающейся против Сухомлинова интригой, которую затеял Гучков вместе с генералом Поливановым. Схема интриги такова. В столичных газетах, в частности в газете «Вечернее время», редактором которой был Борис Суворин, «появились заметки с гнусными намеками» на то, что жандармский офицер ведет шпионскую деятельность в пользу Австрии. Мясоедов, потребовав от редактора опровержения и не получив его, нанес Борису Суворину публичное оскорбление. По этому же поводу Мясоедов дрался с Гучковым на дуэли. Началась проверка, в результате которой выяснилось, что «его [полковника Мясоедова] причастность к разведывательной и контрразведывательной службе опровергаются самым категорическим образом» (письмо Начальника Генерального Штаба от 18 апреля 1912 года). Это же подтвердили командир корпуса жандармов и начальник департамента полиции Белецкий.49 «Расследование установило полнейшую вздорность пущенной Гучковым сплетни, и была вскрыта вся гнусность интриги члена Государственной Думы Гучкова. Он оказался полным клеветником и лгуном». «Обнаружилась при расследовании и некрасивая роль генерала Поливанова. Оказалось, что он осведомлял Гучкова о намерениях Сухомлинова и не раз передавал в Думскую комиссию документы, которые брал негласно у военного министра, пользуясь своим положением».
Но с началом войны интрига неожиданно получила продолжение. Некий подпоручик Колаковский, вернувшись из плена, показал, что его завербовала немецкая разведка, более того, что он сам предложил свои услуги (т.е. оказался по существу предателем). При получении задания ему советовали обратиться за помощью к отставному жандармскому подполковнику Мясоедову. Этому предателю почему-то сразу поверили в Ставке. Делу был дан ход. Полковник Мясоедов был арестован в Ковно, где он исполнял служебное поручение. Начальник Генерального Штаба Янушкевич повелел дело Мясоедова «закончить быстро и решительно». «Военно-полевой суд признал Мясоедова виновным и приговорил его к смертной казни через повешение». «Через пять с половиной часов после объявления приговора Мясоедова казнили» (казнь была совершена в марте 1915 года). Его последняя предсмертная просьба послать телеграмму Государю удовлетворена не была. Прощальная телеграмма родителям, где он говорил о своей невиновности, была задержана.
Объясняя причины совершенной «ужаснейшей судебной ошибки», Спиридович делает не менее ужаснейший вывод: «С Мясоедовым расправились в угоду общественному мнению. Он явился ответчиком за военные неудачи ставки в Восточной Пруссии… Те, кто создал дело Мясоедова, и главным образом Гучков, были довольны. В революционной игре против Самодержавия они выиграли первую и очень большую карту. На этом примере они создали большой процесс с многими невинно наказанными, и главное – процесс генерала Сухомлинова, процесс, который впоследствии способствовал разложению тыла и возбуждению ненависти к Государю.
Но что же делала ставка, раздувая дело Мясоедова? Ставка шла навстречу общественному мнению. Слепая толпа требовала жертв. Слабая ставка Великого князя их выбрасывала, не думая о том, какой вред она наносит Родине…
Какая ужасная трагедия и какая колоссальная ответственность лежит на совести главного зачинщика дела Мясоедова, величайшего из политических интриганов – Александра Ивановича Гучкова».50
Итак, обвинения Мясоедова исходили от так называемых либеральных кругов общественности. Что такое «общественность», или «общество», объяснил С. С. Ольденбург в книге «Царствование Императора Николая II». «Обществом называли либеральную интеллигенцию, и выражение его воли видели в тех «общественных организациях», которые создались за время войны: общеземском союзе, союзе городов и военно-промышленных комитетах. Эти организации, созданные первоначально для деловых задач, связанных с войной, вдруг приобрели значение выразителей политической воли страны».51 Руководствовались они преимущественно «кадетскими» элементами. Таким образом, ядро «общественности» формировали «свободно» мыслящие или либерально настроенные интеллигенты, которые ратовали за ограничение самодержавия или вовсе за его отмену и установление демократической парламентской республики по типу западных демократий.
Ситуацию подогревала деятельность откровенных врагов русского Самодержавия – большевиков. 3 ноября 1914 года в Озерках состоялась их конференция, на которой присутствовали 11 членов большевистских организаций и пять членов Государственной Думы. И хотя конференция 5 ноября была арестована жандармерией, известие о ней будоражило не только рабочие круги, но и широкие круги оппозиционно настроенной общественности. Это создавало настроения общества, определяло его симпатии и приоритеты, формировало взгляды и отношение к правительству и верховной власти. В воюющей стране стали известны решения антивоенной Циммервальдской конференции (23 августа 1915 года), в которой приняли участие 33 делегата из 10 государств от левых социалистических партий. Резолюция конференции призывала добиваться заключения мира и прекращения всякого соглашательства с буржуазией. По существу был провозглашен курс на насильственное свержение законных правительств воюющих стран.
Последовавшие крупные неудачи Русской Армии в Галиции, когда после неожиданного наступления немцев отступление наших войск стало напоминать катастрофу, вызвали в Петрограде новую волну истерии и сплетен в адрес Государыни. Главным объектом этих сплетен являлся Григорий Распутин.
«Петербург кипел. Непрекращающееся отступление в Галиции и слухи о больших потерях породили всплеск ругани и сплетен. Говорили, что на фронте не хватает оружия и снарядов, за что бранили Сухомлинова и Главное артиллерийское управление во главе с Великим князем Сергеем Михайловичем. Бранили генералов, бранили ставку, а в ней больше всего Янушкевича. Бранили бюрократию и особенно министров Маклакова и Щегловитова, которых уже никак нельзя было обвинить в неудачах в Галиции.
С бюрократии переходили на немцев, на повсеместный шпионаж, а затем все вместе валили на Распутина, а через него уже обвиняли во всем Императрицу. Она, бедная, являлась козлом отпущения за все. В высших кругах кто-то пустил сплетню о сепаратном мире. Кто хочет, где хотят – не говорилось, но намеками указывалось на Царское Село, на Двор».52 Откуда исходили все эти слухи, будет ясно из дальнейшего изложения. Удивляет то, с какой легкостью эти сплетни подхватывались и распространялись. Истерия в тылу свидетельствует о том, что рамки «оппозиционно-либеральной общественности» выходили далеко за пределы общественных комитетов, союзов и собраний, но распространялись вглубь, в толщу обывательской массы населения разных сословий: купцов, чиновников разных мастей, банкиров, промышленников и рабочих, депутатов Думы, министров, и конечно, среди высшего общества: князей, предводителей дворянства…
Министр внутренних дел Маклаков в этой ситуации оказался беспомощным. Он понимал, что единственно радикальным средством оказалось бы упразднение Государственной Думы, но для осуществления этого проекта у Маклакова, по мнению Спиридовича, не было «ни достаточного ума, ни опыта, ни характера, ни людей, которые бы поняли его и поддержали»53. В дела тыла активно вмешивалась ставка, т.е. Великий князь Николай Николаевич, к которому с докладами приезжали министры, минуя Государя. По словам Анны Вырубовой, в стране создавалось двоевластие. Великий князь Николай Николаевич очень хотел играть важную роль в государственных делах, пытался активно проводить свою линию.
Чтобы предоставить возможность Великому князю реализовать свои амбиции и удовлетворить его настойчивое желание, совпадающее с чаяниями и думских кругов, и представителей «общественности», Государь принял решение взять новый политический курс «на общественность». Со стороны Государя эта вынужденная уступка была сделана в надежде на то, что принятыми мерами удастся успокоить ситуацию в тылу, одновременно снять напряжение и нервозность, царившие в Ставке, а тем самым нормализовать ее работу, что было самым важным в тот момент для Армии. В сложившихся обстоятельствах Государь вынужден был пойти на серьезные перестановки в правительстве.
Прежде всего, поскольку Великий князь Николай Николаевич продолжал травить военного министра Сухомлинова, взваливая на него всю вину за нехватку артиллерийских снарядов, Государь, уступая просьбам Великого князя, решил заменить Сухомлинова генералом Поливановым, несмотря на дружбу последнего с Гучковым и связи с думскими кругами. Опять же по совету Великого князя, вместо Маклакова министром Внутренних Дел был назначен Щербатов, который был крупным полтавским землевладельцем и губернским предводителем дворянства, коннозаводчиком, обладал здравым умом, энергией и деловитостью. Но, главное, Великий князь Николай Николаевич, вместе с Советом Министров продвигавший его на новый пост, видели в князе Щербатове хорошую связь с общественностью. По просьбе членов Совета Министров Государь заменил министра юстиции Щегловитова и обер-прокурора Синода Саблера, присутствие которых в совете не вязалось с новым курсом правительства, на Александра Хвостова (дядю Алексея Николаевича Хвостова) и Самарина. Посредником между Великим князем и общественностью выступал министр земледелия Кривошеин.
Однако на проявление доброй воли и доверия Государя «общественность» поспешила ответить новыми требованиями к верховной власти, расценив сделанные уступки как слабость. В Москве произошло совещание представителей земств и городов, которое «вынесло постановление добиваться устранения Государя от вмешательства в дела войны и даже от верховного управления, об учреждении диктатуры или регентства в лице Великого князя Николая Николаевича». Взаимосвязь этих событий: принятия правительством курса «на общественность» и выдвижение «общественностью» требования регентства и диктатуры была очевидна. Все это были звенья одной цепи.
Все происходящее в те дни можно определить только одним точным по смыслу словом – «заговор». Центром заговора была ставка Великого князя Николая Николаевича. Это утверждение не является преувеличением и справедливо в том смысле, что все действия носили скоординированный характер, были направлены против власти законного Государя, а Великий князь не мог не осознавать того, что является центром и опорой всей этой деятельности. Даже в том случае, если его роль была сыграна пассивно, он, несомненно, являлся ключевой фигурой. Можно, конечно, выразить сомнение, считая, что Великий князь был лишь разменной пешкой в чужой игре, что он не осознавал, не предполагал в полной мере и т.д. Ведь были фигуры Гучкова, Львова и других – подлинных и активных злодеев и изменников. Но… одно событие ставит точку в рассуждениях относительно того, насколько осознанными были поступки князя и каковы были его истинные настроения и мотивы.
Со слов Спиридовича, суть произошедшего заключалась в следующем. 1 января 1917 года Тифлисский городской глава Александр Иванович Хатисов, который знал, что князь в опале, враждебно относится к Царице, порицает Государя и заискивает перед общественностью, предложил ему следующую сделку: ни больше ни меньше как корону Российской Империи в обмен на предательство Царя! При этом предполагалось, что Николай II отречется и за себя, и за сына, а Александру Федоровну либо заключат в монастырь, либо вышлют за границу. В этом деле Хатисов выступал от лица думской общественности и исполнял поручение, данное ему непосредственно князем Львовым.
И что же Великий князь Николай Николаевич? После длительного размышления (ему потребовалось два дня, чтобы дать ответ) Великий князь отказался от сделанного ему предложения. Но что его остановило? Может быть, преданность Государю, своему долгу, может быть, честь и достоинство русского дворянина, может быть, данная перед Богом присяга в верности Царю и Отечеству? Или, быть может, он вспомнил о страшной клятве русского народа 1613 года, о законах Российской Империи, четко определяющих порядок передачи Верховной Царской власти в мужской линии по праву первородства? Оказывается, нет. Его остановила боязнь того, что мужик и армия не поймут насильственной смены Царя.
Кто-то возразит, что это наговор. Спиридович неправильно трактовал поведение князя, который был именно всегда предан Верховной власти Помазанника Божьего. Предан? Тогда почему он не арестовал изменника Хатисова тут же на месте, почему он не расправился с ним по законам военного времени – так, как он беспощадно расправился с подполковником Мясоедовым? Почему он, наконец, не известил о готовящемся заговоре Государя и министра Внутренних Дел? Хатисов с замиранием сердца наблюдал за пальцами Великого князя, которыми он барабанил возле кнопки вызова охраны. Но Великий князь так и не нажал на кнопку, не вызвал охрану и не арестовал Хатисова. Да он и не собирался этого делать. В этом его нервном движении была всего лишь поза. Подводя итог тому, что произошло, Спиридович пишет: «Зарождающаяся измена монарху, да еще Верховному главнокомандующему, во время войны, в поведении Великого князя была налицо уже в тот момент. В дальнейшем она претворится в реальное действие ровно через два месяца, подтолкнет на измену еще некоторых главнокомандующих армиями и сыграет главную роль в решении императора Николая II отречься от престола».54
Бог Судия Великому князю. Не всё так просто и однозначно в судьбе каждого человека. По стечению обстоятельств, которыми управляет Бог, духовным отцом Анны Танеевой после принятия ею монашеского пострига стал духовник Великого князя иеросхимонах Ефрем (Хробостов). О. Ефрем много лет ежедневно служил литургию на Валааме в Смоленском скиту, где он жил отшельником. Известно, что скит был построен на деньги Великого князя Николая Николаевича по собственному проекту его брата Великого князя Петра Николаевича. Николай Николаевич желал, чтобы в скиту шла непрерывная молитва за русских воинов, сложивших свои головы на полях Германской войны за Бога, Царя и Отечество. Бог сторицею воздаст за всякую правду. Государь всех простил. Но брошенный князем вызов Русскому Самодержцу остался без ответа. Сам Государь уже не сможет удовлетворить его. Это обязаны сделать те, кто сегодня считает себя царским слугой. В истории царствования Николая II не должно оставаться недосказанных мест, а память о наших последних Венценосцах должна быть чиста, не запятнана грязными наветами, от кого бы и в каком бы виде они ни исходили.
Раскрытый эпизод ещё раз объясняет, что курс на «общественность» не мог принести ожидаемой пользы в силу того, что был рассчитан Государем на созидательный труд со стороны всех чиновников. Цели же последних оказались обратными: не созидание, а сознательное разрушение всех начинаний Государя было их заботой.
Следующим ходом либерально настроенных министров, действующих с оглядкой на «прогрессивные» круги Думы («общественность»), явилось то, что они стали добиваться ухода мудрого и преданного Государю Горемыкина с поста премьер-министра…
Принятое в Москве постановление заставило по-новому отнестись к слухам о заточении Государыни Александры Феодоровны в монастырь. Слухи эти шли опять же из окружения Великого князя Николая Николаевича. Близкий к князю Начальник походной канцелярии Его Величества князь В. Орлов рассказал об этом лейб-хирургу Федорову, который, в свою очередь, поведал об этом генералу свиты Его Величества Дубенскому, а тот – генералу Спиридовичу. Об этих слухах стало известно Императрице и даже Великим княжнам, которые плакали по этому поводу, боясь, что дядя Николаша заключит мама в монастырь. Ситуация заставляла отнестись к этим слухам со всей серьезностью. Дворцовый Комендант генерал Воейков и его подчиненные были начеку и сделали все от них зависящее, чтобы предотвратить возможный дворцовый переворот. Прежде всего, под контроль был взят начальник походной канцелярии Его Величества князь Орлов, в числе подозреваемых оказался офицер свиты Его Величества полковник Дрентельн, а также генерал Джунковский.
15 августа 1915 г. через нового министра Внутренних дел князя Щербатова, сменившего Маклакова, генерал Джунковский получил письмо с приказом Государя немедленно уволить его, генерала Джунковского, от всех занимаемых им должностей. По мнению князя Щербатова, которое передает Спиридович, увольнение было связано с тем, что в прессу просочились сведения, содержащиеся в докладе Джунковского о Распутине, вплоть до тождественности отдельных фраз. Значит, Джунковский в угоду «общественности» позволил себе разгласить сведения сугубо должностного характера, тем самым еще раз причинил боль и нанес оскорбление Их Величествам. Сам же Спиридович считает, что увольнение было вызвано еще и тем, что «от генерала Джунковского Государь никогда не слышал предостережения о том, что готовится заговор. Не считал ли Государь (а Царица, наверное, считала) это молчание странным, если не подозрительным со стороны того, кто по должности должен был бы первым знать об этом и доложить Его Величеству»55.
По мнению Спиридовича, на посту товарища министра Внутренних Дел генерал Джунковский боролся больше с корпусом жандармов, чем с надвигающейся революцией. Отставке Джунковского предшествовал приезд Государыни в Москву, который прошел без подобающей встречи, как будто бы в Москву прибыла не Царица, а частное лицо. За организацию поездки и встречи отвечал Джунковский. Визит Государыни был холодно воспринят московским обществом. Чувствовалось раздражение присутствием рядом с ней Анны Вырубовой. Как считает генерал Спиридович, у многих вызывало раздражение даже то, что Государыня носила костюм сестры милосердия. И это приписывали влиянию Вырубовой – якобы это она советовала Царице его надевать.56
Московское общество погрязло в сплетнях и дрязгах, выражая свое неудовольствие по всем вопросам: и министр Маклаков плох, и зачем Вырубова в свите Государыни, и то плохо, и это плохо, и все это «бросало тень на Императрицу» и «вредило Государю в Москве». «На Императрицу все эти сплетни и дрязги, принявшие в Москве мелочный, провинциальный характер, производили самое нехорошее впечатление. Между сестрами были разговоры, выявлявшие большие различия их взглядов. Царица чувствовала себя нездоровой»57.
«Государь знал обо всех этих замыслах, но, видимо, не верил им. Безусловно, не верил он в то, что Николай Николаевич принимал в этом личное участие, хотя Маклаков, будучи министром, докладывал ему о секретных отношениях Великого князя с Гучковым: перед своим уходом он доложил о перехваченном письме Гучкова к Великому князю, письме, которое очень компрометировало их обоих и о котором в то время много говорилось в свите. Знал Государь и обо всех связях Ставки с некоторыми министрами, о вмешательстве ее в дела внутреннего правления…
Пока дело касалось лично Государя, пока речь шла о личных против него интригах, государь – большой фаталист и человек, искренне веривший в верность армии и ее начальников, – не хотел принимать какие-либо предупредительные меры. Но когда неудачи на фронте стали угрожать чести и единству России, Государь начал действовать.
Отлично осведомленный обо всем, что происходило в Ставке, в армиях, в тылу, хотя правду часто старались скрыть от него, переживавший как никто из-за неудач последних месяцев, Государь после падения Ковно решил сменить Верховного главнокомандующего, Великого князя Николая Николаевича, и стать во главе армии.
Оставлять Великого князя с его помощниками на их постах было нельзя. Заменить его кем-либо без ущерба было невозможно. Выход один – верховное главнокомандование должен был принять на себя сам Государь. Понимая всю ответственность предпринимаемого шага, понимая возложенный на него долг перед Родиной, ради спасения чести России, ради спасения ее самой, Государь решился на этот шаг в критическую минуту войны.
Решение было задумано, зрело продумано и принято Государем по собственному побуждению. Принимая его, Государь исходил из религиозного долга перед Родиной, долга монарха – ее первого слуги и защитника»58.
«Благородный порыв Императора не был поддержан ни Советом Министров, ни обществом, ни Государственной Думой… Попытки отговорить Государя, сделанные министрами Сазоновым, Щербатовым и председателем Государственной Думы Родзянко, оказались неудачными. На слова Родзянко о том, что при неудаче Государь подвергнет риску свой трон, Государь ответил: «Я знаю, пусть я погибну, но спасу Россию». Слова пророческие»59.
Встав во главе армии, Государь своим решительным, мужественным и благородным поступком сохранил честь армии и спас ее от разгрома. Но не только. Как считает генерал Спиридович, тем самым был предотвращен дворцовый переворот.
Более подробно о роли Великих князей в подготовке и осуществлении революции будет рассказано ниже, когда мы будем говорить об убийстве Григория Ефимовича Нового (Распутина).
Особо следует остановиться на том значении, которое придавали присутствию рядом с Царским Селом Григория Распутина, и на его действительной роли в судьбе России. В жизни Царской Семьи Григорий Распутин появился в 1907 году. Всем, кто интересуется личностью Распутина, хорошо известно, что одними из первых его почитателей явились Великий князь Николай Николаевич, его жена Великая княгиня Анастасия Николаевна, а также его брат Великий князь Петр Николаевич вместе с женой Великой княгиней Милицей Николаевной. Обе Великие княгини были родными сестрами – черногорскими принцессами. Именно через них Григорий Ефимович был введен в царский Дворец и представлен Государю и Государыне. Анна Александровна познакомилась с Распутиным в доме Великого князя Николая Николаевича на Английской набережной. Это обстоятельство она подчеркивает в своих воспоминаниях в ответ тем, кто обвинял ее в знакомстве Царской Семьи с Распутиным.
Интерес к Григорию Распутину в Петербурге был вызван не только его глубокой верой и удивительными способностями, но подогревался ещё и тем, что его поведение было совершенно необычным. Он проявил себя как яркая, самобытная личность. Держался независимо, без всякого подобострастия, достоинства не ронял в любом обществе. Всех называл на «ты», вел себя совершенно по-мужицки, мог есть руками, при встрече по своему простонародному обычаю троекратно лобызался со всеми, и дамами в том числе. Такие весьма странные «манеры» и «этикеты» сибирского крестьянина шокировали и оскорбляли интеллигентную, высокообразованную и утонченно воспитанную публику. Внешний вид вполне соответствовал привычкам. У Григория Ефимовича была длинная, мужицкая борода, ношение которой в высшем обществе запрещено было ещё при Петре I. Но всё это терпелось до поры до времени, поскольку в Григории Распутине многие видели всего лишь диковинку, новый источник развлечения и праздного любопытства, требующего постоянного удовлетворения. Привлекали слухи о его прозорливости, целительных способностях, на что человек часто бывает так падок.
Все более возраставшая неприязнь к Распутину со стороны Великого князя Николая Николаевича усугублялась ещё и тем, что их позиции по отношению к назревавшей войне были противоположными. Великий князь жаждал войны, был, используя современный языковый оборот, ярким представителем «партии войны». Григорий Ефимович, как известно, был её противником и пытался повлиять (впрочем, совершенно безуспешно) в этом вопросе на Императора. Григорий Новый (Распутин) открыто указывал на ошибочность позиции Великого князя Николая Николаевича и те отрицательные последствия, которые произойдут в случае развязывания войны, призывал не слушать Великого князя в этом вопросе (более подробно об этом будет рассказано далее).
Врагами Распутина являлись представители всё той же «общественности». Но они были врагами не только его лично. Это были враги Самодержавия, враги русского народа, враги России. И хотя сами эти деятели вышли из недр русского народа, их ослепление было связано с потерей ими национального самосознания, вследствие утраты глубинной связи со своим народом, его обычаями, традициями, его верой. Например, князь Львов, не понимая русский народ, не чувствуя его душу, его чаяний, пытался подтянуть его до своего уровня, придумывал реформы, программы воспитания, образования и проч. Не следовало ли прежде понять свой народ, полюбить его, поучиться у него, увидеть вековую мудрость, величие и красоту народного, крестьянского духа, остаться верным вере своего народа – Православию. Вместо этого – пустая декларация о любви, которая на деле обернулась циничной жестокостью к своему народу. Не в этом ли кроется причина гражданской войны? Поскольку отчужденная беспощадность, вызванная нежеланием понять свой народ, породила ответную слепую ненависть народа к господам.
В этом же состоит главная причина того, почему «общество» не приняло, не могло потерпеть рядом с собой крестьянина Григория Распутина. Его личность, простые обычаи, замешанные на глубокой вере в Бога, преданности Русскому Царю, вековых традициях крестьянского быта, казались дикостью. Его крестьянская мудрость воспринималась как оскорбление их премудрости, премудрости века сего. Два этих мира оказались несовместимыми. Русского крестьянина смог понять и полюбить только Русский Царь и Русская Царица. Они оказались с ним одного, русского, духа. И за это на Них, Русских Венценосцев, обрушилась лавина ненависти тех, кто этот дух терпеть не мог, – та самая «либеральная интеллигенция», прогнившее, выродившееся «общество».
Теперь же, зная на примере Мясоедова, Сухомлинова, Горемыкина, каким образом и в угоду каким целям фабриковались обществом всевозможные небылицы, какую силу воздействия имели они на умы обывателя и к каким страшным последствиям могли привести, вплоть до казни ни в чём не повинного человека или осуждения честного, преданного Царю и Отечеству генерала, попытаемся понять смысл той, связанной с именем Григория Распутина, истории, которая развивалась при деятельном участии генерала Джунковского.
Касаясь жизни Григория Ефимовича в Петербурге по возвращении из Сибири, когда после перенесенного им тяжелейшего ранения только милость Божия избавила его от смерти, А. И. Спиридович говорит, что в нем произошли две перемены. «Во-первых, разными дельцами от банковских директоров до мелких спекулянтов он был вовлечен в проведение предприятий, связанных с войной, а во-вторых, он стал пить и безобразничать в публичных местах, чего раньше с ним не случалось». Свою мысль, что раньше, т.е. до войны и до ранения, Григорий Ефимович «не пил» и «не безобразничал», жандармский генерал Спиридович, который по роду службы располагал всей информацией обо всех, высказывает дважды в своих мемуарах. Таким образом, все обвинения в адрес Григория Распутина относительно образа его жизни могут быть отнесены только к двум последним годам его жизни.
Но насколько справедливы и эти обвинения, рассмотрим на примере истории, произошедшей с ним в ресторане «Яр». Хотя всё, что произошло, подробно разобрано в трудах Олега Платонова, не будет лишним ещё раз коснуться этого случая. Подробности происшествия хорошо известны. Суть общепринятой версии можно выразить одной фразой: Распутин, напившись в ресторане «Яр», вёл себя крайне непристойно и проч. Министр Внутренних Дел Маклаков и особенно, как свидетельствует Спиридович, генерал Джунковский попытались придать этому делу политическую окраску, посоветовав Московскому градоначальнику генералу свиты Его Величества Адрианову доложить произошедшее лично Государю. Но генерал Спиридович, а вслед за ним и генерал Воейков выразили свое недоумение, отсоветовали Адрианову делать доклад, и тот вернулся в Москву. Однако о случившемся все-таки было доложено Государю министром Маклаковым. Государь вызвал Распутина и после разговора с ним повелел ехать в Покровское.
Генерал Джунковский состоял в свите Государя и занимал в правительстве пост начальника полиции, был командиром корпуса жандармов, охранял Государя при его следовании по железным дорогам. При этом он оставался, как свидетельствует Спиридович, «москвичом», т.е. по своим симпатиям принадлежал к кругу Великой княгини Елизаветы Феодоровны, где, как известно, были очень сильны настроения против Распутина. Эти настроения как нельзя лучше соответствовали взглядам бывшей в оппозиции к верховной власти «общественности». В угоду этим настроениям генерал Джунковский решился выступить против Распутина в связи с историей в ресторане «Яр». Воспользовавшись правом делать Государю доклад по вопросам службы его ведомства, он 4 августа 1915 года доложил Государю все, что он считал нужным и что ему было известно о Распутине. Государь был крайне рассержен услышанным, вызвал Распутина и вновь, как и несколько месяцев назад после доклада Маклакова, приказал ему отбыть на родину. 5 августа Григорий Ефимович выехал в Покровское.
Однако всё, что было сообщено Джунковским, не нашло подтверждение при негласной проверке сообщенных Джунковским сведений. Для этого в Москву был послан по поручению Государыни флигель-адъютант Саблин, а также по просьбе Анны Александровны сенатор Белецкий. «Стали собирать справки. Уволенный Московский градоначальник Адрианов сообщил оправдывающие Старца сведения»60. Адрианов заявлял, «что в знаменитом апрельском скандале у Яра Распутин ничего не делал и был оклеветан»61. Это же подтвердил и бывший градоначальник Юсупов. Если никаких компрометирующих Царя и Царицу фактов не подтвердилось, то посещение «Яра» было частным делом Распутина. Ничего предосудительного в этом не было. Но из этого посещения раздули историю, грязную историю, которая, как выяснилось, оказалась ловко сплетенной все теми же кругами «общественности» интригой, целью которой было подорвать авторитет верховной власти Русского Царя. Как и в случае с Мясоедовым, а затем с Сухомлиновым, в основе всего была злобная одержимость, подлость и ложь со стороны устроителей и заказчиков этого дела, а также глупость и болезненное ослепление со стороны тех, кто во всё это с лёгкостью верил и безответственно распространял.
Наши выводы не претендуют на оригинальность, поскольку эта тема уже разобрана писателем Олегом Платоновым. Но православному русскому патриоту почему-то не хотят верить, его выводы серьезно не воспринимаются оппонентами, а сам он, как историк, обвиняется в неосновательности. Что ж, может быть, больше доверия вызовет мнение, раздающееся в противоположном по духу и по отношению к русской истории лагере? Чтобы покончить с волнующим многих вопросом о взаимоотношениях Григория Распутина с женщинами, приведем мнение тех, кого слишком остро интересует этот вопрос сегодня. Главным экспертом здесь выступает писатель Эдвард Радзинский. Не будем подробно разбирать его творчество. В Промысле Божьем и ему отведено определенное место в раскрытии правды. Укажем лишь на те выводы, которые сделаны на страницах газеты «Совершенно секретно» после прочтения книги Радзинского о Распутине. Считается, что эта книга написана на основе материалов «секретного архива Чрезвычайной Следственной Комиссии». Известно, что этот архив, который помимо следственных документов включает лжедневник, приписываемый Распутину, был вручен именитому писателю дирижером Ростроповичем. Ростропович же приобрел эти материалы на аукционе Сотбис.
Газета вынуждена констатировать, что материалы Следственной Комиссии, приведённые в книге Радзинского, не дают никаких оснований для обвинения Григория Распутина в развратной жизни. Ни одна из женщин, допрошенных комиссией, не призналась в связи с Распутиным. «Сексуальную близость категорически отрицали: певица Вера Варварова, «кокотка» Шейла Лунц, «проститутка» Трегубова, вдова казачьего есаула Воскобойникова. Более того, для Трегубовой было неприятной неожиданностью узнать от следователя, что она – женщина легкого поведения. Сексуальную связь со старцем отрицали и Лохтина, Головина, Ден, Вырубова… К слову, и другие женщины, близко знавшие старца – писательницы Жуковская и Джанумова, певица Белинг, княгини Шаховская, Сана и Долгорукова, – также отрицали близкие с ним отношения». Газета констатирует, что в секретном досье Распутина Радзинскому удалось разыскать только два документальных свидетельства, бросающих тень на Григория Распутина. Не будем копаться в приводимом газетой доказательстве того, что одно из них липа. Остановимся на втором, поскольку оно широко используется противниками Распутина в качестве доказательства его недостойного поведения.
Речь идет о случае с Марией Вишняковой – няней Царских Детей. «В пик антираспутинской кампании в Петербурге ходили слухи, что старец её изнасиловал. Их источником была фрейлина Тютчева, которой Вишнякова поведала о своем горе. Событие это, по её словам, произошло весной 1910 года, когда она по совету Императрицы гостила у Распутина на его родине в селе Покровском.
В 1917 году перед комиссией она показала: «Несколько дней Распутин вёл себя прилично по отношению ко мне. А затем как-то ночью Распутин явился ко мне, стал меня целовать и, доведя до истерики, лишил меня девственности… Более ничего показать не могу. Прошу прекратить допрос, так как не в силах рассказывать больше о своём несчастии и считаю себя вправе уклониться от разъяснения подробностей!»».
Но, как выясняется, в этой душещипательной истории больше вымысла, чем правды. По свидетельству великой княгини Ольги Александровны, когда слухи об изнасиловании дошли до Царя, он незамедлительно назначил расследование. Однако вскоре оно было прекращено, так как «Мэри поймали с казаком императорской гвардии в постели». Если бы расследование подтвердило факт изнасилования, вряд ли Николай II разрешил Григорию Ефимовичу оставаться близким другом своей семьи.
К слову, Радзинский в своей книге высказывает предположение, почему Мария Вишнякова подняла скандал. По его мнению, старец отдалил её от себя, и оскорблённая нянька объявила, что он её изнасиловал»62.
Изложенные подробности, а также то, что было сказано относительно поведения Григория Распутина в ресторане «Яр», помогают понять всю мелочную подоплеку отношений, сложившихся вокруг имени Распутина, пустоту тех претензий, которые высказывались в адрес Царя и Царицы по его поводу, а также человеческая низость тех, кто сочинял и передавал гнусные сплетни. Можно ли понять и оправдать тех, кто выражал своё недовольство и предъявлял претензии Венценосцам в момент крайнего напряжения сил и воли – и их собственных, и всей России – перед лицом тяжких испытаний жестокой войной?
Недоброжелательство к Её Величеству в Москве было связано, главным образом, с деятельностью бывшей фрейлины Тютчевой, некогда уволенной Государыней и освобождённой от должности воспитательницы Великих княжон за недопустимое поведение в отношение Царицы и распространение грязных сплетен. Тютчева нашла себе место в окружении Великой княгини Елизаветы Феодоровны. Во многом благодаря её деятельности формировалось отношение к Григорию Распутину и Анне Вырубовой со стороны московского общества. Именно на эти настроения ориентировался Джунковский, строя свою политику относительно Распутина и Вырубовой. Такая позиция Джунковского усугубляла недовольство им со стороны Императрицы. Благодаря ему приезд Государыни в Москву в декабре 1916 года прошел незаметно, что лишний раз причинило боль Государыне, которая прекрасно поняла проступившее в этом эпизоде холодное отношение к ней. Об этом подробно рассказано в воспоминаниях Анны Александровны.
Генерал Спиридович с горечью вынужден был констатировать, что «центром всего этого недоброжелательства в связях с Распутиным было ближайшее окружение Великой княгини Елизаветы Феодоровны во главе с упоминавшейся уже Тютчевой», и это несмотря на то, что «Распутин никакого участия в поездках Государя не принимал и отношения к ним не имел, но «московские кумушки» очень им интересовались и соответствующим образом настраивали Великую княгиню Елизавету Феодоровну».
После увольнения Джунковского появились статьи о Распутине в газете «Биржевые ведомости» и в «Вечернем времени», которую редактировал Борис Суворин. Если в первой из них, как отмечает Спиридович, «была вполне приличная биография, то во второй, считавшейся по имени Суворина правой и националистической, была сплошная клевета и клевета.
Этому не удивлялись, потому что Борис Суворин дружил с Гучковым. О Распутине говорили, что он якобы агитирует за сепаратный мир, пользуется покровительством немецкой партии, что за ним числится несколько судебных дел, прекращенных Щегловитовым. Всё это было неправдой, но общество всему верило, полагая, что за всем этим стоит Императрица. Считавшийся патриотом Борис Суворин вёл тогда самую преступную антипатриотическую деятельность»63.
Позиция Суворина, как представителя «патриотической» печати, трудно поддается осмыслению. Как же так? Человек, мнивший себя патриотом, желавший блага отечеству, занимался враньем, оскорблял своего Царя и свою Царицу, сознательно желал им зла… Поневоле возникает объяснение, которое единственно здесь приемлемо, а именно то, что в отношении Распутина срабатывала уже опробованная схема действий. Источником клеветы был Гучков и круг его единомышленников, которые ненавидели Царя, Царскую Россию. Гучков был безусловный и законченный подлец. Предложенная им информация сначала осторожно, как жареный факт, была опробована в прессе в виде сообщения. Клюнувшую на наживку публику какое-то время выдерживали в недоумении, давая время для разрастания нездорового любопытства, ждали, пока созреет общественное мнение, а затем шокировали публику такими невероятными подробностями, что одурманенная откровенным бесстыдством лгунов публика просто захлебывалась от восторга, жадно смакуя каждую мелкую подробность наглой лжи, добавляя красок своим богатым воображением. Таким образом был погублен потомственный дворянин полковник Мясоедов. Таким же образом нанесли удар генералу Сухомлинову, верному Царскому слуге, таким же образом создали клевету о прогерманском заговоре в стенах Царского Дворца, таким же образом посмели обвинить в этом заговоре и Императрицу. Таким же образом оклеветали Анну Александровну Вырубову.
Таким же образом расправились и с Григорием Ефимовичем Распутиным, создав в обществе истерию вокруг его имени, сделав из его жизни мишень для плевков и ударов, а его искреннюю любовь к Царю и Царской Семье осмеяв, его добрые чувства и намерения поругав, его память осквернив, а его самого зверски убив. Но кто поддерживал и раздувал эту клевету? Разве не Великий князь Николай Николаевич? Разве не прочие члены Императорской фамилии и завсегдатаи великокняжеских салонов? Разве не московское общество? Разве не их честолюбивые амбиции подогревали ситуацию и как нельзя лучше содействовали революционным планам?
К сожалению, и сам генерал Спиридович, при всём к нему искреннем и глубоком уважении, хотя и ругает Распутина, но не приводит ни одного факта лично им проверенного, а значит достоверного, но почему-то, и он верит, пусть и не всем, пусть некоторым, но всё же верит небылицам о Распутине.
На этом закончим наш краткий обзор.
В заключение позволим себе лишь высказать мысль, что единственным оправданием всех вольных или невольных клеветников, всех тех, кто участвовал в травле Царской Семьи, может служить то, что в решающей атаке на Русский Престол были задействованы громадные силы, питаемые сатанинской злобой. Сам дьявол – клеветник и человекоубийца искони, во главе полчища своих слуг восстал на Помазанника Божьего, открыто объявив ему войну. Духовное воздействие было столь сильным, что даже такие столпы духа, как будущая преподобномученица Елизавета Феодоровна и её духовник отец Митрофан Серебрянский стали пленниками досадных заблуждений. Но за грехи наши Господь попустил всему этому произойти.
Тем отчётливее и ярче на фоне всеобщего помешательства и предательства проступает подвиг бескорыстного служения своим Венценосцам Анны Александровны Танеевой (Вырубовой), безраздельной к Ним преданности и любви с её стороны. В тяжелейший и напряженнейший момент русской истории это было бы невозможным, не будь внутреннего, духовного единства между этими людьми. Это единство определяло полное доверие, отсутствие каких бы то ни было сомнений в правоте монарших решений и деяний. Со стороны Анны Вырубовой такое отношение к Царю и Царице было окрашено глубоким религиозным чувством благоговения перед Царской волей Помазанника Божьего и его Августейшей Супруги.
Глава 6. Возмущение русских людей
К счастью, Анна Александровна была не одинока в своём отношении к Царской Семье и ко всему происходящему вокруг Царского Трона. Не все русские люди оказались в плену лживых миражей, страшных по своей циничности, подлости и беспощадности к жертвам. Все происходящее не могло не возмутить тех, кто не поддался подлым наветам, сохранил трезвость ощущений и реальное восприятие действительности. Таковых, к чести русского народа, оказалось немало – верных своей присяге и своему долгу, преданных Государю не на словах, а на деле.
Вот письма одного из них – столоначальника управления Д. Измайлова, человека, по-видимому, не высокого чина и происхождения, но искреннего и верного царского слуги, благородство которого проявилось не в титульном величании, а в великодушном, самоотверженном поступке. Будучи не в состоянии на своем уровне прекратить возмутительную клевету на Анну Александровну, он решается обратиться к ней самой и к ее отцу, обращая их внимание на происходящее безобразие, при этом наивно полагая, что их влияние при Дворе способно положить всему этому конец. Первое письмо адресовано отцу Анны Вырубовой А. С. Танееву, второе – ей самой.
Письмо первое:
«Многоуважаемый Александр Сергеевич, примите меры против того, чтобы не порочили доброе имя Вашей дочери г-жи Вырубовой. Среди военных в Петрограде про Вашу дочь и про Распутина и даже про государыню Александру Феодоровну распускает самые гнусные сплетни генерал Иосиф Карлович Гаусман. Этот генерал занимает довольно большой пост в военных сферах. Он – начальник Главного Управления по Квартирному Довольствию войск и очень любим Государем за свою энергию. Он вдовец, человек очень развратный и смакует все сплетни про Распутина с особым удовольствием. Но в этих сплетнях замешаны очень важные лица и Вам близкие.
И распускает их паршивый немец Иосиф Карлович Гаусман.
Д. Измайлов,
Столоначальник Управления»64.
Письмо второе:
«Анна Александровна, про Вас в Петрограде распускают всякую грязь и про Распутина тоже. И это распускается главным образом среди военных генералом Иосифом Карловичем Гаусманом, начальником Гл. Управления по Квартирному Довольствию войск. Этот генерал – любя Государя – ненавидит Государыню и клянется спустить Распутина, в котором он видит главное зло и иначе как проходимцем и другом сердца Государыни не называет. Распускает этот генерал слухи про Государыню и о том, что она находится в близких отношениях с Саблиным Николаем Павловичем и что он – Саблин общий любовник с Вами»65.
Бедный Д. Измайлов не понимал, что ни Анна Вырубова, ни её отец, ни даже Государь не могли остановить эту вакханалию. Слишком большой размах приняло все это, слишком многие слои петербургского света были поражены этой эпидемией, слишком много высокопоставленных лиц, включая завсегдатаев великокняжеских салонов, оказались втянутыми в эту кампанию. Если Александру Пушкину пришлось, отстаивая честь жены, стреляться с одним Дантесом, чужеземцем, то Государю, избери он этот путь, пришлось бы вызывать на дуэль, наверное, половину своих добрых знакомых и даже друзей и родственников. А ведь он был Государь, их Державный Отец и Господин, а они – верноподданные слуги его, его надежная опора, лучшая часть его народа…
Такое впечатление, что Царь Николай II намеренно не хотел замечать всего, вернее сказать – был выше всего этого в силу своей благородной, истинно христианской натуры. Как тут не вспомнить евангельское слово: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает…» (1 Кор. 13: 4 – 8). Он верил в людей, верил в их преданность и искренность и не верил гнусным сплетням. Он готов был открыто и доброжелательно отнестись к каждому, с каждым сотрудничать, искренне считая, что всеми движут самые лучшие побуждения в интересах России, в интересах его народа. Он готов был простить каждому ошибки, лишь бы это было искреннее заблуждение, а не коварство, не подлость, не предательство, не измена. Мог ли он допустить, что именно это последнее уже произошло, что измена проникла и в великокняжескую среду, т.е. в среду его родственников, которых он так любил и уважал, и в среду так обожаемой им армии, ее доблестного генералитета, которому он, безусловно, доверял. Наверное, это выше сил смертного человека, пусть даже и Помазанника Божьего…
Предвижу возражения и упреки в адрес Государя, что, мол, Он не имел права на личные переживания, когда речь шла о благополучии государства. Государь должен был решительно покарать измену, с корнем вырвать крамолу, в каких бы сословиях она ни пустила свои ядовитые ростки. Допустим, что так. Вспомним его великого пращура – Грозного Царя Иоанна, который вырвал крамолу, не считаясь ни с родом, ни со званием. Но вспомним и то, при каких обстоятельствах это случилось и чего ему это стоило.
Прежде всего, Царь Иоанн Васильевич Грозный был в высшей степени Царь милостивый, и, обнаружив измену на смертном одре, он, неожиданно для всех поправившись, не стал мстить изменникам ни словом, ни делом, но великодушно простил всем и более не помнил зла, ничем не проявил злопамятства. Когда же воровство усилилось настолько, что сносить его безнаказанно, не ставя под угрозу интересы вверенного ему Богом Русского Государства, стало невозможно, Царь Иоанн понял, что он единственно может совершить. Но решиться сразу на этот шаг Он не мог. В скорби и душевном смятении Царь покидает столицу, чувствуя невозможность управлять царством по-прежнему. По существу, это было если не отречение, то уход от дел, оставление царства, страшное, переломное для него и для всего Русского государства событие. Что же произошло за тем? Народ ужаснулся и вскоре ринулся во след Царя бить ему челом, плакать и молить о возвращении в Москву на царский трон. В этом порыве народ был един: и духовенство, и сановники, и простой народ. «Отправились… за духовенством вельможи… все бояре, окольничие, дворяне и приказные люди… также и многие гости, купцы, мещане, …чтобы ударить челом Государю и плакатися», – так в соответствии с летописями описывает это трагическое событие Н. М. Карамзин.66 Что же Царь? Он возвращается на царство, избрав единственно спасительный путь – решительного искоренения крамолы. Иоанн Грозный исполнил именно то, что требовали от Николая II его современники. Но исполнил не иначе как в согласии с волей народа, по его горячей мольбе. В данном случае это была воля православного русского народа, а не разнузданной и опьяненной ложно понимаемой свободой толпы, не распустившейся от безнаказанности черни. Выбор русских людей в данном случае не противоречил Божественным установлениям.
Кто-то скажет, что со стороны Царя Иоанна это была игра, ловко рассчитанный политический приём, вроде как Царь-батюшка покуражился и успокоился, потешил себя, поглумился над народом и всё. Однако хорош кураж, если вспомнить те страшные перемены, которые вдруг произошли в облике Царя, открывая всем, какие переживания претерпел Царь Иоанн, прежде чем сделал свой выбор. Он вынужденно пошёл на это, и только потому, что народ его просил, и народ проявил готовность подчиниться царской воле. Вот чего стоил ему этот выбор! Вновь обратимся к Карамзину: «Вид его изумил всех… Он был велик ростом, строен; имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: …все черты исказились, взор угас; а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса…»67.
По навету вражьему образ Царя Иоанна в истории был искажён, деяния извращены, а неправда эта закреплена в исторических трудах и вошла в учебники как непререкаемая истина. Многие из потомков до сих пор не могут простить Царю Иоанну его мнимую жестокость, которую ему приписали враги в ответ на вынужденную его суровость и строгость. Вот что стоило Царю Иоанну решительное искоренение крамолы на Руси и чего по существу требовали от Царя Николая.
Но Иоанн Грозный боролся с крамольниками и ворами – такими, как князь Андрей Курбский, – но не с народом, который в то время не мыслил своего бытия без Царя. Николаю II пришлось бы развернуть репрессии против своего народа, который требовал от него свобод, конституционных перемен, ограничения Самодержавия и т.д. На это Русский Самодержец пойти не смог и в этом он не нарушил Правды Божией, но, напротив, исполнил Божью волю. В схожей ситуации Царь Николай II не сделал такого же выбора только потому, что народ не стоял горой за своего Царя, в лучшем случае был равнодушен и безразличен к его судьбе и судьбе Самодержавия. Тем самым Николай II, как Помазанник Божий, как Русский Самодержец, был предан своим народом. Можно предположить, что Царь, если и не осознавал до времени этого вполне, то чувствовал и тяжело переживал, видя нежелание народа подчиняться его царской воле, видя в народе отступление от исконных идеалов Святой Руси. А 2-го марта во Пскове, находясь в окружении своих боевых генералов, которые заставляли его отречься, он это отчётливо понял: «Кругом измена, и трусость, и обман!». Дальнейшее упорство стало бессмысленным, и, не желая напрасно проливать русской крови, Русский Царь смирился.
Но вернёмся к Анне Танеевой. Приведём ещё одно свидетельство – горячее, возмущенное письмо, обращённое к ней. Автор письма, к сожалению, неизвестен. Судя по стилю и характеру письма, можно предположить, что это был будущий священномученик протоиерей Иоанн Восторгов, тем более, что среди других документов в архиве Анны Александровны есть и письмо за его подписью, откуда следует, что между ними поддерживалась постоянная переписка. Но это только наше предположение.
В этом письме содержится точная, трезвая оценка происходящего и вскрыта неблаговидная роль целого ряда общественных деятелей. И хотя автор письма ошибся в оценке Алексея Николаевича Хвостова, как это показали дальнейшие события, связанные с деятельностью Хвостова на посту министра внутренних дел, тем не менее, письмо настолько точно и полно отражает специфику момента, так глубоко вскрывает причины и механизмы происходящих событий, что достойно всякого удивления. Существо дела раскрыто столь ясно, образно и сжато, что комментарии, как говорится, излишни.
Что же касается характеристики Хвостова, то она касалась скорее вообще типа государственных деятелей, в которых так остро нуждался Государь и которых, увы, не оказалось рядом с ним в самый решающий момент его царствования. Хвостов же, внешне производя благоприятное впечатление, внутри не соответствовал изображенному в письме идеалу, но оказался на поверку фальшивым интриганом. Это было искреннее заблуждение автора письма, который тем не менее верно, с болью и сильным чувством отразил чаяния русского человека в тот момент, а также существо происходящего в России накануне февральского переворота. А потому это письмо является очень важным свидетельством, заслуживает самого пристального внимания и тщательного изучения. Вот оно (текст письма отпечатан на машинке):
«Глубокоуважаемая Анна Александровна.
Я чуть не умер от разрыва сердца, прочитав полученный от нашего дорогого владыки Варнавы прилагаемый при сем духовный журнал «Отклики жизни «. Боже мой, какие патентованные мерзавцы господа Самарин и Щербатов. Дальше этого идти некуда. Я позволил себе подчеркнуть Вам все вопиюшие грязные подлости поганого попа Востокова, законоучителя дома Самариных, которого мало вверх ногами повесить [Да простит благочестивый читатель резкость выражений, допущенных автором письма относительно священника Востокова. Несомненно, что возмущение касалось самой личности этого человека, а не его священнического сана, который он не мог носить достойно, занимаясь таким грязным делом, как клевета на Помазанников Божиих, на их верных слуг и молитвенников. Письмо пронизано ревностью о Святой Церкви, которую дискредитировали эти недостойные люди, и о Святой Руси, в самое сердце которой наносился ими смертельный удар. Считая, что слово «поганый» не должно сочетаться со словом «поп», тем не менее простим великодушно автору письма допущенную в праведном негодовании некорректность]. Он, как Вы изволите усмотреть из подчеркнутых мест, говорит о развале Церкви, а между тем своими заведомо ложными, митинговыми статьями расшатывает все основы Церкви и христианской этики. То, что проповедают разные жидки в своих газетах «Дне», «Биржевке» и других, все это бледнеет пред писаниями этого служителя нашей Церкви. Не подлежит никакому сомнению, что без поддержки Самарина и его компании, этот зарвавшийся поп не посмел бы писать такие мерзости. Они сами не верят в то, что приписывают Распутину и Варнаве, но посредством нападок на них, они стремятся поколебать Престол, авторитет власти и посеять в стране смуту. Это последнее обстоятельство заставляет именно обратить серьезное внимание на всех этих зловредных лиц. Особенно возмутительно прошение Министру Внутренних Дел князю Щербатову на странице 139, поданное ему священником Востоковым и его прихожанами 2 сего сентября. В нем говорится, что Григорий Ефимович «явно сочувствует преступной немецкой партии и что он более вредный, чем сотни самых отчаянных агитаторов революции».
Как изволите видеть, простой, бесхитростный русский сибиряк, беззаветно преданный нашей ЦАРСТВЕННОЙ Семье, является для этих господ более опасным и вредным, чем сотни самых отчаянных агитаторов революции. Это ясно показывает, куда метят поп Востоков и его вдохновители Самарин, Джунковский, Гучков и другие. И как эти клеветники хорошо знают, чем можно возмутить народ.
Заслуживает также внимания на стр. 143 телеграмма на имя Великого князя Николая Николаевича, в последних строках которой говорится: «Суд Божий да постигнет жестоких врагов и всех злых и развратных предателей нашего Отечества», а также ответ Великого князя на эту не лишенную скрытой злости телеграмму. Если сопоставить эти последние слова со всеми предыдущими суждениями попа Востокова, то станет ясно, что «злые и развратные предатели нашего Отечества» – это Распутин и Варнава.
Как же бороться со всем этим? Здесь не помогут никакие Стремуховы, ни Волжины, ни Любимовы, ни вообще все кандидаты слишком порядочнаго, но устаревшаго, к сожалению, Ивана Логгиновича [Горемыкина]. Здесь нужны люди, полные энергии и жизни, и вместе с тем люди, беззаветно преданные нашему ГОСУДАРЮ и нашему государственному строю.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР отлично знает и понимает нужды народа, ОН стоял близко к нему во время пребывания в Преображенском и Гусарском полках, ОН входил в близкое общение с ним в дни СВОИХ поездок по России, ОН стоит теперь лицом к лицу с народом, ведя его на защиту Родины. И кому же знать лучше желания нашей крестьянской Руси как не ЦАРЮ-БАТЮШКЕ. ГОСУДАРЮ нужны также помощники-министры, которые вели бы Россию в согласии с этими народными желаниями, а не в угоду разным политическим авантюристам и реформаторам.
Среди таких всецело понимающих народные желания лиц в настоящее время рельефно выделяется личность Алексея Николаевича Хвостова, крепкого русского человека, опытного государственного деятеля, энергичного и ловкого политика. Это единственный, быть может, в настоящее время человек, который сумеет заговорить к народу, который успокоит разбушевавшиеся страсти и который разорвет те плотины, которые не дают прорваться потоку народной любви к своему ГОСУДАРЮ-Защитнику Родины.
Все же Стремуховы, Волжины, Любимовы, Крыжановские и Нейгарты могут управиться в известных лишь областях, но не в такой грандиозной, как Министерство Внутренних Дел. Через две-три недели они очутятся в таком положении, что не то что России, но и самих себя не смогут спасти. На министра Внутренних Дел в настоящее время обращены не только тысячи глаз, но и тысячи умов. Его ум должен уметь реагировать на эти умы толпы. Речь А.Н. Хвостова, произнесенная им недавно в Государственной думе, пронеслась доброй вестью по всей России. С какой же силой пронесутся его речи, когда он будет произносить их в качестве ближайшего слуги нашего ЦАРЯ. Народ больше всего пленяют такие политические деятели, которым присуще живое слово, энергия и ум, а на таких ЦАРСКИХ слуг теперь страдная пора.
Очень прошу Вас, Глубокоуважаемая Анна Александровна, представить прилагаемый журнал ИХ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВАМ»68.
События, которые произошли в высших эшелонах власти в конце лета 1915 года, заставляют, к сожалению, предположить и иной возможный источник происхождения этого документа. Дело в том, что ситуацией, созданной оппозиционными к правительству кругами общественности и прежде всего оппозиционно настроенной Думой, ловко воспользовались люди, действиями которых двигало непомерное честолюбие, гордая самоуверенность и болезненная потребность властвовать. Речь идет о князе Андронникове, министре Внутренних Дел Алексее Николаевиче Хвостове. С некоторыми оговорками это определение можно отнести и к товарищу министра – Степану Белецкому.
Первого из этих людей – князя Андронникова, умного, образованного, по-светски утонченно воспитанного человека, вполне можно отнести к разряду политических авантюристов и проходимцев. Возможно, он был бы гениальным актером, если бы не стал непревзойденный лицедеем в политике, своего рода гением по части политических интриг. Для достижения своих целей он в совершенстве овладел искусством притворства, перевоплощений и обмана, умел войти в доверие и очаровать свою жертву. По поводу того, для чего он это делал и кому служил, недоумевает даже генерал Спиридович.
Алексей Хвостов начал свою политическую карьеру вполне достойно, зарекомендовав себя на посту Нижегородского губернатора человеком деятельным, умным и решительным, настроенным в духе преданности Царю и Самодержавному началу. Он был рекомендован Петром Аркадьевичем Столыпиным на пост министра Внутренних Дел. Но впоследствии ему не хватило нравственной чистоплотности, и, достигнув высот власти, он оказался в плену честолюбивых амбиций, был буквально одержим манией величия, перестал контролировать свои действия, что и погубило его как политика.
Степан Белецкий, жандармский офицер, был начальником департамента полиции, до того, как его на этом посту сменил генерал Джунковский. Человек в общем-то неплохой, верующий, честно и добросовестно исполнявший свой долг. Но проявив беспринципность, слабохарактерность, попал под влияние князя Андронникова и Алексея Хвостова. В результате оказался замешан вместе с ними в постыдных для царского офицера делах, где политическая авантюра тесно переплелась с уголовщиной. Он скорее вызывает сочувствие, т.к. оказался жертвой в чужой, грязной игре.
Появление таких деятелей, как Хвостов, Андронников и проч., стало возможным только благодаря тому, что истинные политики, т.е. те, кто должен был добросовестно исполнять свой долг в интересах Государства Российского, к сожалению, не делали этого или делали двулично, работали Государю спустя рукава. Достаточно вспомнить, например, то, что министры в угоду Государственной Думе и прогрессивной «общественности» добивались отстранения от должности премьера Ивана Логгиновича Горемыкина, хотя и преклонного годами, но верного и преданного Царю государственного чиновника, отстаивающего незыблемость самодержавного принципа правления как единственно возможного для России. Это был исключительно благородный, честный, мудрый и опытный человек, твердый в своих монархических убеждениях. Именно это и не нравилось его противникам, которые были объединены в союзах земств, городов, в прогрессивном блоке Думы, в Военно-Промышленном комитете.
Их стараниями, особенно стараниями Гучкова и сторонников Великого князя Николая Николаевича, удалось сместить с должности Военного министра генерала Сухомлинова, преданного Государю и блестяще проведшего мобилизацию 1914 года. В отстранении генерала Сухомлинова немалую роль сыграли интриги его недруга – князя Андронникова, который не скрывал своего удовольствия, приписывая эту «заслугу» перед Отечеством исключительно себе.
В связи с деятельностью Андронникова, Хвостова, Белецкого все-таки требует уточнения вопрос о том, каковы были их истинные мотивы, были ли они вполне самостоятельны или действовали в соответствии с чьим-либо планом? Этот вопрос остается открытым. Ясно только одно, что благодаря их деятельности удалось создать ту ситуацию, когда была реально, осязательно создана мишень для общего удара всех сил, направленных против Царя и Царской самодержавной власти. Этой мишенью оказался Григорий Распутин. Всю ситуацию, сложившуюся вокруг его имени в связи с деятельностью министра Хвостова и его товарищей, генерал Спиридович называет «распутинщиной». Но, вникая в подробности событий тех дней, становится ясным, что Григорий Распутин здесь совершенно не при чем, что его роль оказалась такой же, как роль незаслуженно обвиненных премьер-министра Горемыкина и Военного министра Сухомлинова. Из фактов, приводимых Спиридовичем, совершенно ясно, что истинное определение той ситуации носит название не «распутинщина», а «хвостовщина». Поскольку эта история напрямую затрагивает не только Григория Распутина, но и Анну Вырубову, коротко изложим, в чем её суть.
В число недругов князя Андронникова, к своему несчастью, попал и министр Внутренних Дел – князь Щербатов, который, будучи ставленником Великого князя Николая Николаевича, а также в силу занимаемой им крайне негативной позиции по отношению к Распутину, не пользовался расположением Их Величеств. На его место Андронников метил Алексея Николаевича Хвостова, с которым он нашёл общий язык. В свои компаньоны они приняли бывшего директора департамента полиции С. Белецкого, который должен был стать товарищем министра при Хвостове.
Князь Андронников очень искусно начал вести свою интригу, исключительно ловко, со змеиной проворностью вошёл в доверие к Анне Александровне Вырубовой, сыграв на переживаниях и её, и Царицы за жизнь Г. Е. Распутина, на которого, как известно, было совершено покушение в селе Покровском. Андронников притворился сторонником и почитателем Распутина, что для бедной Государыни, нравственно и физически измученной от переживаний за больного сына и за человека, его исцелявшего, оказалось достаточным, чтобы поверить Андронникову. Кроме того, и он, и Хвостов выставляли себя бескомпромиссными поборниками самодержавия и патриотами своего Отечества. Этого оказалось достаточным, чтобы кандидатура Хвостова была рекомендована Государю и утверждена им на пост министра Внутренних Дел.
Со стороны Государыни такая поспешность была продиктована следующими обстоятельствами. После возложения на себя Государем Николаем II должности Верховного Главнокомандующего события на фронте стали разворачиваться вполне успешно для русской армии. Государь был всецело занят заботами об армии, все остальное он отодвинул на задний план, считая, что решение внутренних вопросов следует отложить до окончательной победы над врагом. В момент длительного отсутствия Государя на несчастную Императрицу обрушился поток всего того, что было вызвано нежеланием общества честно и бескомпромиссно служить своему Государю: недовольство, сплетни, клевета, интриги. Государыня видела, что центром всего недовольства являлась именно она. В травле Императрицы принимали участие все: общественность, пресса, родственники. Нервы были на пределе. Все претензии были связаны с именем Распутина – с единственным человеком, который был способен вылечить ее дорогого сына. Присутствие Распутина рядом с Царским Селом было необходимым и успокаивало ее в постоянной тревоге за Алексея. Пока Распутин рядом – с сыном ничего не случится…
Но самого Григория Ефимовича постоянно травили, пытались его спаивать, компрометировать, как это было в злополучном ресторане «Яр». Договорились уже до того, что ко всему прочему прибавили страшное обвинение в шпионаже в пользу Германии. Якобы к этому были причастны Распутин, Вырубова и сама Государыня. Генерал Спиридович решительно опровергает все эти вымыслы. Что могло быть более подлым и оскорбительным для Их Величеств? После покушения на Григория Ефимовича летом 1914 года тревога за его жизнь не оставляла Императрицу. Однако министр Внутренних Дел Маклаков вместе с товарищем министра генералом Джунковским не обеспечивали должной охраны Григория Распутина. Более того, действия Джунковского только усугубляли ситуацию вместо того, чтобы ее разрядить.
Все это побудило Императрицу прислушаться к тем сведениям, которые исходили от князя Андронникова и передавались, как считает Спиридович, через Анну Вырубову, с которой Андронникову удалось установить дружеские отношения. Действительно, предложения Андронникова казались наиболее приемлемыми. Ведь Хвостов – патриот, преданный Их Величествам человек, чему свидетельством была его независимая, правая позиция в Думе, его яркая, сильная речь. Вспомнилась и рекомендация Столыпина. Ко всему прочему Хвостов уважает и ценит Григория Ефимовича, готов его защищать и ограждать от всех внешних влияний, пагубно сказывающихся на его репутации. Можно ли было предположить, какое превращение произойдет с Хвостовым? После увольнения Хвостова Государыня, переживая свою вину, писала мужу, что в Хвостова вселился дьявол.
Хвостов с Андронниковым хотели осуществлять свою деятельность и влияние на Императрицу через Распутина, считая его просто хитрым мужиком-шарлатаном. Охрану Распутина обеспечивал Белецкий через жандармского агента – полковника Комиссарова. Но вскоре выяснилось, что Григорий Ефимович не так прост, он вовсе не тот, за кого его принимали, и никак не желал быть орудием в их руках. Он был вполне независим, поступал и действовал так, как сам считал нужным, и спутывал все карты Хвостова. Сообщники решили, что поскольку цель достигнута и Хвостов у власти – он им больше не нужен. Распутин теперь только мешал, на его имени сыграли – и достаточно. Появляется мысль совсем избавиться от Распутина. Для этого подговаривают тюменского игумена Мартимиана, чтобы отправить его вместе с Распутиным в паломничество по Сибири с целью напоить и сбросить с поезда. Григория Ефимовича шантажировали сфабрикованными на него делами. Однако он отказался идти на поводу Хвостова и никуда не поехал. Преступная затея не удалась.
Тем временем Хвостов в своих честолюбивых планах видел себя уже на посту премьер-министра правительства вместо Горемыкина и вновь понадеялся, что ему в этом поможет Распутин. Но Государь назначил Штюрмера. Хвостов решил, что его обошли, и приписал все проискам Распутина. Жажда мести обуяла Хвостова, который, бравируя, часто называл себя «человеком без тормозов». Решение об убийстве Распутина созрело окончательно. К делу были подключены Белецкий с Комиссаровым. Но Белецкий был человеком богобоязненным. Вместе с Комиссаровым они решают воспрепятствовать планам Хвостова. Хвостов же пытается установить связь с расстригой Труфановым, чтобы впутать и его в это дело, и посылает некоего журналиста Бориса Ржевского в Христианию (Норвегия), где проживал Труфанов со своей подругой. На границе люди Белецкого перехватили Ржевского, ехавшего по поддельному паспорту, вынудили у него признание, а также изъяли письмо Хвостова к Труфанову, раскрывающее преступные планы. Ржевский был сослан. Хвостов попытался обвинить во всем Белецкого. Вся история просочилась в прессу. Разразился скандал: ведь назначенный по рекомендации Государыни министр Внутренних Дел, который должен был осуществлять внутреннюю охрану Государства Российского от всех воров, сам оказался преступником. Государь и Государыня были крайне возмущены и расстроены всем случившимся. Хвостов был снят. Его место долгое время пустовало. Кто же мог после всего случившегося оправдать высочайшее доверие Государя, кому верить? Государь не видел таких людей… Перед своим уходом Хвостов хотел отомстить Белецкому, отправив его губернатором в Иркутск, но и эта затея не удалась.
Вот собственно и вся история, которая через два года окажется под пристальным вниманием членов Чрезвычайной Следственной Комиссии в связи с допросами подследственной Анны Вырубовой. Надо полагать, что следствие хотело увидеть в этой истории злоупотребление властью, а, возможно, и пыталось усмотреть в ней признаки государственной измены, т.е. сознательно производимых действий с целью причинения вреда интересам Российского Государства. Однако допросы показали, что значение Анны Александровны сводилась всего лишь к роли гостеприимной хозяйки, радушно принимавшей всех, кто желал нанести ей визит. Единственное, в чем ее при желании можно было бы упрекнуть, так это в том, что она спешила поделиться впечатлениями от гостей со своей Государыней, и пересказывала ей содержание своих бесед, впрочем, расценивая это как долг перед Ее Величеством.
Анна Александровна никаких целей не преследовала, никого к себе в гости не звала и ни с кем в сговор не вступала. Андронников и Хвостов просто обманули её, выдав себя за благородных, честных людей. Они вероломно воспользовались её простотой, радушием, гостеприимством и доверчивостью. Для неё же самой подобного рода визитеры всегда были в тягость, как она признаётся на допросах. Не было бы Вырубовой, Андронников нашёл бы другой способ навязать себя и Хвостова Государыне.
Тем не менее следствием всего этого было то, что «прогрессисты» разных мастей, от явных революционеров до либерально настроенных представителей великокняжеского сословия, получили в свои руки внешний повод для открытых нападок на царскую власть. До того времени тайные чаяния и смутные желания, которыми все они были одержимы, оставались лишь умонастроениями – не более, не имеющими никакой реальной точки приложения, никакой прочной опоры в государственной жизни. Просто сплетен о Распутине явно было недостаточно. Андронников, Хвостов, Белецкий своей неразумной, преступной деятельностью предоставили такой повод тем, кто стремился изменить государственный строй и кто воспользовался этим поводом для нанесения сокрушительного удара по Самодержавной России.
Была ли здесь вина Императрицы, Распутина, Вырубовой? Разве что в том, что в поиске выхода из того гибельного тупика, в который их упорно загоняли, они попали в новую ловушку, расставленную для них теми, кто называл себя верноподданными Русского Царя.
Известно, что князь Андронников для достижения своих целей рассылал повсюду множество писем, в том числе и Анне Александровне, в которых расхваливал кандидатуру Хвостова. Как уже было сказано, в искусстве притворяться Андронников оказался непревзойдённым гением, но гением злым. Он умел прекрасно излагать именно то, что надо было именно данному человеку и именно в данный момент. Он отлично понял, в ком нуждался Государь. В сложившейся ситуации в личность Хвостова легко было поверить, на многих он производил впечатление действительно того человека, о котором говорится в письме: именно пламенного патриота, именно преданного Государю и именно способного круто изменить дело в нужную сторону.
Все выше изложенное даёт основания предполагать, что автором приведённого письма мог быть князь Андронников. Однако ситуация была такова, что в тот момент Алексеем Николаевичем Хвостовым мог быть очарован и любой честный человек, в том числе и протоиерей Иоанн Восторгов, авторство которого мы предположили вначале.
Если же действительно это письмо принадлежит Андронникову, остаётся только с сожалением констатировать, что Андронников сыграл роль пламенного патриота и сыграл её блестяще, сказав то, что должен был думать и выразить Государю каждый из его помощников, будь то генералы, министры, князья или любой верноподданный огромной Империи. Но вся трагедия в том, что в тот момент для этих слов не нашлось никого, кроме афериста Андронникова.
Но кто бы ни был автор и каковы бы ни были его мотивы, значение сказанного в письме невозможно умалить, и оно заслуживает внимательного рассмотрения, так как в нём правильно изложено существо дела, точно указаны персонажи, тонко расставлены акценты, справедливо выражено возмущение.
Невозможно отрицать и того, что среди друзей Анны Александровны находились замечательные, честные люди, истинные патриоты, мировоззрение которых было замешано на здоровых национальных началах. И хотя это совершенно естественно, все же следует, по нашему мнению, это обстоятельство ещё раз подчеркнуть в связи с его важностью для характеристики облика самой Анны Александровны. Ведь и письмо было рассчитано лишь на то, что высказанные в нем мысли и настроения непременно найдут отклик в душе подлинно русской женщины.
В связи с этим неудивительно и, по-видимому, совсем не случайно, что среди других документов архива Анны Вырубовой оказалось письмо одного из лидеров черносотенного движения Георгия Васильевича Бутми, хотя оно и не адресовано непосредственно Анне Вырубовой. Это письмо касается ритуального убийства православного мальчика Андрюши Ющинского, совершенного весной 1911 года евреем Бейлисом. Процесс по этому делу проходил в Киеве с 25 сентября по 28 октября 1913 года. Данная тема не могла не волновать Анну Александровну, как и ее Венценосных друзей и покровителей. Письмо дает косвенные основания предполагать, что и Анна Александровна находилась в рядах Союза Русского Народа, по крайней мере, была близка к кругу его активных членов.
«Санкт-Петербург, 25 апреля 1911 г.
Александровский просп. 21.
Многоуважаемый Георгий Епифанович.
Поручение Ваше исполнил. Ни в каком случае не допускайте погрома. Не только [киевские – не очень разборчиво], но и парижские и франкфуртские руководители жидовства не пожалеют средств, чтобы вызвать хотя бы маленький погромчик и тем отвлечь внимание от несомненного факта ритуального убийства. Да и нашим покровителям жидов будет дан повод утверждать, что киевские черносотенцы сами убили мальчика, подделываясь под ритуальное убийство с единственной целью вызвать погром… – Нет, на этот раз надо, скрепя сердце, стерпеть жидовское надругательство, но иметь неусыпное наблюдение за ходом следствия, и если есть среди союзников [членов Союза Русского Народа] охотники до розыска, вести частный розыск убийц, и весь добываемый частным розыском материал направлять в Земщину [газета СРН].
Будьте здоровы.
Жму Вашу руку.
Г. Бутми»69.
Глава 7. Предупреждения Григория Ефимовича Распутина-Нового
Имена русских людей, так или иначе причастных к свержению Русского Царя, больно произносить… Ведь это наши соотечественники, родившиеся на русской земле и имеющие все основания называться русскими, которые и были таковыми, но, к сожалению, только по происхождению, а не по духу. Многие из них обладали замечательными достоинствами и могли стать гордостью России, если бы… если бы не отступили от Православия и не предали своего Царя. Подумаем, читатель, не стоят ли и наши имена в этом списке… Быть может, и мы своим равнодушием, пусть даже и молчаливым согласием с ложью, отвержением воли Божией, нежеланием, согрев сердце в горячей молитве, ревностно следовать Божиему персту, указующему, где истина, где Божия Правда о нашем святом Царе, – не предали ли и мы всем этим своего Царя? А если так, то можем ли мы называться русскими? Не уподобились ли мы жидам, распявшим своего Царя, а нашего Бога? Ведь предательство – это их отличительный признак. Но не наш! Мы русские – с нами Бог! А если с нами Бог, то с нами и Царь – Его Помазанник. Сердцем почуем эту святую правду. Сердце – вещун для русской души, оно не обманет. Да будет нам всем примером сердце простого русского мужика, сибирского крестьянина, народного праведника, Божьего странника – Григория Ефимовича Распутина-Нового.
Вот свидетельство одной мужественной русской женщины, которая, исполнившись ревности о Боге и Божией правде, не погнушалась посетить отца Григория лично, чтобы самой, а не понаслышке, не из грязных сплетен понять, кто он. Не будем воспроизводить полностью замечательный рассказ, взятый из книги Фёдора Винберга «Крестный путь». Скажем только, что пришла она в его дом 16 декабря 1916 года, накануне его убийства, настроенная самым решительным образом, желая обличить лукавого мужика и потребовать от него прекратить обманывать Царскую Семью и терроризировать Россию. ««Читали ли Вы русскую историю, любите ли Царя, как его надо любить?» – спросила женщина Григория Ефимовича. И он ей ответил: «Историю, по совести скажу, не читал – ведь я мужик простой и тёмный; читаю по складам только; а уж пишу – и сам подчас не разберу… А Царя-то, как мужик, во как люблю! Хоть, может, против Дома Царского и грешен во многом; но неволею, клянусь крестом… Чувствуется, матушка-голубушка, что конец мой близок… Убьют-то меня – убьют, а месяца так через три – рухнет и Царский Трон…». Много ещё говорила с Распутиным старая писательница, и он слушал её жадно, как бы впитывая каждое слово… Наконец она поднялась и стала прощаться… «Матушка-Барыня, голубушка Ты моя! Уж прости ты меня, мужика, что на «ты» Тебя величаю… Полюбилась Ты мне, и от сердца это говорю… Перекрести Ты меня, хорошая и добрая Ты… Эх. Как тяжело у меня на душе…». Маленькая ручка, освобожденная вновь от перчатки, осенила Распутина крестным знамением, и он услышал: «Господь с Тобой, брат во Христе… ».70
Господь со всеми братьями и сестрами во Христе, кто вслед за Григорием Распутиным так горячо и искренне, до смерти возлюбит своего Царя! Как явствует из этого рассказа, за достоверность которого ручается Федор Винберг, Григорий Ефимович предвидел свою кончину, а вслед за ней и скорое падение Царского Престола.
В своих загадочных телеграммах, которые хранятся в архиве Анны Вырубовой, Григорий Распутин пытался хоть как-то повлиять на развитие роковых событий, неумолимо влекущих Россию в бездну. Григорий Ефимович вовсе не навязывал свою волю и не пытался диктаторски вмешиваться в государственные дела, но лишь осторожно и ненавязчиво и в то же время настойчиво предлагал ключи, помогающие в иносказательной, образной форме простонародной речи раскрыть истинную подоплёку событий, помочь своим Венценосным Друзьям принять верное решение в крайне запутанных государственных делах. Вот два коротких письма, где он, судя по всему, имея в виду Хионию Гусеву, раскрывает смысл злодейского нападения на него в селе Покровском. Он просит не замыкаться на формальной стороне дела, но смотреть глубже и видеть тех, кто стоял за внешним фасадом событий, намекая на заговор и вовлеченность в него влиятельных лиц. Далее речь идет о том, что надо воспрепятствовать втягиванию России в войну, что России война не нужна и все будут только благодарны, если ее удастся избежать. Известно, что Григорий Распутин был против начала войны с Германией, предрекал неисчислимые бедствия и доводил свою позицию до Государя, полагая, что его подталкивают к этому роковому шагу его ближайшие советники и прежде всего Великий князь Николай Николаевич, образный намек на которого находим во втором письме. По нашему мнению, письма через Анну Вырубову направлялись самому Царю.
«Новый Петергоф
Вырубовой
Милый дорогой, ведь она не одна, за ней есть другия. Разсмотрись хорошенько. Один [по смыслу скорее – они] от гордости мутят. Не давай повода к распрям. Они же будут спасибо давать [т.е. говорить], что устояли [т.е. не поддались распрям]. Вся Россия за это – не плюнешь в глаза, что на мири успокоились. А для них все верти хвостом».
«Новый Петергоф
Вырубовой
Не забудьте неурожай, бедствия, везде худой признак. Не будет ли против нас природа. Не смотри на шпоры, что они побрякивают» 71 .
Косвенное подтверждение того, что телеграммы на имя Вырубовой адресованы именно Государю, находим в книге С. В. Маркова «Покинутая Царская Семья». Вот отрывок из неё, который поможет лучше раскрыть эту тему и дополнит приводимый нами материал:
«Тремя телеграммами и письмами он [Григорий Распутин] пытался воздействовать на Государя в сторону недопущения Последним войны. В бытность мою в Тюмени в 1918 году зять Распутина, Б. Н. Соловьёв, показывал мне это письмо к Государю в подлиннике, так как Государыня передала до этого Соловьёву на хранение ряд писем Распутина и другие документы.
Вот текст этого, безусловно, исторического письма. Привожу его с соблюдением орфографии:
«Милой друг есче раз скажу грозна туча нат Рассеей беда горя много темно и просвету нету. Слес то море и меры нет а крови? Что скажу Слов нету неописуемый ужас. Знаю все от Тебя войны хотят и верныя не зная что ради гибели. Тяжко Божье наказание когда ум отымет тут начало конца. Ты Царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ вот Германию победят а Рассея? Подумать так воистину не было горше страдалицы вся тонет в крови велика погибель бес конца печаль. Григорий».72
Это же письмо приводит в материалах следствия об убийстве Царской Семьи судебный следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколов – протоколы 105 и 106. Он поясняет, что этот документ был предъявлен ему в г. Париже 12 июля 1922 года князем Николаем Владимировичем Орловым и мистером Вильямом Астором Чанлером. «Представляя сии предметы, означенные лица… объяснили мне, судебному следователю, что, интересуясь делом об убийстве Царской Семьи, они через майора американского Красного Креста мистера Бекмана, находящегося в Вене в составе американского Красного Креста, вошли в сношения с проживающей в том же городе Матрёной Григорьевной Соловьевой и приобрели у неё перечисленные предметы за сто пятьдесят (150) американских долларов. При этом означенные лица объяснили, что Матрёна Григорьевна Соловьева, продавая им перечисленные предметы, сообщила, что письмо, значащееся в пункте 1-м, было написано её покойным отцом Григорием Ефимовичем Распутиным перед началом Великой европейской войны 1914 года; что это письмо хранилось Государем Императором у себя и было возвращено им её мужу Борису Николаевичу Соловьёву через камердинера Государыни Императрицы Волкова в г. Тобольске, когда там находился Соловьёв, доставивший для Семьи некоторые вещи».73
Хорошо известно, что все склоняли Государя к вступлению в войну, буквально загоняли его в угол, где единственным для него исходом, при котором сохранялись бы достоинство и честь Великой Державы Российской, было вступление в войну с Германией. Убийство сербским масоном Гавриилом Принципом австрийского Наследного принца эрцгерцога Франца-Фердинанда (15 июня 1914 г. ст. ст.), которое послужило поводом для развязывания мировой войны, произошло с разницей в две недели с покушением на жизнь Григория Ефимовича Распутина-Нового в селе Покровском, когда подосланная убийца Хиония Гусева нанесла ему страшный удар ножом в живот (29 июня 1914 г. ст. ст.). Эти два события можно рассматривать, как последовательные звенья одной цепи. Как только миновала смертельная угроза и Григорий Ефимович начал поправляться, он вновь шлёт телеграмму, умоляя Государя «не затевать войну, что с войной будет конец России и им самим и что положат до последнего человека».74
Государь чувствовал, что обречён на вступление в войну. Спираль мировых событий неумолимо раскручивалась антирусскими и антихристианскими силами на деньги еврейских банкиров по тайным планам мирового масонства помимо воли Русского Самодержца, не оставляя ему иных шансов. Уже невозможно было рассчитывать на взаимопонимание между Русским и Германским Императорами, их просто стравливали между собой. Поэтому, как пишет Анна Александровна, «телеграмма Государя раздражила, и он не обратил на нее внимания». Этот эпизод, явившийся результатом, кстати сказать, единственной настойчивой попытки Григория Ефимовича Нового повлиять на Государя в вопросе о вступлении России в войну, послужил причиной некоторого охлаждения между ними, чего так упорно добивались недруги и Царя, и России.
Насколько прав оказался Григорий Распутин, показало время. Он был не одинок в своем стремлении объяснить Государю пагубность войны. Среди подданных Государя были люди, трезво оценивавшие ситуацию и видевшие, чем грозило для России вступление в войну с Германией. Такую же позицию совершенно независимо от Григория Нового-Распутина разделял П. Н. Дурново. В 90-х годах (XIX в.) он занимал пост Директора Департамента полиции, а в правительстве Витте был назначен министром Внутренних Дел. Это был горячий и темпераментный по характеру человек, ответственно и ревностно относившийся к службе. По своим убеждениям он считался консерватором, и в то же время признавал необходимость реформ. Как свидетельствует начальник Петербургского Охранного отделения А. В. Герасимов, некоторые современники сравнивали его с Победоносцевым75.
В феврале 1914 года в качестве члена Государственного Совета статс-секретарь П.Н. Дурново представил Государю докладную записку, в которой изложил свои соображения относительно возможности и последствий войны между Россией и Германией. Выдержки из текста этой записки приведены в книге С.С. Ольденбурга «Царствование Императора Николая II». Относясь с сомнением к выгодам для России Тройственого союза (Россия, Англия, Франция), П. Н. Дурново, напротив, указывал Государю на более благоприятные стороны сближения с Германией, считая, что «борьба между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон, как сводящаяся к ослаблению монархического начала». Его выводы можно рассматривать как точное предвидение событий, вызванных вспыхнувшей войной:
«Главная тяжесть войны выпадет на нашу долю. Роль тарана, пробивающего толщу немецкой обороны, достанется нам… Война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи – будем надеяться, частичные – неизбежными окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении… При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение… Начнется с того, что все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него… В стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные авторитета в глазах населения опозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению»76.
Но как раз достижения этих целей и добивались те, кто, изощрившись в политических интригах и пользуясь слепотой и несостоятельностью многих высокопоставленных лиц Российской Империи, искусно направляли события именно по этому руслу. В этой игре Государь стал заложником чести, т.к. не мог действовать вопреки своей христианской совести. Слова «долг» и «честь» не были для него пустым звуком. Своей честью он мог не дорожить, но честь Державы Российской для него была священна. В силу этого Государь не мог нарушить обязательств перед союзниками, оставался верным слову Русского Самодержца и никого не предавал.
О предопределённости и неизбежности дальнейших событий предрек ещё преп. Серафим Саровский через своего служку Николая Александровича Мотовилова:
«Бунтовщики-то, восставшие на Государя [речь вначале идёт о Николае I] при восшествии его на престол, похвалялись, что хотя и скошена трава, да корни остались, то хотя и не по Боге они хвалились тем, а это, однако же, правда, ибо главные начальники этого злого умысла, выдавши тех, которых сами же вовлекли в злой этот умысел свой, а сами остались в стороне, и вот они-то ищут и будут искать погибели Государя и всей фамилии его царской, и неоднократно будут подыскиваться, нельзя ли как-нибудь извести их, а когда неоднократные их покушения не удадутся, то они примутся за другое – и будут стараться, чтобы если можно им будет, то бы во всех должностях государственных были все люди или согласны с ними, или по крайней мере не вредны им и будут всячески восстановлять землю Русскую противу Государя; когда же и это им не будет удаваться так, как им хотеться будет, ибо по местам ими заводимые частные возмущения будут по милости Божией скоро прекращаемы, то они дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле Русской, и в один день, в один час заранее условившись о том, поднимут во всех местах земли Русской всеобщий бунт…»77.
Вопреки предостережениям лучших русских людей сбылись худшие опасения. События неумолимо разворачивались по самому тяжелому и губительному сценарию – война, интриги, клевета, на фоне которых развертывался и вступал в окончательную фазу хорошо спланированный, широкий заговор против Помазанника Божьего. В заговор оказались вовлеченными, как уже было сказано, члены правящей династии Романовых и высшие военные круги вместе с теми представителями дворянского сословия, которые принимали участие в управлении государством через Думу и различные комитеты, общества, собрания. Деятельность заговорщиков хорошо координировалась иностранными агентами и щедро финансировалась иностранными капиталами. Все это происходило на фоне полного безумия светской толпы при крайне распущенных нравах, попрании исконных русских начал верности идеалам Православия, Самодержавия, Народности.
Глава 8. Угроза покушения. Крушение поезда.
Однако вернемся к началу 1915 года, когда раскручиваемая спираль травли Русских Самодержцев и их ближайших сподвижников заставила активных участников заговора преступить рамки клеветнических приемов и перейти к еще более злодейским методам. Болезненное ослепление толкало безумцев к крайним мерам. В адрес Анны Александровны стали поступать угрозы с обещанием физической расправы. Возможно, это уже превосходило первоначальный их замысел, но ослепленные ненавистью и маниакальным желанием нанести Русскому Царю и Царице как можно более тяжелый удар, заговорщики не останавливались ни перед чем. Угрозы были исполнены в отношении Григория Ефимовича Распутина-Нового, который в результате очередного покушения был тяжело ранен ножом в живот.
В связи с этим невольно напрашивается мысль, что не случайно произошло крушение поезда, в результате которого Анна Александровна, ехавшая в первом от паровоза вагоне, оказалась на всю жизнь калекой. Это произошло 2 января 1915 года. У Анны Александровны был поврежден позвоночник, тяжело травмированы обе ноги (одна сломана в двух местах, другая раздавлена), железной балкой перебита лицевая кость, горлом шла кровь. Она была в безнадежном состоянии, и ее оставили умирать. Четыре часа она пролежала без квалифицированной медицинской помощи в маленькой станционной сторожке, согреваемая теплом шинели (на улице был двадцатиградусный мороз) и ласковой заботой простого солдата, который все это время держал ее голову у себя на коленях и молился о ее спасении. Приходя в себя после глубоких обмороков, Анна Александровна просила Бога лишь об одном – чтобы скорее умереть. Когда ее наконец-то перевезли в Царскосельский лазарет, был вызван Григорий Ефимович, который сам, ещё не оправившись после тяжелейшего ранения (ведь у него недавно был вспорот живот, так что кишки вываливались наружу), находясь в крайне истощенном, ослабленном состоянии, по свидетельству дочери, нашёл в себе силы встать с кровати и приехать к умирающей Аннушке, чтобы исцелить ее. «Она будет жить, но калекой», – произнёс Григорий Ефимович, развернулся и, ни на кого не глядя, пошёл прочь. Но путь его был недолог, т.к., пройдя несколько шагов, он потерял сознание и рухнул на пол, как бы символизируя, что и жизненный путь его скоро оборвётся.78
За несколько месяцев до крушения поезда Анна Александровна получила письмо от отца Иоанна Восторгова, будущего священномученика, горячего, пламенного патриота и защитника коренных начал Святой Руси. Он, несомненно, принадлежал к числу близких друзей Анны Александровны и Григория Ефимовича и в письме предупреждал Анну Александровну о грозящей лично ей опасности. Письмо было написано в связи с тяжёлым ранением Григория Ефимовича Распутина-Нового, которое произошло в результате покушения, совершенного Хионией Гусевой в селе Покровском 29 июня 1914 года.
«Протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов
Июня 30 дня 1914 г.
Москва, Пятницкая ул., д. 18
Достоуважаемая Анна Александровна.
Сегодня из Петербурга получил по телефону сообщение о поранении и смерти Григория Ефимовича, вечером читаю газеты о том же, и только в полночь от Николая Ивановича узнаю текст Вашей телеграммы: «Операция удачна, температура нормальная, перевезут в Тюмень». Итак, есть надежда, что злодеяние не достигло цели.
Трудно разобраться на первых порах в мотивах и обстановке преступления. Но ясно одно: человека затравили газетами, на нервнобольных людей воздействовали зажигательными речами в Думе и статьями в прессе буквально ежедневными, подготовили убийц… Я кое-что и даже важное знаю об одном неудавшемся намерении убить Григор. Ефимовича; об этом позвольте рассказать Вам лично, если позволите, но если Бог сохранит его жизнь, надобно быть ему осторожным. И Вам лично нужно иметь осторожность; опасность ближе, чем Вы можете думать и предполагать; она – и из мести выйти может, и из нервной психопатии может родиться. Когда я Вам лично расскажу о предупрежденной попытке убийства Григория Ефимовича и от кого она шла, то Вы ясно себе представите всю обстановку.
Я молчал об этом, во-первых, чтобы не показаться спасителем – а мое слово действительно предупредило злодеяние, во-вторых, я полагал, что все прошло и окончилось, что нет системы, нет плана, что была временная и единичная вспышка. Оказывается, я ошибался. Конечно, между этою попыткою и теперешним злодеянием и нет прямой и непосредственной связи, но что вообще мысль об убийстве живет, это уже несомненно, Вот почему первым движением моего сердца было написать Вам это письмо; уверен, что сказанное мною останется между нами.
От души желаю и молю Вам мира душевного и успокоения. Я сам много времени ходил под бомбами (В Тифлисе и здесь в 1905-6 г.г.), испытал и выстрелы в упор в меня, – и знаю, как ожидания, волнения бывают мучительнее самой непосредственной опасности.
Храни Вас Бог на то дело, о котором я писал Вам, и да подаст Он Вам и терпение, и смирение, и благодушие, и ту настроенность, без которой нельзя довести добра до конца.
Вам покорный
Протоиерей Иоанн Восторгов» 79 .
С того самого времени угроза расправы, как дамоклов меч, постоянно висела над головой несчастной женщины. Железнодорожная катастрофа с последующим за ней длительным периодом медленного выздоровления не остудили пыл ее ненавистников. Их сердца не исполнились сострадания к больной, искалеченной женщине. Подлые сплетни в адрес Григория Ефимовича напрямую касались и ее, ложились тяжким обвинением на голову бедной Анны Александровны в пособничестве Распутину, в постыдной с ним связи, что оскорбляло и мучило ее как женщину. При этом неприязненное отношение к Анне Вырубовой граничило с обычной жестокостью. Григорий Распутин навещал больную Анну в госпитале. Это тут же породило новую волну грязных сплетен. «Говорили, что когда Распутин вошел к больной, она лежала голая. Это особенно передавали и комментировали дамы, называя больную «бесстыжей» и забывая о том, что та была без сознания»80.
Это тем более поразительно, что после катастрофы «широкому кругу общественности», как следует из мемуаров Спиридовича, стали известны результаты медицинского обследования Анны Александровны, в результате которых было установлено, что она девственница. Обследование было произведено лейб-хирургом Федоровым совместно с еще одним профессором. Таким образом, это обстоятельство, которое снимало с несчастной Анны Александровны все грязные обвинения в безнравственной жизни, стало известным задолго до доктора Манухина, который подверг Анну Вырубову медицинскому освидетельствованию по поручению Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства в Трубецком каземате.
Чтобы точнее представить ту обстановку, в которой жила Анна Александровна последующие месяцы после катастрофы, будет уместно привести впечатления и выводы генерала А. И. Спиридовича, полученные и сделанные им в результате разговора с членами свиты Его Величества, который произошел в вагоне царского поезда по пути его следования в Ставку 22 января 1915 года.
«Сойдясь после завтрака, начали разговаривать о Распутине и катастрофе с Вырубовой. Было интересно слышать мнение людей, вращающихся в разных кругах общества. Оказалось, всюду высказывалось одно и то же сожаление, что Вырубова выжила. С ее смертью связывали падение влияния Распутина. В этом были все убеждены. К ней все относились враждебно. Враждебно относились и все мы, ехавшие в поезде свиты, враждебно относились и лица, ехавшие с Государем. И все из-за ее близости к Распутину, из-за поддержки Распутина перед Царской семьей».
Интересно, что тут же Сприридович высказывает, хотя и в завуалированной форме, своё личное отношение к Анне Александровне: «Если бы этого не было, Вырубова была бы симпатична». Но далее следует ещё более удивительное признание: «Но, конечно, при встречах с Анной Александровной все оказывались самыми расположенными к ней людьми, готовыми на любую услугу. Такова жизнь»81.
Вот так просто генерал-майор Спиридович объясняет то, что в категориях нравственности имеет название низкого, подлого лукавства и лицемерия.
Впечатления и выводы генерал-майора Спиридовича поражают своей откровенностью, сказанной с прямотой военного человека. Но за этими словами не видно, как не имеющей никакой почвы, глубокой неприязни самого Спиридовича к Анне Вырубовой. Скорее здесь проступило то самое, поражающее своей бессмысленностью «стадное чувство» светского общества, как назвала это Анна Александровна, по отношению к намеченной этим обществом несчастной жертве. В такой атмосфере плохо скрываемой неприязни, граничащей с ненавистью, двуличия и предательских интриг, иными словами, изощренной травли невинного человека, продолжалась жизнь Анны Александровны после железнодорожной катастрофы.
Растущее чувство всеобщего раздражения не могло не найти выхода своей разрушительной энергии. Рано или поздно что-то должно было произойти. Не удовлетворившись последствиями катастрофы, недоброжелатели Анны Вырубовой продолжали вынашивать план ее физического устранения.
Поэтому неудивительно, что по прошествии года вновь была получена информация о готовящемся покушении, что заставило Анну Александровну обратиться в полицию с просьбой проверить некоторых подозрительных лиц. Приведем наиболее показательное и информативное письмо, выбранное из переписки полицейских чинов по поводу обращения в полицию А. Вырубовой после того, как ей стало известно о готовящемся на нее покушении.
Письмо Действительного Статского Советника Н. Александрова:
«Высокоуважаемый Борис Андреевич.
Смею доложить Вам, что 10 сего марта Анна Александровна Вырубова пригласила меня к себе на квартиру и сообщила, что в Царском Селе, по Малой улице, в доме 50 проживает портниха Мария Лаврентьева, которая будто бы хочет сделать покушение на её жизнь и что означенная Лаврентьева от кого-то получила на это дело 20.000 рублей, а потому Г-жа Вырубова просит, чтобы Лаврентьеву обыскали и арестовали, при чём упомянула, что эту просьбу и сообщение никому из других властей не сообщать.
Мною было предложено Г-же Вырубовой вышесказанное сообщить Г. Дворцовому Коменданту, от которого и последует распоряжение, я же доложу Вам, на что Вырубова изъявила согласие и сегодня же сообщает.
Для выяснения, действительно ли проживает по указанному адресу Лаврентьева, мною было сделано распоряжение о наведении строго негласной справки, которую при сем предоставляю.
Прошу примите уверение в совершенном почтении и преданности.
Ваш покорнейший слуга
Н. Александров.
11 марта 1916 года».
Далее приводятся две довольно обстоятельные справки, видимо, от двух сыщиков, из которых приведём лишь короткий отрывок, позволяющий представить, кто такая Мария Лаврентьева, в отношении которой у Анны Вырубовой возникли подозрения настолько основательные, что она решилась прибегнуть к помощи полиции.
Справка:
«М. М. Лаврентьева, проживая при своих родных, ранее брала работы к себе на дом из мастерской дамских нарядов Пыриной (дом № З6 по Средней улице), в последнее время Лаврентьева берёт шить бельё из склада Великой княгини Марии Павловны.
М. М. Лаврентьева поведения легкого, ведёт знакомство с молодежью без разбора.
В политическом отношении М. Лаврентьева благонадежна.
Приметы её: ниже среднего роста, плотного телосложения, тёмная шатенка, носит большую косу, лицо круглое, полное…».
Неизвестно, чем закончилось это дело. Ясно только, что изложенные сведения были представлены Дворцовому коменданту, меры приняты, и если подготовка покушения действительно имела место, то на этот раз она была пресечена, что следует из телеграммы, посланной одному из главных чинов Корпуса Жандармов генерал-майору Спиридовичу:
«Дворцовый Комендант получил Госпожи Вырубовой письмо сведениями подготовлении против нее покушения посредстве проживающей Царском Малая 50 портнихи Марии Лаврентьевой точка Генерал телеграфировал Анне Александровне просьбу изложить Вам подробности предупреждения Вас же просит лично побывать у нее негласно расследовать дело принять необходимые меры и последующем известить.
Отправлено со Ставки 14 Марта 1916 г. утром»82.
Глава 9. Серафимовское убежище-лазарет
Но вернемся к описанию той стороны характера Анны Александровны Танеевой, которая ярко раскрывает существо её души. Обратимся к тем удивительным душевным качествам, которые собственно и делали её Анной Танеевой, а не кем-либо иным. Увидим в её внутреннем облике то, что позволило ей совершить необыкновенные дела милосердия и любви, явить чудесные примеры подлинного самопожертвования, преданности, верности, которыми была богато украшена жизнь Анны Александровны и её самозабвенное, беспримерное служение своим Венценосцам. Это та сторона её натуры, которая ярко проявилась при организации лазарета для искалеченных на войне солдат.
Сама, будучи калекой, испытав все тяготы и физические, и душевные такого положения, она как никто другой понимала нужды инвалидов и со всей силой своей широкой, щедрой натуры взялась за организацию «Серафимовского убежища-лазарета». Для этой цели все деньги, выплаченные ей за увечье, она вложила в покупку земли, строительство зданий, приобретение оборудования, обучение и оплату персонала. Вот строчки ее воспоминаний, относящиеся к этому событию, которые не только отражают внешнюю сторону дела, но и раскрывают нравственные мотивы, побудившие Анну Александровну взяться за столь хлопотное и ответственное дело. «Железная дорога выдала мне за увечье 100 000 рублей. На эти деньги я основала лазарет для солдат-инвалидов, где они обучались всякому ремеслу; начали с 60 человек, а потом расширили на 100. Испытав на опыте, как тяжело быть калекой, я хотела хоть несколько облегчить их жизнь в будущем. Ведь по приезде домой на них в семьях стали бы смотреть как на лишний рот! Через год мы выпустили 200 человек мастеровых, сапожников, переплетчиков. Лазарет этот сразу удивительно пошел, но и здесь зависть людская не оставляла меня: чего только не выдумывали. Вспоминать тошно!»83.
В тот момент, когда в Петрограде кипели страсти вокруг «темных сил», «атмосфера в городе сгущалась, а слухи и клевета на Государыню стали приобретать чудовищные размеры»84, лазарет становится для Анны Александровны буквально убежищем, спасением от людской злобы, местом, где она могла восстановить свое душевное равновесие. Она, как и Государыня, находила утешение и отдохновение своей измученной душе в творении дел христианской любви и милосердия. «Единственно, где я забывалась, – это в моем лазарете, который был переполнен. Купили клочок земли и стали сооружать деревянные бараки, выписанные из Финляндии. Я часами проводила у этих новых построек. Многие жертвовали мне деньги на это доброе дело, но, как я уже писала, и здесь злоба и зависть не оставляли меня; люди думали, вероятно, что Их Величества дают мне огромные суммы на лазарет. Лично Государь мне пожертвовал 20 000. Ее Величество денег не пожертвовала, а подарила церковную утварь в походную церковь»85.
Серафимовское убежище-лазарет было названо так, как легко догадаться, в честь преп. Серафима Саровского. Это свидетельствует о том, что Анна Танеева, как и Их Величества, горячо почитала прославленного по воле Государя Божьего угодника Серафима – и в этом видится еще одно проявление их глубокого духовного родства.
Открытие убежища было приурочено Анной Александровной к роковой для нее дате – 2 января 1915 года (ст. ст.) – годовщине железнодорожной катастрофы. Ровно через год, т.е. 2 января 1916 года открывается убежище-лазарет. А еще через год – 2 января 1917 года Анна Александровна шлет телеграмму Государю Императору Николаю II, в которой тепло благодарит за подаренную убежищу икону преп. Серафима Саровского и выражает искреннюю преданность и любовь к своему Монарху. Это не могло быть простой формальностью со стороны Анны Александровны, как это может показаться кому-то. На фоне стремительно разворачивающихся грозовых событий «великой бескровной революции», начало которой было ознаменовано подлым убийством Г. Е. Распутина-Нового, в момент, когда Государь по сути оказался в изоляции, а символом этого времени явилось почти всеобщее плохо скрываемое недоброжелательство и презрение к верховной власти, трогательное изъявление верноподданнических чувств можно расценить как мужественный, самоотверженный поступок русского человека, благородного сердцем и крепкого духом. Вот эта телеграмма, отправленная на высочайший адрес 2 января 1917 года:
«Ваше Императорское Величество Сегодня в день годовщины нашего Серафимовского Убежища-Лазарета имели великое счастье получить от Вашего Императорского Величества Образ Св. Серафима Саровского за таковое Высокомилостивое внимание приносим глубокую благодарность и повергаем к стопам Вашего Императорского Величества свои верноподданнические чувства беспредельной любви и преданности.
Начальница Анна Вырубова, персонал больные и раненые»86.
С Серафимовским убежищем-лазаретом связана еще одна печальная страница жизни Анны Александровны. Может быть, потому что воспоминания о тех событиях оставались слишком тяжелы для нее даже по прошествии времени, она посвятила им лишь несколько строк в своей книге. Речь идет о похоронах убиенного Григория Ефимовича Распутина. «Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов», – пишет Анна Александровна87.
Таким образом, земля, купленная на деньги, выстраданные Анной Вырубовой своим увечьем, приняла тело еще одноro страдальца, принявшего мученическую смерть за Веру, Царя и Отечество – сибирского крестьянина-праведника Григория Ефимовича Нового (Распутина).
Юлия Александровна Ден в своих воспоминаниях рассказывает, что Анна Вырубова предложила Государыне «похоронить Распутина в центральной части часовни рядом с ее лазаретом для выздоравливающих. Часовня и лазарет строились на земле, приобретенной Анной на ее собственные средства»88.
Относительно этой часовни более подробные сведения собраны в работе С. В. Фомина «Правда о Григории Ефимовиче Распутине». Позволим себе полностью воспроизвести собранную Сергеем Владимировичем подборку информации относительно места захоронения Григория Нового (Распутина):
«Тут самое время остановиться на месте захоронения Г. Е. Распутина – «часовне», о которой пишут многие очевидцы. В действительности речь идёт о храме преподобного Серафима Саровского при Свято-Серафимовском лазарете-убежище для инвалидов войны № 79. Строился он в Царскосельском парке на земле, приобретенной А. А. Вырубовой на ее собственные средства. Убежище и храм находились на небольшой поляне в окружении высоких деревьев, на правом берегу 2-го Ламского пруда, как раз напротив Ламских конюшен. К ним вела красивая липовая аллея от Фермерского парка.
Деревянный храм строился А. А. Вырубовой в 1916-1917 гг. по проекту архитекторов С. А. Данини (1867 – 1942) и С. Ю. Сидорчука (1862 – 1925) в память избавления ее от смерти при крушении поезда 2 января 1915 года. Строительные работы вёл полковник Мальцев.
«Закладка Аниной церкви, – сообщала Императрица Государю в письме 5 ноября 1916 г., – прошла хорошо, наш Друг был там, а также славный епископ Исидор, епископ Мельхиседек и наш Батюшка…».
Через месяц с небольшим епископ Исидор (Колоколов, 1866 – 1918) отпоёт Г. Е. Распутина в Чесменской богадельне. А «наш Батюшка» – духовник Царской Семьи протоиерей Александр Васильев (1867 – 1918) – отслужит литию перед погребением старца на том же самом месте, где ещё недавно он сослужил во время закладки храма…
В честь этой самой закладки, после неё, в лазарете А. А. Вырубовой был приём. На нём сделали фотографию – последний прижизненный снимок Г. Е. Распутина. Это групповое фото за столом, попав в руки одного из убийц старца – В. М. Пуришкевича, было размножено им в количестве 9 тысяч экземпляров и распространялось в остававшиеся до преступления дни с соответствующими, извращающими смысл запечатленного на снимке комментариями.
«Среда 21-го декабря, – записала в своём дневнике 1916 г. Великая княжна Ольга Николаевна. – В 9 ч. мы и Папа и Мама поехали к месту Аниной постройки, где была отслужена лития и похоронен Отец Григорий в левой стороне будущей церкви. Спаси Боже Святый».
По некоторым сведениям, со временем здесь предполагалось учреждение скита или даже небольшого монастыря: «…21 марта 1917 г. в день рождения старца собирались закладывать монастырь по проекту архитектора Зверева»» (ссылки на соответствующие источники указаны в цитируемой работе С. Фомина)89.
Для пациентов лазарета Анна Вырубова была родной матерью. Она так и называет себя в письме к Ф. С. Войно: «Я ваша мама». Доказательством того, что это не пустые слова, пусть послужат воспоминания русского офицера И. В. Степанова, который после ранения на фронте проходил излечение в Царскосельском госпитале.
Его впечатления помогают прочувствовать ту атмосферу, которая царила и в Серафимовском убежище-лазарете, и те отношения, которые сложились между ранеными солдатами и начальницей лазарета Анной Вырубовой. Не будем смущаться тем, что эти воспоминания относятся к чуть более раннему периоду жизни Анны Вырубовой – периоду до роковой железнодорожной катастрофы, когда Анна Александровна была вполне здорова и, возможно, еще не помышляла о создании лазарета. Несомненно, что понесенное вскоре увечье, тяжелейшие физические страдания, перенесенные ею, помогли ей глубже понять и ощутить чужую боль. В ее душе ярче вспыхнуло чувство сострадания, материнской любви к страждущим и трогательной заботы о них.
Но обратимся к И. В. Степанову, который в простых, бесхитростных словах высоко оценил качества золотого сердца русской женщины: милосердие, доброту, отзывчивость на всякую просьбу.
«Меня переносят в палату № 4, где лежат два офицера. Молодая сестра с простоватым румяным лицом и большими красивыми глазами подходит ко мне. С первых же слов я чувствую к ней искреннюю симпатию. Славная деревенская баба. Веселая, болтливая. Она стелет мне простыни и вместе с санитаром переносит на мягкую кровать. Укладывая, все спрашивает, не больно ли? Понемногу осваиваюсь. С ней так легко говорить.
– Сестрица, мне бы хотелось помыться, почистить зубы
– Сейчас все принесу. Обещайте, что Вы мне будете говорить все, что Вам нужно. Не будете стесняться?
– Что вы, сестрица, с Вами не буду.
Но я знаю, что здесь придворная обстановка. Вероятно, все люди этикета. И мне радостно, что будет хоть один человек, с которым я не буду конфузиться.
– Теперь будем вас кормить. Что Вы хотите: чай, молоко?
– Сестрица, спасибо. Я ничего не хочу. Мне так хорошо.
– И заслужили. Что Вы о своих не подумали? Хотите я протелефонирую?
– Потом. Петрограда из Царского не добиться. Я лучше напишу телеграмму.
Сестра приносит бумагу. Пишу. Она стоит, улыбается. Как-то сразу полюбил ее. Редко видел людей, столь располагающих к себе с первого знакомства. Кто она? Сиделка простая?
– Давайте, я пошлю санитара на телеграф.
– Спасибо, сестрица.
Хочется как-то особенно поблагодарить и не нахожу слов. В комнату ежеминутно заходят дамы в белом. Расспрашиваю соседей. Мне называют фамилии: графиня Рейшах-Рит, Добровольская, Чеботарева, Вильчковская… Все мне знакомые. Привык читать в свите Императрицы: фрейлина Гендрикова, фрейлина Буксгевден, гофлектриса Шнейдер и госпожа Вырубова. Эта «госпожа Вырубова» (она не имела ни звания, ни должности) меня всегда особенно интересовала. Столько про нее говорили. Она ведь неразлучна с Императрицей… Мне говорили: интриганка, темная сила, злой демон…
– Вы не слышали здесь фамилию Вырубовой?
– Анна Александровна? Да ведь она все утро тут с Вами провозилась и теперь ушла с телеграммами…
Вырубова всегда приезжала и уезжала в автомобиле с Высочайшими особами. В палаты она заходила одна, когда никого из них не было. Каждого подробно обо всем расспрашивала. Очень смешила нас всякими пустяками. Всегда в прекрасном настроении. Ее добродушие и сердечность как-то вызывали просьбы. И с какими только просьбами к ней не обращались! Сколько вспомоществований, стипендий, пенсий было получено благодаря ей. Она ничего не забывала, все выслушивала и через несколько дней радостно сообщала всегда благополучные результаты. От благодарности отказывалась.
– Я же тут ни причём. Благодарите Её Величество»90.
Щедро раздариваемое добро и любовь сторицей вернулись к Анне Александровне. Долг платежом красен, а русский человек добро помнит. И не раз, и не два ласка, забота и участие, проявленные ею по отношению к простому солдату-инвалиду, были помянуты в тяжелейшие минуты ее жизни теми же – простыми русскими солдатами, которые бесхитростно, как могли, отплатили ей за добро, защищая ее от поругания, а может быть, и от смерти. Пусть об этом скажет сама Анна Танеева.
«Но что впоследствии, может быть, не раз мои милые инвалиды спасали мне жизнь во время революции, показывает, что все же есть люди, которые помнят добро…
Заботы обо мне моих раненых не оставляли меня и располагали ко мне сердца солдат. Самым неожиданным образом я получала поклоны и пожелания от них через караул. Раз как-то пришел караульный начальник с известием, что привез мне поклон из Выборга «от вашего раненого Сашки», которому фугасом оторвало обе руки и изуродовало лицо. Он с двумя товарищами чуть не разнес редакцию газеты, требуя поместить письмо, что они возмущены вашим арестом. Если бы вы знали, как Сашка плачет!». Караульный начальник пожал мне руку. Другие солдаты одобрительно слушали, и в тот день никто не оскорблял меня.
Другой раз, во время прогулки, подходит часовой к надзирательнице и спрашивает разрешения поговорить со мной. Я испугалась, когда вспомнила его рябое лицо и как он, в одну из первых прогулок, оскорблял меня, называя всякими гадкими именами. «Я, – говорит, – хочу просить тебя меня простить, что, не зная, смеялся над тобой и ругался. Ездил я в отпуск в Саратовскую губернию. Вхожу в избу своего зятя и вижу на стене под образами твоя карточка. Я ахнул. Как это у тебя Вырубова, такая-сякая… А он как ударит по столу кулаком: «Молчи, – говорит, – ты не знаешь, что говоришь, она была мне матерью два года», да и стал хвалить и рассказывать, что у вас в лазарете, как в царстве небесном, и сказал, что если увижу, передал бы от него поклон; что он молится и вся семья молится за меня». Надзирательница прослезилась, а я ушла в мрак и холод тюрьмы, переживая каждое словечко с благодарностью Богу.
Позже я узнала, что Царскосельский совет постановил отдать моему учреждению весь Федоровский городок, то есть пять каменных домов. Раненые ездили повсюду хлопотать, подавали прошение в Петроградский центральный совет, служили молебны; ни один из служащих не ушел. Все эти солдаты, которые окружали меня, были как большие дети, которых научили плохим шалостям. Душа же русского солдата чудная. Последнее время моего заключения они иногда запирали двери и час или два заставляли меня рисовать. Я тогда хорошо делала наброски карандашом и рисовала их портреты. Но в это же время происходили постоянные ссоры, драки и восстания, и мы никогда не знали, что может случиться через час»91.
Эта взаимная любовь Анны Александровны и русских солдат говорит о многом, помогает раскрыть всю особенную неповторимость и глубину русского характера. Это пример удивительного проявления не только кровного родства единоплеменников, но родства духовного, единого устроения души, единого духовного начала у русской барыни, высокопоставленной особы и у простых русских людей – начала, перед которым устраняются, исчезают, становятся ни во что все сословные, классовые и прочие различия.
Недостаток этого начала у многих представителей светской знати и образованной столичной интеллигенции вследствие оторванности их от животворного древа народной жизни явился причиной того легковерия, с каким была подхвачена разнузданная клевета и травля русского крестьянина Григория Ефимовича Нового (Распутина). Родовая надменность и высокомерие не позволили многим из этих господ усомниться в истинности невероятного нагромождения пороков, приписываемых русскому крестьянину, который волею судьбы и трагических обстоятельств болезни Наследника был приближен к Царской Семье. Эти господа, зачастую сами исполненные всяких пороков и гордыни, не пожелали убедиться в очевидной несостоятельности всех обвинений, подло и намеренно выдвигаемых тайными руководителями заговора против Русского Престола и Русского Народа. Но то, чего не хватало высокопоставленным спесивцам, по-прежнему (благодарение Богу!) обильно процветало в крестьянской, христианской душе простого русского человека. Вспомним, что после железнодорожной катастрофы во время многочасового, беспомощного лежания умирающей Анны Вырубовой в сторожке именно шинель простого солдата все это время укрывала ее от холода, а солдатские руки держали ее голову на солдатских коленях, а солдатская молитва и ласка помогала ей переносить страдания. Разве не являются эти отношения проявлением святого русского идеала? О, если бы всегда так было на Руси, разве смогли бы враги Русского Народа вбить клин вражды между разными членами единого, живого народного тела? Эта солдатская любовь и дружба является для Анны Танеевой лучшей наградой и благодарностью от русских людей.